Книга: Рождение сына
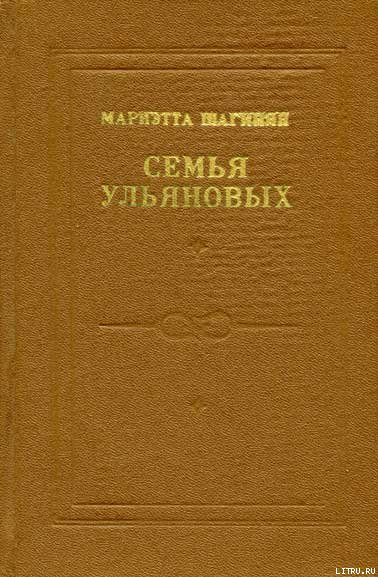
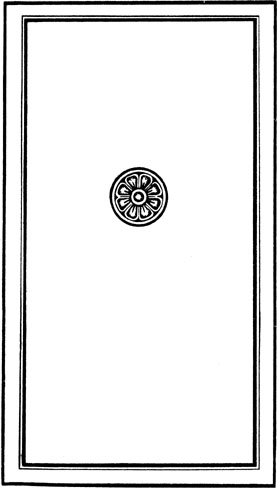
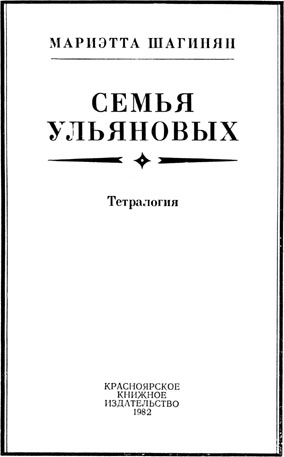
РОЖДЕНИЕ СЫНА
Роман-хроника
Припомним основные черты крестьянской реформы 61-го года. Пресловутое «освобождение» было бессовестнейшим грабежом крестьян, было рядом насилий и сплошным надругательством над ними. По случаю «освобождения» от крестьянской земли отрезали в черноземных губерниях свыше 1/5 части. В некоторых губерниях отрезали, отняли у крестьян до 1/3 и даже до 2/5 крестьянской земли. По случаю «освобождения» крестьянские земли отмежевывали от помещичьих так, что крестьяне переселялись на «песочек», а помещичьи земли клинком вгонялись в крестьянские, чтобы легче было благородным дворянам кабалить крестьян и сдавать им землю за ростовщические цены. По случаю «освобождения» крестьян заставили «выкупать» их собственные земли, причем содрали вдвое и втрое выше действительной цены на землю. Вся вообще «эпоха реформ» 60-х годов оставила крестьянина нищим, забитым, темным, подчиненным помещикам-крепостникам и в суде, и в управлении, и в школе, и в земстве.
Жить — значит… чувствовать непрестанно новое, которое бы напоминало, что мы живем… Ничто так не стесняет сего потока, как невежество; мертвою, прямою дорогою провожает оно жизнь от колыбели к могиле. Еще в низкой доле изнурительные труды необходимости, мешаясь с отдохновением, услаждают ум земледельца, ремесленника; но вы, которых существование несправедливый случай обратил в тяжелый налог другим, вы, которых ум отупел и чувство заглохло, вы не наслаждаетесь жизнью. Для вас мертва природа, чужды красоты поэзии, лишена прелести и великолепия архитектура, незанимательна история веков.
ВСТРЕЧА В ПЕНЗЕ
В полдень 23 ноября 1861 года в большом зале Пензенского дворянского института служители сдвигали стулья к ежегодному акту. Институт был в новом здании, построенном всего какой-нибудь десяток лет назад. Но уже успели, за недостатком средств на покраску, обветшать и потемнеть его стены. И зал, выходивший окнами на передний двор, в этот снежный денек тоже выглядел сумрачным с его облупленными кариатидами, подпиравшими давно не беленный потолок. На стене зала висел огромный портрет Александра Второго, и еще молодое холерическое немецкое лицо с косо срезанным лбом, трижды перекрученным пухлым усом недоуменно вскидывало под потолок свои выпуклые, водянистые глаза моржа. Наверху, в третьем этаже, где были дортуары, одевались к празднику воспитанники и острили по поводу темы предстоящей торжественной речи: о грозе и громоотводах.
С торжественными речами институту вообще не везло. Преподаватель Ауновский, к примеру, представил было патриотическое сочинение «о месторождениях каменного угля в России», но получил от округа пожелание «употребить свое время и силы на работу более совершенную».
— В нашей губернии и без угля жарко, — комментировали воспитанники, намекая на пензенские крестьянские восстания, усмиренные только в апреле.
А в прошлом году словесник Логинов выступил с самой эзоповской речью, говорил примерами из Кантемира и Фонвизина о нравах далекого прошлого и даже кончил фигурой риторики — «возблагодарим вседержителя за то, что живем не в старые времена», — но фигура эта не спасла Логинова: дворянство выставило его из института за клевету, а Казани и педагогическому совету влетело.
Воспитанники это знали и, застегивая высокие расшитые воротнички своих мундиров, смеялись, как бы не вышло чего и с милейшим физиком: тема о грозе тоже скользкая, хотя бы и с громоотводом…
Гости опаздывали. Но все приедут: и губернский предводитель, и губернатор, и стяжавший позорную славу усмиритель кандеевских крестьян генерал Дренякин, и купечество, и архиерей, и дамы-патронессы. Дворянский институт не гимназия, и хотя весь он в долгу, — в долг кормит воспитанников, задолжал учителям, а папаши-дворяне упорно отказываются его содержать; хотя нищета и бестолочь в финансах этого учереждения надоели всем в городе, — все же в словах «дворянский институт» есть что-то такое… Даже сторож в сенях чувствует это, открывая парадные двери.
Воспитанники института позволяли себе вольности, невозможные для гимназистов. Несколько лет назад один из них, Вася Слепцов, во время церковного служения в храме, когда священник с амвона читал «Верую», громко и ясно, на всю церковь сказал: «А я не верую». И сейчас среди этих мальчиков, небрежных в прическе и движениях, плохо дисциплинированных, развязных и начитанных, было немало поклонников пострадавшего за неверие Слепцова. Портрет царя в зале не помешал вырасти тому, кто через пять лет первым поднимет руку на Александра Второго, — воспитаннику Каракозову.
— Идемте, господа, сейчас молебен!
Воспитанники гурьбой стали спускаться с третьего этажа на второй.
В эту минуту показался в воротах старший учитель физики, тот самый, чью речь о грозе и громоотводе должны были слушать на акте. Быстрый в движениях, весь осыпанный снегом, он сперва забежал направо, где перед флигелем, на заснеженной горке, стояла рейка его метеорологической станции. Подошел и к стене взглянуть на реомюр, вывешенный под защитой деревянной планочки от ветра. И, раздеваясь, торопливо спросил у швейцара, не забыл ли младший надзиратель записать утренние показатели. Швейцар принял с его плеч шинель, отряхнул ее в стороне и густым шепотом ответил ему. Он гордился, как чином, сложным искусством надсмотра над самой погодой и тем, что обсуждает его с господином педагогом, как равный с равным.
Учитель физики остановился перед большим трюмо, вынул из кармана длиннейшего сюртука сложенный вчетверо носовой платок и, не разворачивая, а наоборот, за комкав рукой, несколько раз быстро-быстро обсушил им мокрые от снега глаза и губы. Он был невысок ростом и бледен той белизной меловатого оттенка, что говорит о сильном душевном волнении. С высокого овального лба его, как у поэта или музыканта, спускались вдоль щек прямые темные волосы, длинные по моде тех лет. И хотя физик был еще очень молод — ему недавно исполнилось тридцать, — и молодо блестели его карие добрые глаза, но волосы у него на макушке уже поредели, грозя преждевременной лысинкой. Он заспешил в зал, на ходу пряча в карман платок.
Длинный стол, крытый сукном, с бронзовыми канделябрами, мягкие кресла, а в них туши с орденскими лентами через плечо, шепот в задних рядах, и третий ряд, — в третьем ряду сидят дамы: жена директора института, жена инспектора института… Старший учитель физики, только что поднявшийся на трибуну, увидел рядом с женой инспектора Веретенникова, добрейшей Анной Александровной, незнакомую девушку.
«В первый раз мне выпало на долю говорить перед вами, милостивые государи, говорить о предмете, мною изучаемом, — говорить о природе».
Учитель физики картавил. И это шло к его крупному, калмыцкого рисунка, рту, к его бледным щекам, чуть приподнятым резкими косточками стул. Говоря, он положил руку за борт сюртука и слегка покачивался над белым листом рукописи.
— Но quand même[1] в нем, есть, — шепотом определила старуха с лорнеткой (словцо, подслушанное примерно в те самые годы графом Львом Толстым у таких же женщин).
«…Молнии разделяют на три класса. Пелетье объясняет… Доктор Гук говорит… Де ля Рив делает интересное сравнение…»
В президиуме были совершенно довольны. Первый ряд, где сидели отцы города, успокоенно следил за оратором. Высокий мир — мир чистой науки, — высота неба, где в сгущении паров рождается электрическая разрядка, и шум этой чудовищной встречи двух полюсов в облаках, гром, как его называют люди, иностранные имена ученых — все это было доброкачественно-академично.
«Берман уверяет…»
Но здесь оратор допустил, как говорится, маленький «ляпсус»:
«В Швейцарии, где зарницы, то есть безгромные молнии, очень обыкновенны, сельские жители называют их ячменными молниями, потому что они чаще всего случаются в августе, когда поспевает ячмень… и у нас в деревнях, — оратор оживился и улыбнулся, даже отступил на секунду от кафедры, словно урок давал, — у нас в деревнях говорят, что зарница происходит от созревания ржи».
Он еще раз взглянул на незнакомую девушку. Кто она? Кем доводится Ивану Дмитриевичу?
«…Но куда бы ни упала молния, она стремится преимущественно к проводникам и металлам. Может случиться, что молния действует на один только металл, а окружающие его тела остаются без повреждения. В пример этому приводят рассказ о двух дамах, из которых одна, имея на руке золотой браслет, протянула из окна руку во время грозы; в это мгновение ударила молния, и браслет исчез так, что не нашли никаких следов, а дама чувствовала небольшое сотрясение. У другой дамы одна только шляпа была превращена в пепел, потому что состояла из тонкой проволоки, на которой держалась материя».
Старшего учителя физики очень любили в институте. Речь его живо объясняла сухой предмет, давала простое, толковое знание о молнии и громе, и на много лет, если не на всю жизнь, то, кто слышал эту речь, остались грамотными по части грозы. Специалисты знали, как хорошо и глубоко подготовился физик, и вполне оценили его начитанность, знакомство с самоновейшими источниками, каким был, например, Де ля Рив, еще не переведенный в России с французского…
Но в зале нашлись критиканы. Учитель словесности Захаров явно соскучился, он вспомнил острую речь Логинова. Ученик Странден вертелся и писал записки. В записках стояло: «Молния сжигает металлы, а чурбаны целы». Васильев, выпускник и хороший рисовальщик, быстро кончал зарисовку в альбом: оратор с длинными, по разночинной моде, волосами, начесанными на уши, с поределой макушкой, заложив руку за борт, а ногу за ногу, был представлен в виде зигзага молнии, тщетно бьющего в первый ряд, где, развалясь, сидел чурбаноподобный губернатор. Он уже начал подписывать внизу: «Илья-пророк». Из-за плеча смотрели, шептали: «Покажи, покажи»; спереди грозно шикнули.
А учитель физики увлекся. Бледные щеки его затлели на скулах розовыми пятнышками. Он описывал устройство громоотвода. Всякие механизмы, дававшие власть над материей, всегда занимали его. Еще недавно, получив от милейшего Осипа Антоновича Больцани, из мастерской Казанского университета, свою метеорологическую аппаратуру, бывшую там в починке, поминал он добром этого, замечательного ученого-опытника… Чего, чего только не изобретает Больцани у себя в мастерской!
«…Вот как Академия предлагает устраивать громоотводы…»
Делая пояснительные жесты, словно отмеривая размеры железного прута, физик вдруг преобразился в педагога, желающего не речь сказать, а передать нужные, практические знания:
«Вообще предполагают, что громоотвод может защитить круглое пространство, описанное радиусом, равным двойной высоте громоотвода, и применяют это правило на практике, причем один и тот же проводник может служить для нескольких громоотводов, лишь бы эти последние имели между собой металлическое соединение. Но это правило не совершенно верно, потому что многое зависит от формы конца громоотвода и от вещества, из которого сделано здание. Итак, наука дает человеку средства оградить себя от ударов молнии, борется с предрассудками и побеждает их самыми неопровержимыми доказательствами — фактами!»
Речь кончилась, занявши времени ровно столько, чтобы не утомить.
Ноябрьский день отходил за окном; институтский сторож, в мягких туфлях незамеченно скользя по залу, длинной палкой с привязанным на конце ее горящим огарком одну за другой зажигал свечи в люстрах. Быстрые чьи-то пальцы пробежали, пробуя, по клавишам — вечером будут танцы.
Учитель, наклонившись к кафедре, собирал свои листки, когда к нему подошли две женщины. Одна вела, немного принуждая и таща за собой другую, ступавшую медленно и улыбаясь. Обе они были одеты по моде — в тяжелые пышные платья с турнюром, собранные в складки у талии, с небольшим треном, шуршавшим за ними. Волосы у обеих были зачесаны гладко со лба и разбиты низким, пышным, широким узлом на затылке, в форме груши, спрятанной в сетку. Одна была Анна Александровна Веретенникова, другая — незнакомая девушка, замеченная учителем с кафедры.
— Илья Николаевич! Спасибо, спасибо вам за прекрасную речь, за ячмень, вы прямо неузнаваемы сделались, когда про ячмень сказали! Мы ведь с сестрой деревенские. Машенька, Илья Николаевич Ульянов. Илья Николаевич, будьте знакомы — сестра моя, Мария Александровна Бланк.
И две руки, одна небольшая, другая совсем маленькая, встретились и пожали друг друга. Но ответить физик не успел: мимо них, охорашивая усы рукой, шел пензенский предводитель.
— Безгромные зорюшки… Нашли выражение! Вы в своей ученой отрешенности, как в башне засели, господин Ульянов! Поглядели бы, какие у нас там аржаные зарницы полыхают!
Хотя Пензенская губерния была усмирена, но и в ней и в Казанской стояли военные части, среди крестьян шло брожение, и память о событиях была так свежа, как если б это вчера было. Да и каждый день прибавлял к ним все новое и новое — то суд над казанцами, то награждение усмирителя, графа Апраксина, то волнение студентов, то опять бунты в соседних губерниях, приезды из имений перепуганных помещиков, чтение писем, ходивших из рук в руки… Вышло так, что и на торжественном директорском обеде за первой же рюмкой «аполитичная» речь физика клином вошла в политику, и гости принялись отводить душу, благо и губернатор с предводителем и генерал Дренякин тотчас после акта уехали домой.
— Разве же можно было на Волге, в Пугачевых местах, оглашать манифест? И перед кем? Перед «ярманкой», перед симбирскими инородцами, потомками пугачевских бунтарей!
— Но государь и так медлил, помилуйте, — подписал девятнадцатого февраля, а публикацию сделали только в марте месяце…
— Да нет, не в том дело, знаете вы, как все это спустя рукава сделано было? Помилуйте, двадцать три миллиона крепостных, двадцать три миллиона темных голов с бреднями о какой-то якобы полной воле, о царевом указе, вписанном в голубиную книгу, толкуемом в скитах всякими отшельниками и расстригами, — сюда бы свету, толковых людей, наконец две-три сотни тысяч печатных оттисков манифеста, а что сделали в Петербурге? Выпустили «Положение» на разных листах, да еще разрозненно, перепутали даже губернии — в черноземные пошло то, что имело касательство к степной полосе; какую же пищу это дало злонамеренным!
— А манифест отпечатали чуть не в десятках! Народ ответил своей легендой: что настоящий указ подменили, настоящий указ помещики украли, а этот — обманный. Стеной ставить между монархом и нашим дворянством бюрократию, питать эту бюрократию соками нашего сословия, выплачивать ей из казны чудовищные деньги и получать от нее вот этакую бездарную работу, ниже качеством старых писарей и ратманов, — допустимо ли? Куда заведет?
— Поспешил государь с манифестом…
— Ах, оставьте, напротив того — чересчур помедлил. Нельзя было, сказавши А, медлить с Б, допускать брожение в народе… Нужно учесть было положение дворянства в наших губерниях! Шутка сказать: пережить в просвещенный век ужасы Бездны и пензенскую Кандеевку… Есть от чего с ума сойти, как сошли с ума у несчастных Веригиных.
Бездна, деревня Казанской губернии, стала центром недавних больших событий. О том, что в народе брожение, знали не только в деревне, знали и горожане. Все города были переполнены оброчными, служившими в дворниках, приказчиках, ездившими в извозчиках. Очевидцы рассказывали, как при первом городском слухе о том, что «вышел указ», в Петербурге остановилось движение, извозчики, побросав лошадей, кинулись в лавки, а там уже толпились люди всех профессий и видов — от нарядного, в крахмальном воротничке, актера до рыночного торговца сбитнем, и все они — врачи, художники, ремесленники, сермяжники, такая обычная городская публика, — тут, в лавке, вдруг оказались не просто людьми, как все в городе, а чьими-то «душами», собственностью таких-то и таких-то «господ». Все нарасхват брали и требовали царский указ про волю.
Но если в городе еще можно было бежать в книжную лавку, то в деревне узнать про указ решительно было не у кого. И вот бездненцы в глухих раскольничьих скитах, среди дремучих лесов, нашли себе вожака, человека, пустившегося толковать и объяснить им волю, — толковать так, как того хотели сами крестьяне. Из Антона Петрова, бездненского вождя, Пугачева не вышло. Антон Петров был начетчик, прослывший за свою жизнь в скиту божьим пророком. Было что-то глубоко и потрясающе сильное в этом человеке, вычитывавшем по складам, жарко припав к книге и ведя по ней пальцем, запутанные глаголы о полной воле — воле с землей и со всем барским Добром на ней. Бунт охватил три губернии. Мужики шли в Бездну, вооруженные чем попало, вступали в отряды, громили усадьбы. Антон Петров руководил ими. Когда стало слышно, что идут солдаты, Бездна кликнула клич к трем губерниям, и десять тысяч крестьян, с бабами, детьми и добром, на телегах съехались отстоять Петрова. Залегли лагерем вокруг избы, где спрятался пророк, и выдержали настоящую осаду.
Бездненская история в главных ее подробностях была известна далеко не всем. Кое-кто, впрочем, читал о ней даже в запретных тетрадках «The Bell» — герценовского «Колокола», но были такие, что попросту затыкали уши и ничего слышать не хотели про этот последний, как они говорили, позор русский. В том же году неизвестный аноним из их круга писал Чернышевскому, что в русском народе есть, конечно, «человекоподобное нечто», но за развитие его нужно взяться «умно, практично, без нежностей, а нежностей ваших они не поймут, наплюют на вас и найдут себе другого Антона Петрова, о котором так искренне сожалеет ваша хамская натура».
— Вы знаете, какое у них было смешное представление о трех залпах?
— Господа, господа, меняем тему, точка, еще по маленькой!
— Нет, я слушаю, скажите, что три залпа?
— Войска обычно стреляют при усмирении три раза вхолостую для острастки. Из этого мужик вывел, что больше трех раз стрелять не повелено. И представьте огромную толпу вповалку вокруг пророка — на телегах, на изгородях, на крышах, на земле — в полнейшем спокойствии. В них, наконец, стреляют, а они все надеются переждать свои три раза, закрываются рукавицами и кричат: «Воля!»
— Это правда, что было свыше трехсот раненых и убитых?
— Вранье!
— Нет, сударь, не вранье! Поболее трехсот!
— А мне сказывали, что, когда Антона Петрова казнили, один солдат в обморок упал.
Антона Петрова вывели из избы в рубахе, простоволосого. Он шел со свечкой в руке, не озираясь, и громко, торопливо молился, ежеминутно, без надобности, снимая пальцем нагар со свечи. Волосы его падали чуть не до плеч, ноги были босы. Солдаты целили в него, жмурясь, и все слышали молитвенное бормотание, пока не грянул залп.
— Бросьте вы жантильничать. Вспомните пензенского Егорцева. Мало ли таких «пророков»! Штыки, штыки — вот им что надо! На пророков этих любители мутной воды, свистуны в «Современнике», подлецы всякие ставку ставят!
Совсем расклеился разговор. «Подлецы» покоробило даже ухо директора. Но «свистуны» — слово, выхваченное у Герцена, назвавшего так писателей в отделе «Свисток» в «Современнике», — и скрытое в речи указание на недавнюю подметную прокламацию — это было уж слишком! Директор насупился, растерянно ковырнул рыбу в тарелке.
Между тем богатый пензенский купец, известный своей слабостью по части всяких новшеств, хотя и ходивший у себя дома в поддевке и смазных сапогах, подсел с бока лом к Илье Николаевичу, Он выспрашивал его, кто в здешнем крае мог бы научно и без изъяна воздвигнуть громоотвод. Ему хотелось первому в губернии поставить громоотвод над своими складами.
А в самом отдаленном углу, где закуска и вина были попроще, беседа велась шепотком. Кто-то показывал ста рое, полученное из Казани письмо «очевидца», где приводились слова Щапова, сказанные им в апреле на знаменитой панихиде по мученикам Бездны. Что казанский профессор русской истории, Афанасий Прокопьевич Щапов, произнес на этой панихиде смелую речь против правительства, знали все. Но тут аккуратно переписанные, заключенные в кавычки, стояли его доподлинные слова, обращенные к убитым бездненцам, и от смелости этих слов просто дыхание перехватывало.
«Вы первые нарушили наш сон, разрушили… наше несправедливое сомнение, будто народ наш не способен к инициативе политических движений, — так говорил Щапов. — Земля, которую вы возделывали, плодами которой питали нас, которую теперь желали приобрести в собственность и которая приняла вас мучениками в свои недра, — эта земля воззовет народ к восстанию и свободе. Мир праху вашему и вечная историческая память вашему самоотверженному подвигу! Да здравствует демократическая конституция!..»
— Молодец Щапов! — забыв осторожность, воскликнул Захаров.
— Он приглашен был в прошлом году читать лекции по русской истории, — услышав фамилию Щапова, отозвался со своего места Илья Николаевич, не терявший связи с казанцами. — Говорят, украшение кафедры!
И хотя то, о чем шептались в углу, уже потухло, разговор о Щапове, как огонек по сухим веточкам, быстро перекинулся и побежал вокруг стола.
ЗЕМЛЯ И ЗВЕЗДЫ
Торжественный актовый обед был окончен, задвигались стулья. Но праздник еще не прошел. Этому дню по правилу предстояло завершиться бостоном для стариков и музыкой для молодежи в квартире инспектора Ивана Дмитриевича Веретенникова, но уже только между своими — меж педагогами и их женами.
Инспектор Иван Дмитриевич Веретенников — новый человек в Пензе, только три месяца назад перевелся сюда из Самары, а уже все его знали и знали его семью, привыкли к его жене, ее голосу, грубоватым чертам лица и такой милой, сварливой манере подходить к человеку. Анна Александровна была романтик и прирожденный рассказчик, какие случаются в семьях, и знакомые без конца советуют: «Да вы бы записывали, да это хоть сейчас в печать». Она и записывала в тетрадку по секрету ото всех, но ее сочный и складный русский язык, ее начитанность и вкус к людям так и остались безвестными в жизни.
Вечера у них были сплошное удовольствие. Нянечка уложит детей, дети уснут, и хозяйка вся в хлопотах, вся в гостях, а сегодня еще прибавилось вдобавок, что свояченица инспектора, приехавшая по первопутку из-под Казани зимовать у них в городе, что эта свояченица — диво-певица и музыкантша. Красива она была — это уже заметили. Лучше и тоньше самой Веретенниковой, темноволоса, темноглаза, держалась и не застенчиво и не развязно; холостые учителя прослышали, кстати, что тут есть нечто вроде своей деревни или какой-то части деревни, — словом, не одно только платье да серьги в ушах. Но день был решительно заколдован, и, прежде чем начаться удовольствию, опять вспыхнул разговор — вспыхнул ни с того ни с сего, как в засуху самовозгорается без искры валежник.
В небольшой комнате, меблированной казенной мебелью, у Веретенниковых стоял круглый стол под турецкой шалью, и на нем книги, большею частью из институтской, довольно хорошей, библиотеки. Анна Александровна любительница была и прозы и поэзии. Илья Николаевич сперва молчаливо прошелся по этой комнате, где еще не начали ни в карты играть, ни музицировать, ни танцевать, а потом, облокотись на стол и не присаживаясь, стал листать первое, что попалось под руку, и спросил невольно:
— Как мы ни далеки от столицы, а все же, Иван Дмитриевич, недозволительно так запаздывать в чтении журналов. Помилуйте, что ж это у вас за новинка? «Русский вестник» за прошлый год, «Отечественные записки» за прошлый год…
— Это не я, это жена… — отозвался Веретенников, занятый подсчетом карточных колод, — мне и времени нет, Илья Николаевич.
— Ах, дайте мне эти книги!
— Но почему же?
— Секрет, Илья Николаевич, дайте, дайте!
Заинтересованный физик шутя задержал объемистый «Русский вестник». Анна Александровна, раскрасневшись, вырвала у него более тонкую книжечку «Отечественных записок». Она кокетничала и секрет преувеличивала. Невольно, без уговору, с какой-то обоюдной симпатией учитель физики и сестра инспекторши вскинули глаза друг на друга, словно поделились мыслью.
— Смеяться нечего, — перехватила их взгляд Веретенникова. — Машенька, стыдно тебе, сама же взасос читаешь, вот не дам продолжение, и сиди без книг.
Секрет был в новинке любимой писательницы, многими ставившейся чуть не наряду с Жорж Занд, — англичанки Джордж Элиот. Ее роман «Адам Бид» печатался в прошлом году в «Отечественных записках», и обе сестры поплакали над ним. Но что же было интересного в старом номере «Русского вестника»? Неужели этот дрянной, пошлейший, сентиментальный, судя по отдельным строчкам, переводный роман «Жизнь за жизнь»?
— Нет, он совсем неинтересен, — негромко сказала Мария Александровна, — да и мы с ней давно прочитали обе книжки, она дразнит вас.
И Мария Александровна взяла у сестры «Отечественные записки» и передала их учителю.
Опустив глаза, он все листал и листал книгу, уже не глядя. Но девушка отошла. И мало-помалу — тут одна строчка, там другая — «Отечественные записки» оттянули его от гостей, и он стал читать всерьез. Его привлек отдел рецензий. Краевский умеет составить отдел рецензий — лучшее, кажется, что у него есть. Целые полки новинок проходят перед глазами, разобранные толково, честно, с примерным остроумием, с насмешкой, где это нужно: вот несчастный какой-то Росновский, что от него осталось? Отповедь, достойная пера Добролюбова. А вот разбор Адама Смита, грамотно, специально. А это что?.. Он зачитался рецензией. Он знал немецкий язык не больше чем в объеме гимназии, но читал на нем, рецензия же была о немецкой книге. Физик забыл, что дал себе слово отдохнуть и этот день, глаза его разгорелись, маленький, нервный, он весь ушел в необычные строки… Как эго никто не заметил? Ах, это прекрасно, это до странности хорошо.
— Господа, господа, слушайте!
На голос Ильи Николаевича встал учитель Захаров, пробовавший одним пальцем какую-то новую пьесу на роялино. Опять поднял голову Веретенников. Подбежал быстрый, щуплый естественник Ауновский в пенсне. Подошли женщины. А он все стоял, повторяя: «Как хорошо», — и сам хорошел от удовольствия.
Заметку прочитал вслух Ауновский, а Илья Николаевич, поддакивая, дирижировал общим вниманием. И в самом деле, заметка была интересна. Можно бы рассказать ее своими словами, но пусть уж лежит она вся, как читана: «Die Sterne und Erde»,[2] Leipzig, 1859.
Эта книжка имела странную судьбу. В 1846 году вышла в Бреславле, без имени автора, брошюра «Созвездия и всемирная история» («Die Gestirne und die Weltgeschichte»). Никто на нее не обратил особого внимания, но она случайно попала в Лондон, и там книгопродавец Вальер издал ее перевод на английский язык, не показав, впрочем, нигде, что это перевод. На берегах Темзы книга имела неожиданный успех. Шесть изданий, от десяти до двенадцати тысяч экземпляров в каждом, было раскуплено. Этот успех обратил внимание немецкого переводчика Фойгте Рэпа, который в полном убеждении, что перед ним оригинальное произведение христианского мышления, перевел немецкую книгу с английского языка опять на немецкий и напечатал под заглавием, которое мы привели выше. Тогда сделалось известно и самое имя ее настоящего автора — Эберти. Посмотрим же вкратце содержание книги.
Автор выходит из положения, что небесные тела видимы нам не так, как они в самом деле есть, но так, как они были за несколько часов, лет, веков или тысячелетий, смотря по их расстоянию от Земли. Отсюда следует, что обитатели этих небесных тел видят Землю в разные эпохи ее истории. Зритель, помещенный на звезде двенадцатой величины, увидел бы Землю во времена Авраама. Если он может в короткое время, например в час, перейти оттуда на наше Солнце, то перед ним в этот час пройдет вся человеческая история земного полушария, к нему обращенного. Другая мысль автора состоит в следующем: если б скорость движения Земли вокруг Солнца удвоилась, то мы бы не заметили изменения. То же самое произошло бы, если бы первое увеличилось, а второе уменьшилось в четыре раза, в тысячу, в миллион и более раз, но одинаково, — поэтому мы можем представить себе всю историю, сжатую в неизмеримо малый промежуток времени, и это изменение могло бы остаться для нас незаметным. Подобным же образом автор находит возможным представить себе сокращение всех расстояний и мер, нами употребляемых. Этим путем автор приходит к мысли, что можно себе представить мир вне всякого пространства, времени и получить ясное понятие о его создании. Не мудрено, что Германия, давно привыкшая к фантазиям получше Эберти, не обратила внимания на эту брошюру, но трудно себе представить, как она могла иметь такой огромный успех в практической Англии.
Но дав другим высказаться, физик взял себе первое слово. Мысли Эберти, правда, чистейшая спекуляция, но все же это гениальные фантазии близкой ему сферы, и он только что, днем, побывал в этой сфере, правда совсем низко, в подвальном этаже, в земной атмосфере. Он заговорил об астрономических расстояниях, о том, как далеки от нас звезды и в чем остроумие автора: до сих пор мы исходим из нашего взгляда на звезды, говорим о дохождении их света до нас. Мертвые, исчезнувшие, не существующие сами по себе, они все еще, через бездну атомов, через поля вселенной, идут к нам в своем отпечатке и почти бессмертны в нем, — так много лет мы еще будем видеть и наблюдать этот их отпечаток. Ну, а что сделал автор? Он посмотрел с них, с этих звезд, на нашу планету. И представьте себе такую вещь…
Илья Николаевич выбежал на середину комнаты, выдвинул кресло и усадил в него улыбающуюся Анну Александровну, а вокруг на разных расстояниях — у стены, у роялино, ближе, еще ближе, на стульях — рассадил всех присутствующих.
— Представьте такую вещь: Анна Александровна — планета Земля, она живет и стареет, прошла архейский, палеозойский, мезозойский периоды, она в современных веках, в античном, феодальном, городском строе… Она мерно ворочается вокруг своей оси, а люди копошатся на ней, и она стареет вместе с людьми. И вот представьте, что каждый из вас — звезда. И на каждой звезде — наблюдатель. А у вас изобретены телескопы чудовищной силы, нет, даже не телескопы, не стекла — магнетические увеличители, бьющие прямо на глазные нервы, как молнии. И вы глядите и видите из разных эпох в одно и то же время все периоды жизни Земли. Для вас живет прошлое. Вам кричит Архимед, выбегая из бани. На вас ползет ихтиозавр. Скрещиваются мечи Алой и Белой роз… И если заснять все это и получить дагерротип мировой истории…
— Позвольте, на чем же сидеть, ведь этих звезд так же нет, как и нашего прошлого? — сказала Мария Александровна.
Физик остановился и вдруг расхохотался. Он не хохотал, а прыскал со смеху, сгибаясь вдруг пополам, как, перочинный ножик, — смеялся оглушительно, весело, до колик, до слез на глазах.
— Браво, браво Мария Александровна! — закричали вокруг.
Но, ко всеобщему удовольствию звезд и планет, их в этой роли еще удержал преподаватель Захаров. Милый был человек преподаватель Захаров. Илья Николаевич снимал у него комнату. Воспитанники института Ишутин и двоюродный его брат, Каракозов, одно время тоже квартировали у него. На уроках он был неровен, когда воодушевлялся — заслушаешься. Но влияние Захарова шло и помимо уроков: в беседе, во встречах исходило от него на других благородное и возвышенное, чудаковатое немного благожелательство чистейшего идеалиста. Заложив руки за спину, он сказал своим сипловатым голосом отчаянного курильщика:
— И ежели сличить-с дагерротипы — как раз между ними, между снимками, и останется самое главное-с…
— Скажите, скажите: что, по-вашему, самое главное?
— А то, добрейшая моя Анна Александровна, посредством чего происходит прогресс в человечестве.
У Захарова была своя теория. Илья Николаевич слышал ее от него не один раз. Теория была по-своему не меньшей оригинальности, нежели мысли Эберти. Что движет исторической переменой? Какая сила сменяет одну стадию развития на другую, старую эпоху на новую? По глубокому убеждению Захарова ее сменяет своим вмешательством поколение новых людей, особый, новый тип народившегося человека, подготовленный как бы на смену в недрах самого общества, — примерно так, как изготовляется руками людей оружие, которому суждено убить своих же создателей. Задолго до перемены из самых недр общества глашатаи его — литераторы — начинают как бы подбирать и выковывать черту за чертой потребный для перемены тип человека со свойствами, так сказать, будущего дня мира, чтобы позднее осуществить этот литературный идеал путем подбора уже в самой жизни.
— Наши критики — Белинский, Добролюбов, Чернышевский, — читайте подряд их статьи-с, в любом анализе производят это великое складывание. Читайте, что интересует их. Разберите, в чем новизна и сила мысли их. Куда бьют они? Что приветствуют? Человека, нового нашему строю жизни. Человека неверующего, афея, но вместе глубоких принципов, человека правдивого, но вместе политика, человека мыслящего, но вместе практика… В этом нерв их подхода к литературному произведению, к авторам и к читателю…
— Что ж, это еще Руссо говорил о новом человеке, — сказал Ауновский.
— Нигилисты, по-вашему, новые люди?
— А скажите, мы как-нибудь, ну хоть немного, хоть чем-нибудь приспособлены произвести будущую перемену?
— Добрейшая Анна Александровна, не вам, не вам и не вам, Иван Дмитриевич, и не вам, Валерий Иванович, и не вам, Владимир Александрович… — он оглядывал всех по кругу необыкновенно серьезно, — и не мне суждено вертать колесо истории. Мы люди своего периода времени, дагерротип, так сказать.
— А я? А я? — со всех сторон пристали к Захарову, и он, медля и всматриваясь, словно гадалка какая-нибудь, играючи отвечал им все «нет» да «нет». Промолчал на вопрос Марии Александровны: «Мало, мало имею чести знать вас, барышня», и решительно сказал «нет» на вопрос Ильи Николаевича.
— Но почему?
— Ты верующий — это раз, мирный труженик — это два.
— Ну, зарезал, — принужденно ответил физик, — этак мы недорого стоим с твоими рекомендациями.
— Музыку, музыку, довольно!
Того, кто крикнул «музыку», сразу поддержали все в комнате — так почему-то грустно сделалось людям от игры Захарова.
Немного утомленная разговором и поздним часом, Мария Александровна встала и подошла к роялю. В комнате было душно. Из столовой донесся запах жаркого, был почти готов обильный, как всегда у Веретенниковых, ужин.
Она перебрала ноты, вытащила тетрадку, раскрыла ее и села перед инструментом. Села не как любительница, а со следами хорошей домашней школы, придвинувши сколько надо сиденье, прикрывши ступней педаль, чтоб не очень громко звучало, и руки на клавиши положила правильно, как учила тетка.
Тихие, мягкие, глубокие звуки бетховенского «Фиделио» бархатно рассыпались по комнате. Илья Николаевич встал, на цыпочках подошел и сел ближе. Тонкий профиль музыкантши освещали, мигая, две свечи. Она закончила прелюдию, вдохнула воздуху, чуть приоткрыла губы и запела приятным низким, словно матовым, голосом, словно про себя думая песней. И это было отличительной, оригинальной чертой ее музицирования.
Поздно за полночь Захаров шел вместе с Ильей Николаевичем восвояси. Они жили внизу, в демократической части Пензы.
— Какая приятная девушка — свояченица Веретенникова! — сказал Захаров, а потом вдруг вернулся к давешнему их разговору, словно и не было вечера и ни о чем другом говорить не хотелось.
— Ужели, друг, ты всерьез убежден в идеальности манифеста? Ведь этот же манифест даже самых последних крепостников привел в замешательство — так безобразно выкроили его бюрократы. Ужели ты не чувствуешь, как сильно разочарован народ, как оскорблены лучшие силы общества этим нелепейшим, даже вредным, я бы сказал, документом грабежа? Дать мужику свободу без земли, на коей он испокон веку работал, как на своей, — это попросту обворовать мужика. И каково же теперь положение наших париев, наших дворовых людей? Уж и козырь дворянству, умильная тема Каткову и разным Аксаковым: дворовые-де ревмя ревут от такой свободы, кидаются господам в ноги, чтоб только остаться при них — какой изворот, какое мерзостное, безумное лицемерие выдавать это за преданность мужика своим барам! Но куда, скажи, пойдут эти дворовые? А еще хвастались в «Русском вестнике», что Россия идет своим, особым путем, что у нас нет язвы пролетариата… И ты доволен, счастлив, не замечаешь, что вся Россия докатилась до «Бездны»!
— Не бъюзжи, не бъюзжи, — проворковал физик. Для него это документ высочайшего морального смысла, глубокий, как эти звуки бетховенского романса. Потому что ведь факт остается фактом: ведь клеймо рабства снято с двадцати трех миллионов людей, ведь… Илья Николаевич поднял в темноте ночи добрые карие глаза на Захарова и сказал неожиданно, с большим чувством: — Рабство на Руси уничтожено, вот смысл манифеста!
ВОСПОМИНАНИЯ ОДНОГО ДЕТСТВА
В полутемной спальне, при одном ночнике, уже раздетая, Мария Александровна сидела на постели и смертельно хотела спать, а неугомонная сестра, стоя перед ней в папильотках, шепотом, чтобы не разбудить детей, доказывала:
— Он, кажется, из простого звания, но образованный выше всей здешней публики. Ваня то же говорит. Он такой обаятельный, Машенька. Вот увидишь!
Тихая маленькая фигурка няни в шлепанцах прошелестела по комнате — это значило: «Пора и честь знать, барыня, детей, не дай бог, перебудите», — как большому ребенку, она улыбнулась своей хозяйке, а гостье, Марии Александровне, словно из двух сестер эта и была старшая, кинула умоляющий выразительный взгляд.
В няне был толк, и она прекрасно разбиралась в людях. Машенька, хоть и младшая, казалась ей куда рассудительней, чем словоохотливая тридцатилетняя Аннушка. Да и годы самой «Марьи Ляксандровны», по няниному деревенскому разумению, тоже были не малые — годков, почитай, двадцать шесть, на деревне в такие годы бабы свое семейство растят. И няня обращалась за содействием не к хозяйке, а к тихой и спокойной младшей барышне.
Сложное поколение предков работало для создания этих двух женских характеров.
Отец обеих девушек, Александр Дмитриевич Бланк, был родом из местечка Староконстантинова Волынской губернии. Окончив в Житомире поветовое училище, он приехал с братом в Петербург, поступил в Петербургскую медико-хирургическую академию и закончил ее в звании лекаря, прослужил год с лишним в смоленской глуши и вернулся опять в Петербург. Здесь он семь лет расширял и углублял свой опыт лекаря «на все руки» в беспокойной должности полицейского врача: спасал «утопавших и угоравших», ездил в далекий Олонец на эпидемию пресекать «болезнь на людях»; произведен был в штаб-лекари и признан акушером. Через семь лет все это надоело ему до крайности. Он подал в отставку, отдыхал больше года, потом поступил ординатором в больницу, состоявшую под покровительством герцога Максимилиана Лейхтенбергского. Женат он был на немке, Анне Ивановне Грошопф, и рано овдовел, оставшись со старшим сыном Дмитрием и пятью девочками — Аннушкой, Любонькой, Катенькой, Машенькой и Софинькой — на руках. Но и Петербург ненадолго удержал его. В начале сороковых годов Александр Дмитриевич подался на горнозаводской Урал. Раннее свое детство Аннушка и Машенька провели в Перми и Златоусте. Златоуст с постоянным дождиком и яркой густой зеленью обступивших его гор, Златоуст с его рабочими и знаменитой Оружейной фабрикой, со строгой военной обстановкой в госпиталях, где Александр Дмитриевич был медицинским инспектором, хорошо запомнился девочкам. Они росли под чужим присмотром, отца, видели не часто, а в летние месяцы доктор Бланк брал длительный отпуск и уезжал в большом заводском рыдване в далекое путешествие — за границу, на Карлсбадские минеральные воды. Дети Бланк хранили привезенные им оттуда окаменевшие в горячих водах куриозы.
В 1847 году доктор Бланк вышел в отставку, купил небольшое именьице под Казанью, приписался к дворянству Казанской губернии и навсегда перебрался в деревню. Там он стал полным хозяином над своей женской армией — пятью дочерьми и свояченицей, Катериной Ивановной Эссен, заменившей им мать.
Как врач Александр Дмитриевич был человек незаурядный и выделялся своими крайними взглядами в медицине. Удалившись в деревню, он писал книгу под необычным названием: «Чем живешь, тем лечись». В то время немецкие врачи только что начинали проповедовать физические методы лечения, развитые позднее модным доктором Платтеном: вода, вода и вода — вот лечебный, воспитательный, цивилизующий фактор, вода внутрь, вода снаружи. Доктор Бланк славился на всю округу своими компрессами и окутываниями. На ночь он обвертывал своих девочек в мокрые простыни, чтоб укрепить им нервы. Пища обсуждалась и нормировалась — ничего острого, ничего смешанного. Доктор Бланк любил цитировать за столом знаменитый стих из Фауста:
Ernähre dich mit ungemischter Speise.[3]
Водился он с одним чудаком в отставке — Пономаревым, поселившимся у него в Кокушкине. Оба приятеля, сойдясь, спорили до хрипоты, а когда ссорились, посылали друг другу письма из комнаты в комнату. Пономарев утверждал необходимость животного белка — без белка нет питания.
— А если так, почему вы не едите собак? Какая разница — собака, свинья, баран? Какая? Какая?
— Что ж, можно есть и собаку, поскольку в ней имеется животный белок.
— Ага! Можно! Василий! Иди, поймай на деревне собаку, не чью-нибудь, а так, неизвестную собаку, доставь ее повару, и чтоб он немедленно изжарил ее к столу, с картошкой подай!
Вся деревня сбежалась смотреть, как ухмыляющийся Василий ловил неизвестную собаку. Для повара, словно это было величайшее испытание, ниспосланное богом, наступил суровый час жизни. Засучив рукава и отвратив лицо, он линчевал ножом поплоше, который потом негодующе выбросил, худое и жилистое собачье мясо. Василий подал жареную собаку на стол.
— Ну как, ели господа? — спрашивал потом повар, выбрасывая остатки жаркого на помойку.
— Кушали, — ответил Василий, — ковырнули по кусочку, изжевали, говорят: «Что ж, ничего, на зайца похоже, есть вполне можно», — а только больше кушать не стали, — отнеси, говорят, на кухню.
Характером Александр Дмитриевич был крутоват и с давней, еще уральской, поры любил настоять на своем. Бывало, правда, что и ему отвечали тем же, или, как шутливо говаривали про него в златоустинской конторе, «найдет коса и на камень». Так, однажды нашелся «камень» среди уральских лекарей — амбициозный поляк Понятовский. Александр Дмитриевич, по своему обычаю, затребовал от него каталог медикаментов, писанный по форме. Понятовский ему отказал. Тогда Александр Дмитриевич, говоря языком казенного документа, «вошел с представлением об уклончивости лекаря Миасского завода господина Понятовского». Но Понятовский позиций своих не сдал. Часов пять сидел он над пыльными томищами свода законов Горного устава и нашел-таки статьи 888 и 904, по которым выяснил равные свои с медицинским инспектором права и ненадобность ему подчиняться. Тогда настала очередь пропотеть и обер-бергмейстеру главной конторы, господину Бояршинову, чтоб уладить конфликт косы и камня. Долго искал он и, наконец, тоже нашел подходящее в законах постановление, которое и отписал по всем правилам на жалобу Бланка. Машенька помнит, как отец ее, саркастически поджав губы и подняв колючие брови, читал вслух это соломоново решение:
«Согласно разуму изложенных здесь постановлений, не должны в хорошо устроенных госпиталях существовать раздор и несогласие между начальниками медицинской и хозяйственной части, но, напротив, каждый из них обязан не токмо исполнять со всею точностью порученную ему по части его должность, но в встретившихся случаях помогать друг другу по чести и совести взаимными советами, уклоняться от всякой личности и иметь беспрестанно в виду только пользу службы».
— Пуф-пуф! Честь и совесть! Взаимные советы! — вырывались у него комментарии во время чтения. И долго еще вскипал он и заливался яркой краской, когда напоминали ему о лекаре Понятовском и решении златоустинской главной конторы, испортившем ему его формулярный список.
Беда была ослушаться Александра Дмитриевича и дома. Старшие дочери часто плакали с досады в подушку от папенькиных экспериментов. Они тянулись на волю. Анна повенчалась с учителем Веретенниковым. Любонька рано вышла замуж за Ардашева, родила девять человек детей, овдовела и, чтоб поднять детей, вышла вторично, за Пономарева, получавшего хорошую пенсию. Софья пошла за Лаврова и как-то оторвалась от семьи.
Но Машеньку отец любил нежно и больше всех. Машенька была его любимица, его Антигона. В Машеньке он усматривал серьезность и правоту своих педагогических идей. Она выросла краше и крепче сестер, отлично усвоила от тетки три языка, терпеть не могла пустой болтовни или безделья.
— Nur nicht vertändeln! — кричала тетка. — Только не балбесничать, не проворонивать время!
Она и шила, и готовила, и вставала в доме раньше всех, и во всем ее облике была та строгая внутренняя культура, которую так любил Александр Дмитриевич.
— Моя дочка, — говорил он соседям.
Тетка Екатерина Ивановна ворчливо вставляла:
— Ach, was! Seien Sie ruhig, Машенька ist ein vernünftiges Wesen. Чего там, будьте покойны! Машенька разумное существо, а ваши художества сбивают мне девушек, Александр!
Еще своеобразнее была родня Бланков по материнской линии — с ее традицией больших, оригинальных характеров и тонкой петербургской культуры. Легендарный дедушка, отец их рано умершей матери, Анны Ивановны Грошопф, никогда не хворал. Под старость он усвоил твердое правило: каждое первое число каждого месяца выпивать столовую ложку касторки для профилактики — очистки машины, как он говаривал. Он был женат на шведке Анне Карловне Остедт. Двое из их сыновей, дяди девочек, Карл и Густав Грошопфы, вышли в большие люди: Карл вице-директорствовал в департаменте внешней торговли, Густав заведовал таможней в Риге. После смерти деда главой семьи стал Карл Иванович; унаследовал отцовский дом на Васильевском острове, и к нему переселилась старая бездетная сестра бабушки Анны Карловны, Каролина Карловна Остедт — высокая, умнейшая, костлявая старая шведка, с проницательными глазами и скрипучим, наставительным, твердым голосом.
Каролину Карловну уважали в семье. Она смолоду ушла гувернанткой в богатое семейство Топорниных, уфимских помещиков, выходила, вынянчила и образовала там девять человек детей, сама готовила по всем предметам в Пажеский корпус старших сыновей, и никогда никаких учителей, кроме Каролины Карловны, молодые Топорнины не имели.
Аннушка в детстве ходила в гости к дяде Карлу и бабушке Каролине в большой, чинный дом на Васильевском острове. Сами они жили тогда с отцом на Петербургской стороне, но своей квартиры Аннушка не запомнила, а вот у дяди что было, все так и стоит перед глазами — длинные, скользкие, до блеска натертые паркетные полы с отраженными в них ножками лакированных столиков, запертые книжные шкафы с чудными книгами в коже и позолоте, скульптурные торсы в углах на подставках черного дерева — и скрипки, скрипки.
Дядя Карл безумно любил музыку. Скрипки были душой его жизни, об одной из них он говорил, как о женщине; ее нежное тельце, пахнувшее пальмовой пылью, он берег и вынимал в редчайших случаях, а играл задумчиво, большой и величавый, и скрипка пела у него глуховатым человеческим голосом. Дети присаживались, уплывала комната, уплывал Петербург, уплывали все мелочи дня, школьные уроки, и, словно в большой лунной полосе, плыл в вечность челнок. Потом они пытались было потрогать скрипку пальцами, но дядя Карл это предвидел: «Oculis, non manibus»[4] Подняв палец и приложив его сперва к глазу, а после к скрипке, он отрицательно качал головой, и это было как волшебное заклинание. Девочки выучили латинскую фразу, узнали ее смысл, но именно потому, что она латинская, а не русская или немецкая, эта фраза наложила запрет на вещи, и дети не трогали скрипок, а только жадно смотрели на них.
Еще запомнила Аннушка ужасное, крикливое гоготанье двух ссорившихся женщин — ее родной бабушки Анны Карловны с двоюродной бабушкой, или, как дети называли, гранд-тантой, Каролиной Карловной. Разговаривали и ругались они всегда по-шведски и крепко возвышали при этом голоса, похожие на клокотанье в курятнике разгневанных индюшек; Аннушка вообразила с тех пор, что шведский язык — самый негармоничный в мире, И Каролина Карловна, чей авторитет был всегда выше в семье, побеждала более женственную характером родную их бабку.
Подчиняясь прочной семейной традиции, девочки Бланк обязаны были писать Каролине Карловне на пасху и рождество, а тетя Катерина Ивановна всегда переписывалась с ней по-французски. Когда Аннушка выходила за Веретенникова, Каролина Карловна прислала ей мудрое наставление в письме:
«Tache que l’amour, que ton fiansé a pour toi, change en veritable amitié, ne te fais pas illusion de croire, que cet amour puisse durer toujours comme le font beaucoup de jeunes filles par inexperience. Cherche rendre l’interieur de ta maison agréable à ton mari, c’est le grand art d’une femme».[5]
Такова была эта семья, лучшим цветком которой распустилась четвертая дочка, Машенька. Культура быта, крепкое здоровье, имя Анна по женской линии, значение тетки, свояченицы в воспитании сирот, и эти женщины, рожавшие из поколения в поколение по восемь, по десять человек детей, доживавших до глубокой старости, — так оно повелось и по материнской линии, в роду Грошопфов и Остедтов, и по отцовской линии, у Бланков. По наследству передавались навыки к труду и дисциплине, выдержка, воспитанность и глубокая любовь к музыке. Но в Аннушке Бланк эти черты приняли один уклон, а в Машеньке Бланк — другой.
Анна Александровна бунтовала против мокрых простыней отца, назиданий гранд-танты Каролины, однообразной солдатской муштры в Кокушкине; в ней бродил талант, не нашедший выхода. Страстная и истеричная, она казалась моложе душой всех своих детей, когда они подросли. Уже будучи матерью, писала стихи, до слез увлекалась Некрасовым, тяжело пережила его смерть, влюблялась в актеров, в самоубийц, и вокруг нее всегда собирались отвести душу умные, разговорчивые, широкодушные мужчины и женщины шестидесятых годов.
Мария Александровна выросла гораздо более тихой, чем бунтовавшая против отца, но сумасбродная, как отец, Аннушка. Спокойно, просто, с прирожденной грацией, она усвоила отцовский режим, подчинилась порядку и сама завела порядок. Разговаривать не любила, в обществе больше молчала. Ее влекло к книге, к ученью, которого не дал отец. Что учиться не пришлось, это ей тягостно связывало мысль. Но в характере ее была легкая, изящная наблюдательность. Помолчит, помолчит, а вставит словцо — и обернутся на нее с удивлением: так свежо прозвучит словцо.
Ложиться спать в полночь ей, деревенской, было до того тяжко и невмоготу, что даже воспитанность и терпение не могли сдержать досады в ее голосе, когда она в ответ на болтливость сестры и взгляд няни почти крикнула:
— Спать же ведь пора, Аннушка!
Засыпая, Мария Александровна не думала ни о происхождении старшего учителя физики, ни о разговорах за столом. Она крепко, по-деревенски, натянула одеяло на плечи и, выбросив поверх него густую косу и левую руку, как учил отец, а правую ладонь сунув под подушку, тотчас же заснула здоровым, молодым сном, по всем правилам гигиены — на правом боку-
ВОСПОМИНАНИЯ ДРУГОГО ДЕТСТВА
Совсем иные силы, иная обстановка трудились над созданием характера старшего учителя физики. Он стоит сейчас спиной к теплой печке при слабом свечном огарке, оплывшем чуть не до подсвечника, не раскрыв постели и не раздевшись; глаза застоялись на красном пятне света, и спать не тянет, — в характере Ильи Николаевича есть припадки такой задумчивости, инерции, вдруг пригвождающей его к одной позе, к одному движению, к хождению по комнате, к стоянию, заложив руки за спину.
Он живет в угловой комнате у своего коллеги Захарова, рядом жил раньше воспитанник Ишутин, а сейчас квартирует другой. Жена Захарова столует своих жильцов, утром вносится к ним на подносе пузатый медный тульский самовар с чистенькой салфеточкой под его крышкой, где варятся в кипящей воде два-три яйца. В комнате железная кровать, легкий ломберный стол, и на нем несколько книг.
Он сохранил кое-какие студенческие привычки, хотя вот уже шесть лет, как перестал быть студентом: переписывает любимые стихи в тетрадь; читая, делает птички на полях и отмеченное перечитывает вторично, словно к экзамену: не заводит в быту баловства, как иные его товарищи, мечтающие о собственном выезде; по недосугу не ищет даже отдельной квартиры.
Сегодня Илья Николаевич задумался как-то сразу обо всем вместе, о прошлом, о будущем. Сколько деятельности, сколько возможностей, если сравнить, откуда он вырос, вышел! Призакрыв лоб рукой — жест почти непроизвольный, сохранившийся с детства, — он увидел в воображении своем Астрахань.
Вдалеке, на горе, каменная стена Кремля, золото куполов, город; внизу, на Косе, запах рыбы, пестрая бахрома качающихся парусов у берега, тени верблюдов, несущих в цейхгаузы тюки и тюки, говор греческих моряков; он запомнил только слово «таллята-таллята» (море), общее в ново- и древнегреческом. Веселые армяне с подносами халвы и коротким присловьем «джан» — «Гарегин-джан», «Арташес-джан», — словно бубенцом на верблюжьих веревках; и полные, женственные персы с ярко-красной от хны шевелюрой под высокими шапками; и дорогой продукт у мальчишек — вода, простая питьевая вода в длинных глиняных кувшинах на голове… Звон, лязг якорной цепи, солнце, жаркая пыль, нескончаемое движение баркасов и лодок к далекому, невидимому за устьем рейду, где, осыпаясь из труб искрами, пришвартовываются пароходы из Решта и Энзели, — мальчишеское раздолье, но не очень-то, впрочем, раздолье!
Он вспомнил низенький дом в полтора этажа, купленный в рассрочку у флотского матроса Липаева, невыразимого пьяницы. Отец сухими, старыми пальцами, исколотыми иглой, — он портняжил, — считает в ладонь из кошеля серебряные рубли и прячет под образа очередную расписку. Отец был стар, беден и выбился из нищеты, кажется, только к шестидесяти годам, тогда же и жену взял. Отца Илья Николаевич сильно боялся в детстве и почти не помнит, мать он любил нежно и жалостливо, и сестру Федосью, и сестру Машу, и Васю — если б не Вася, быть бы ему астраханским приказчиком в конторе у господ Сапожниковых!
Он сказал Захарову о «рабстве на Руси». Бог знает как понял его Захаров — может быть, он подумал о павшем на Руси крепостном праве, и только. Но старший учитель физики думал в ту минуту не об одном крепостном праве. Он мог бы порассказать Захарову о проданных в рабство купцам маленьких калмыцких девочках, проданных от крайней нужды и нищеты их родными отцами и матерями. Свежее, совсем свежее предание, а уже с трудом и верится. Когда это? За пятнадцать лет до его рождения, сорок пять годов назад, — давно, очень давно, а ведь остается что-то вроде белого шрама давнишней, давнишней раны.
В том, как их семья медленно восходила в его лице из тьмы к свету, была одна отличительная особенность: мать его, Смирнова, вышла из уважаемого в астраханском мещанстве крещеного калмыцкого рода. Священник Ливанов, именитый астраханский иерей, был покровителем их семьи. Он способствовал брату Васе — бедному брату Васе, с его честными, истовыми мужицкими глазами, с его крестьянским скуластым лицом, затянутому в модный сюртучишко над полосатым жилетом, — за руку ввести меньшего брата в гимназию, где учились дети чиновников, дворян и купцов.
Почти каждый из его сверстников гордился своим родом, мог насчитать прадедов и прабабок. А он знал по-настоящему только отца, и отец казался ему первым в роду. Ведь недаром и фамилия их еще не стала устойчивой — отец был записан в книге мастеров как Ульянинов, в отцовской метрике стояло Ульянин, сам же отец расписывался Ульянов.
Илья Николаевич помнит, как он топал босиком снизу, с Косы, в гору каждое утро, загодя до уроков, из экономии неся башмаки в сумке, как он вечерами в кухне учил и учил уроки, как медленно раскрывался перед ним мир понятий и образов, отдалявший его и возвышавший его над этой кухней, по астраханскому обычаю увешанной под потолком красными стручками перца, причудливыми фигурками полосатых тыкв, ожерельями лука. Василий, ставший ему вместо отца, смолоду потянул лямку соляного объездчика, тянет и по сегодня, и не женился, не учился, а ведь мог бы Василий, ведь он способный.
И все же, если оглянуться на прошлое, само время помогло ему тогда учиться. Стоило только вспомнить весь этот приказный мир, бумаги и «определенья», выписки и «сказки», оторванные от языка современности, туманные, тяжелые, как утюги… Государство нуждалось в грамотеях. Время думских дьяков, в приказах поседелых, оставило страшный приказный словарь. К нему прибавились новые словечки, и все смешалось — магистрат с казенной палатой, секретарь с повытчиком, канцелярская тарабарщина сделалась непонятной даже тому, кто писал ее, — и время потребовало смести эту тарабарщину, смести ратманов и повытчиков, поставить взамен грамотных письмоводителей, счетоводов, экономов, управляющих, учителей. А как туго и высокомерно учились в гимназии дети дворян, как вяло обучались его сверстники! Илюша вспомнил учителя Степанова, мучительно вдалбливавшего теоремы в ленивых его одноклассников. Учебный округ вдруг начал тянуть школу, поощрять хороших учеников, объявлять благодарность учителям за успешный выпуск. Учебный округ ослабил рогатки, не дававшие доступа в школу поповичам и мещанам, детям вчерашних крепостных. Ему самому дважды давали денежную награду, классное сочинение его отправили в округ с похвальным отзывом директора. Да, само время помогало им, разночинцам.
Ничтожнейший срок — десять лет — прошел с того вечера, как сестра Маша с мужем, стриженным в скобку, среднего достатка купцом Горшковым, дедушка Смирнов, головастый мещанский староста, на которого Илья Николаевич, кстати, больше всех и лицом вышел, и почетный гость, отец Николай Ливанов, пришли поздравить его, кончившего гимназию. Сестра Феня, повязанная платком, внесла ароматный калмыцкий чай в чугунке, — с тех пор Илья Николаевич нигде не пил этого чаю, а он, признаться, любил его, и кусочки масла в нем, и соленый вкус, смешанный с запахом травянистого настоя, и горку сухарей перед пьющими. В этот вечер его спросили, как думает дальше, а Илья Николаевич ответил, прокашляв горло: «В Казань, в университет». Горшковы и Смирновы ахнули. А брат поддержал. И опять трудное восхождение и все дальше черта между ними, как меж бортом отплывающего парохода и пристанью. Из их гимназии только двое и поступили в университет.
Теперь наплыла во всем ее великолепии Казань, многоязычная Казань с чугунными плитами университетской аллеи, где каждая плита под ногой строго приветствует студентов, напоминая о годах прошедших, Казань математиков и физиков, овеянная славой ученых, о которых легенды сказывались, — астронома Литтрова, видного математика Бартельса, таинственного масона Броннера… Как живой, возник перед ним образ не по годам одряхлевшего, полуслепого Лобачевского, каким довелось увидеть Николая Ивановича перед самой его смертью: судорожно выпрямив спину, глядя прямо перед собой потухшими, прекрасными серыми глазами, идет он, нетвердо ступая и опираясь на руку нетерпеливой, еще молодой супруги, словно умирающий лев в лесу, ждущий со всех сторон укусов, издевки, унижения. И знающим его так живо передается, так сердцем чувствуется страстное, закипающее в нем, бессильное его раздражение.
Старший физик чтил покойного Лобачевского и был ему многим обязан. Это ведь Лобачевский устроил его, совсем молодого студента, к Александру Григорьевичу Савельеву — помогать в разъездах, в проверке метеорологических станций, в работах по метеорологии. И какой свежей, интересной оказалась его работа… Да нет, разве он один обязан Лобачевскому? Физик вспомнил рассказы товарищей о популярном ныне профессоре Осипе Антоновиче Больцани, — что было бы с этим Больцани, если б не Лобачевский? Мальчишка-приказчик у Дациаро, развозивший по русской земле эстампы, альбомы да картины на продажу и рекламы своей торговой фирмы, — вот была будущность. Но зоркий взгляд профессора Попова подметил, как этот приказчик лучше всякого студиозуса штудирует механику Пуассона. Казанские знакомые рассказывали старшему физику, что Больцани в молодости говаривал, будто бы корень их рода, Больцани, из итальянского города Боцена, имел прирожденный дар к математике, и не он один, а и старшая ветвь того же Больцани, женившегося на чешке в Богемии, отличалась в науке… Но хорош был бы дар, не будь Лобачевского, — ведь это Николай Иванович выпестовал, выучил, вытянул его на широкую дорогу.
От Больцани мысли старшего физика перенеслись к метеорологической станции. В каком безобразном положении была эта станция, когда он приехал в Пензу! Сифонный барометр с термометром старый-престарый, термометр и нониус безбожно врали; термометр был системы Цельсиуса — и надо сидеть и переводить цифры на Реомюра; для наблюдения над количеством осадков один-единственный дождемер. Все это теперь в исправности, в действии, — спасибо мастерской Больцани! Но был, значит, Лобачевский хорошего мнения о нем, Илье Николаевиче, если именно ему, персонально ему, отклонив других кандидатов, предложил это интересное дело — вести метеорологические наблюдения в институте!
Илья Николаевич не подумал при этом, что кандидатов было вовсе уж не так много, что вести кропотливое измерение изо дня в день, из года в год, да еще бесплатно, охотников мало, или, вернее, как грубо выразился его коллега-математик, «дураков нет». Илья Николаевич с любовью принял и вел свою станцию, а сейчас он вспомнил тепло и ярко — на столе тепло и ярко вспыхнул умирающий огарок, — что завтра войдет в девять часов утра, когда еще пасмурно, во двор института и взглянет, как всегда, направо, где его станция, а в окне инспекторской квартиры при лампе увидит, может быть, уже не один только невыспавшийся, желчный немного облик Анны Александровны…
И так начнется у него день.
ЛИЦО ПОКОЛЕНИЯ
Учитель Захаров был словесник. Он и Ульянов считались лучшими преподавателями в институте, но учили по-разному и предмет любили по-разному, да и сами были несхожи.
Физик забирал учеников исподволь. Вначале он казался классу потешным, вбегал перепелочкой, мелко семеня, отирал платком начинающую лысеть макушку, забавно картавил — ни «р», ни «л» у него никуда не годились, — и разыграть его классу ничего не стоило. Но удивительное дело: класс его не разыграл — так много в этом первом появлении учителя раскрылось неожиданной для молодежи редчайшей деликатности.
Воспитанники института привыкли и к порке, и к карцеру, и к язвительным, враждебным действиям со стороны учителя, когда обе стороны находятся «в состоянии войны», а находились они в этом состоянии часто. Воспитанники грубели в самозащите, чтобы, не моргнув, вынести способ, какой они называли между собой «битьем по самолюбию», а между тем очень часто ими же выведенный из терпенья учитель хватался за этот способ с отчаяния, как за последнее средство. Два лагеря залегали друг против друга в классе, как хищники. На последних партах громко жевали, переплевывали друг другу, виртуозно рассчитав пространство, резиновые шарики, читали книги, почесывали голову, иной раз больше от озорства, нежели по надобности. Задние парты нарочно бесили своим неряшеством, расстегнутыми мундирами, засаленными воротниками, перхотью, длинными, неприглаженными волосами. Учитель, клокоча внутренне от ненависти, окапывался в словах и жестах, к которым по виду нельзя придраться, но жалил, как овод, вонзаясь в самые чувствительные места, в слабости и привычки, симпатии и антипатии, во все, что подглядывал и примечал за противником. Таких «занозил» воспитанники ненавидели больше, чем открыто шедших на них врагов, вооруженных розгами и карцером. Но и розги, и карцер, и «битье по самолюбию» год от году усиливались в институте, невыносимо озлобляя обе стороны, — главным образом потому, что сгущалась общая атмосфера.
А общая атмосфера для института значила очень многое. Содержался он на средства дворян, облагавших для этого своих крепостных особой подушной податью, — но вот уже полгода как вышел, наконец, манифест, и «крепостные души» оказались свободными, хотя правда, временнообязанными, то есть в течение двух лет все еще прикованными в прежних своих обязанностях к помещику, — но попробуй-ка возьми с них сейчас лишнюю подушную подать!
Дворяне кричали о разорении, и никто копейки платить не желал, хотя предводитель, разводя руками, и говаривал свое отеческое: «Господа, господа…»
Учителя по месяцам не получали жалованья. Было ясно, что дальше так некуда и что заведение должно быть закрыто и преобразовано. Старшие классы даже не знали, тут ли, в Пензе, они будут кончать. И в этой разрухе удержать класс, вести как ни в чем не бывало преподавание, заставить забыть все вокруг и слушать урок было огромное, трудное искусство. Физику Илье Николаевичу оно удавалось не только потому, что он любил свой предмет и увлекался, когда говорил о нем. Не только потому, что говорил он очень просто, понятно, втолковывая самому туголобому так, что выскакивали доброхотцы из-за парт и начинали тотчас подсоблять учителю, словно давно знают вопрос, а не только что, с голоса учителя, подхватили и поняли его. А удавалось оно физику из-за редчайшей его деликатности к человеку.
Деликатность и такт — свойства трудные и более редкие, чем талант. Их нельзя представить или разыграть, не сорвавшись. Их нужно иметь, и тогда они скажутся сами собой в тысяче пустяков, в том молчаливом, невидимом на поверхности, странном внутреннем сговоре, в каком обиженная или огрубелая, дикая или порочная, но не совсем пропащая душа человечья, вдруг как бы выйдя из защитной своей скорлупы, из военной маскировки, из полумертвой спячки, словно на тайную, ей одной слышимую мелодию, безоружно, в полном доверии, приближается к другой душе, — а та и поет-то свою мелодию без всякого умысла, просто потому, что ей свойственно петь ее.
Илье Николаевичу было свойственно почти физически чувствовать чужое бытие — характер, натуру, настроение ученика, — чувствовать с подлинным внутренним равенством — главным условием деликатности. Обидеть, заподозрить, хотя чем-нибудь уязвить человека, нанести удар по самолюбию было для всей его собственной натуры так же отвратно, как съесть кусок железа, и в классе тотчас почувствовали, что в каждом из них он видит и уважает равного себе человека. К тому же он весь светился добрыми своими карими глазами, когда вскидывал их на отвечающего, — и ученики просто влюблялись в этот мягкий взгляд, стерегли физика по коридорам, чтобы гурьбой пойти с ним, взять его с двух сторон под руки или даже, осмелев, обнять за талию, повиснуть на нем.
Словесник Захаров держал класс совсем по-другому. Рассеянный и близорукий, он не был чуток к воспитанникам совершенно так, как и себя не щадил, — наоборот, весь класс сливался перед ним, когда он рассказывал, в одно-единое лицо. В манере жить и действовать у Захарова была какая-то романтическая стремительность, вызванная именно тем, что всегда и всюду видел он перед собой это единственное лицо.
Чье оно было? Захаров не мог бы сказать, какие у него глаза, нос и рот, но это было лицо поколения, желаемый икс, то, что слушает, понимает, кивает, то, что, может быть, иные назвали бы «двойником», думая, что Захаров противопоставлял себе не кого другого, как себя же. Но двойник этот обладал для Захарова той важной особенностью, что он всегда рос и увеличивался в удельном весе. В него и ему бросал Захаров пригоршнями и свое знанье, и все страстное свое увлечение литературой.
Когда в первый раз, боком открыв дверь, неуклюжий, в скрипучих дешевых ботинках, по-добролюбовски волосатый, — волосы росли у него под ушами и на шее, и по тогдашней моде он их сбривал только вокруг рта, — Захаров вошел в класс и держал свою первую речь, он успеха у класса не имел, и его причислили даже к разряду «допекающих». Резким контрастом с физиком было то, что этот мохнач со словоерсами не дал себе ни малейшего труда увидеть их или хоть разобраться в списке фамилий, лежавшем на кафедре. До последнего дня пребывания в институте он путал фамилии, называл Мосолова Мусатовым, Сергея — Георгием, и это свойство обидело и оттолкнуло от него чуть ли не всех. На первом уроке он избрал для знакомства с ними старую грамматику Ломоносова.
Только двое-трое слушали Захарова с удивлением. Мохнач повел речь о силе слова. О великом счастье мыслить на языке русском. Этот язык — оружие, какого еще не было в мире, язык будущих деяний истории, язык встречи для всего человечества.
Открыв принесенный с собой старый фолиант, обтянутый стершейся на углах кожей, тисненной тоже порядком истертым золотом, он прочел из него голосом грубым, немного сиплым, но рвущимся от волнения, как птица в полете от коршуна, торопясь и сбиваясь, следующие слова:
«Карл Пятый, римский император, говаривал, что ишпанским языком с богом, французским с друзьями, немецким с неприятелями, италианским с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно. Ибо нашел бы в нем великолепие ишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италианского и, сверх того, богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языка… Сильное красноречие Цицероново, великолепная Виргилиева важность, Овидиево приятное витийство не теряют своего достоинства на российском языке…»
— Каков Ломоносов! Да-с, так другой в наше время не скажет-с! Какова мысль!
Захаров не сразу и вспомнил, что перед ним класс. Когда кончился урок, он выбежал разгоряченный, в восторге, нимало не подозревая, что разгорячение и восторг шли только с его, с захаровской, стороны в классе.
Но уже на втором уроке сила его дала себя знать. С языка русского он перешел на «славное воинство, этим оружием подвизающееся», — на писателей, носителей света, от архангельского мужика — рыбаря Ломоносова, никогда не гнувшего спины и умевшего любого вельможу отбрить, до презоркого немца фон-Визина, не зря обрусевшего, — перекидываясь от книги к книге, от имени к имени, как бы начерчивая программу занятий в классе на целый год, Захаров сумел вдруг зажечь класс тем внутренним чувством к писателю, какое жило, живет и будет жить в каждом поколении людей, пока есть книга и есть читатели книг.
Началось со спора, возгоревшегося вокруг барона Брамбеуса. Разгуливая по классу и жестикулируя, Захаров нежданно-негаданно увидел, что Странден — он долго не мог запомнить его фамилии — читает под партой толстенький томик «Фантастических путешествий». На смешных местах Странден поеживался, как от щекотки. Странден был умница и сам насмешник, и не дай бог в его присутствии задеть Брамбеуса. Но Захаров вытащил книгу, поглядел и швырнул на кафедру, преувеличив, по правде сказать, свое неуважение к «барону», может быть, потому, что только на днях спорил со своим квартирантом Ульяновым, который тоже читал Брамбеуса. Много лет спустя и Странден, и другие ученики Захарова, одни в ссылке, другие в чине сенатора, будут вспоминать эту первую захаровскую «филиппику», как они обозвали ее:
— Не советую, не советую-с! Чем он плох, ты спрашиваешь? А я тебе скажу, чем он плох. Сенковскому было отпущено. Сенковский имел талант. Имел щедро, обучен был дюжине языков. Редко кто обладает таким даром постигнуть язык, как Сенковский. И что же, скажи, пожалуйста, создал на свете твой Сенковский с этим великим даром, с легкой способностью к выражению? Он запустил руку в ящик с сокровищем и вынул оттуда сушеную муху. Не протестуй. Книги пишут не с тем, чтобы развлечь на полчаса. Язык дан не с тем, чтоб балакать с соседом. Книга должна быть так писана, чтоб идти впереди, расти, всегда расти. Ты что именно читал — «Путешествие сентиментальное», где человек сквозь Этну в нутро земли к антиподам провалился? Так, так. А теперь возьми сочинение Ионатана Свифта «Гулливер». Тоже сказка. Но литератор воспользовался богатым положением своего сюжета, чтоб дать затаенные свои думы, вывернуть душу свою навстречу истине, он осмеял в карликах, раскрыл в великанах пошлость, глупость и низость человеческие, он разил, его книга имела прицел, она сдвинула гору, она таранила, кричала, стреляла, билась флагом на фронте истории, а твой Брамбеус потешился своим сюжетом, отпустил две-три безобидные шутки, надорвал животики — и все. На что ему была богатая тема! Стыд. Жалость. Бессмертие — помни это, помните все — получает не книга, есть тысячи очень талантливых книг, канувших в Лету, — бессмертие получает писатель, создавший книгу, то есть человек, отложивший в книге свою человечность. Маленький человек с малыми пожеланиями при всем таланте может остаться только Брамбеусом, и ничем больше.
Удивительно было для всех в классе, что Странден не обиделся на Захарова. Напротив: умница Странден именно с этого дня и стал как бы срастаться с тем символическим лицом поколения, какое видел перед собой Захаров в своих странствованиях по классу, — он то и дело вмешивался в его филиппики вопросами и замечаниями, подогревая учителя на большее и большее. Ходил к нему на дом с просьбами «указать книжку».
И однажды в классе появился и побежал по рукам трепаный старый номер «Современника». Он был засален, его углы стали так хрупко-прозрачны, что светились насквозь. Переплет был бережно обернут чистой серой бумагой. Страстная жажда узнать всю «правду» и вера еще до встречи, до знания в то, что пришло настоящее, пришел человек, который их всех невозвратно захватит и покорит, — прямо лихорадка какая-то овладела воспитанниками, когда они увидели подпись, уже смутно и тревожно знакомую: Н. Чернышевский. Это был первый номер за пятьдесят восьмой год со статьей Чернышевского «Кавеньяк».
Тотчас образовался кружок, засевший читать эту статью. Жили воспитанники в пансионе, читать надо было очень осторожно. Вначале как-то не понравилось — сухо, напыщенно. И, однако, никто не признался себе, что не понравилось, — до того им хотелось, чтоб нравилось.
Помнит ли кто из нас, людей совсем иного времени и поколения, первую решающую встречу с книгой, которой суждено стать вашим вторым рождением в мире? Неясный большой ком идет к горлу и спирает дыхание. Вы не видите частностей. Не соображаете своих прошлых привычек и мыслей, может быть, совсем не похожих на то, что сейчас. Вы не критикуете — наоборот, у вас потребность тотчас же, высоким, еще ломающимся, безусым голосом, с невероятной верой, невероятным апломбом говорить, говорить, говорить, не слушая, презирая всякое возражение, — говорить о том, что в один миг стало для вас непреложной истиной. И это самый естественный, самый чистый миг в человеческой жизни, подобный тому, как с треском лопается сухая чешуйка, отдавая созревшие семена, — миг вашей гражданской зрелости.
В обширном наследстве Чернышевского нет другой такой статьи для того, чтоб сразу покорить, взять человека, нежели эта работа о вожде умеренных республиканцев, возвышенном чистоплюе, расстрелявшем в Париже сорок тысяч безоружных рабочих. В «Кавеньяке» русский читатель был ошеломлен и прикован абсолютнейшей точностью мысли. Смотри, вот правда, — голову прямо, не вертись, не дергайся, вот она — раз, раз, раз, раз. С невероятной и беспощадной логикой ум Чернышевского в неудержимом потоке анализа, очень простого по форме и такого легкого на вид, что каждому кажется, будто это он и сам давно знает, дал в этой статье сражение всякой неясности, лжи и романтике, всякой недодуманности, выдаваемой за глубину, к каким привыкли мы в жизни и в чтении.
— Д-да! — кряхтели воспитанники, сталкиваясь головами над страницей. Учитель истории у них был устрица. Нечего и говорить, что никто из них ничего не слышал об июньском восстании парижских рабочих в 1848 году, но знание приходит в горячие головы с быстротой телеграфного толчка, дай только шифр. Они уже превосходно во всем разбирались: и в том, как умеренные республиканцы победили монархистов при помощи работников (Чернышевский называл в статье парижских пролетариев работниками), и в том, как эти республиканцы ничем не помогли работникам в благодарность за их помощь, какие бессмысленные, издевательские были открыты ими «национальные мастерские», где платили деньги за видимость труда, как постепенно перетянулись в эти мастерские все рабочие Парижа, а «умеренные республиканцы» так же глупо, как открыли, сразу же и закрыли их, оставивши сотни тысяч людей без хлеба. Вся трагикомедия «умеренных» у власти, их бессилие, неумение управлять, их пустой и жалкий теоретизм, смешное благородство, переходящее в тупую жестокость, их провокация с рабочими, лишенная здравого смысла, вызвавшая революцию, — и потом расстрел, расстрел из пушек регулярной армии десятков тысяч голодных, обобранных, обманутых, сбитых с толку пролетариев, чьими руками они поднялись к власти; короткая, блестящая страница истории; урок, рассказанный Чернышевским удивительно просто и ясно, так потряс их, как будто они заглянули в тайну мироздания.
— Это сама истина, — сказал Странден.
Статья обрывалась на половине, и вот уже с месяц как Захаров обещал им принести номер, где помещено продолжение, и не приносил. Несколько человек в классе рассуждали и спорили об «умеренных» и «работниках», словно заправские политики. Никого из читавших статью не оказалось на стороне «умеренных», хотя Чернышевский и соблюдал как будто в статье ученое беспристрастие. Но что же дальше, чем кончилось, когда же книга?
А Захаров вошел в этот день в класс темнее ночи-Ученики сразу увидели, что расстройство его адресовано не к ним. Он сел рассеянно, потом встал, упрятал руку в шевелюру, зашагал взад и вперед, нехотя, путая фамилии, вызывал, и хотя вызванные плели, что в голову придет, Захаров явно не слушал их.
За три дня до институтского акта, 20 ноября, Петербург хоронил юношу Добролюбова, умершего от чахотки. Народу на похоронах было мало, но тотчас прошел слух, докатился он и до Пензы, что Чернышевский выступил на похоронах с очень смелой речью. Про Чернышевского все знали, какой это умница и тонкий политик, как бережется он, — комар носа не подточит! — а тут вдруг такая неосторожность. Вчера приехала к Захарову из Петербурга сестра, передовая девушка, одна из тех первых девушек русских, что гостями начали ходить в университеты слушать лекции вместе со студентами, — смелое дело, сперва начальством не возбранявшееся. Она-то и рассказала подробности. Захаров был полон всем этим. Он знал и другое, — как не узнать в Пензе? Любая секретная бумага колесом катится по пензенской улице. Губернатор — все губернаторы в России — получил предписание не выдавать литератору Чернышевскому заграничного паспорта, буде ему вздумается исходатайствовать таковой через пензенскую власть. Вот, значит, до чего дошло дело. И он представил себе, как Чернышевский, потрясенный утратою Добролюбова, стоял под холодным ноябрьским ветром на могиле, задетый, обиженный малолюдством толпы, и, забыв всю свою тактику конспирации, листал озябшими пальцами осиротелый дневничок покойного: «Мы потеряли в лице Добролюбова блестящий, огромный талант. Пусть же знают, кто ускорил его кончину, кто помог смерти угасить этот дух…» И читал коротко, громко, сухо: «Сегодня вызывали к цензору… Правил статью… опять исчеркали… ездил, убеждая до хрипоты… получил выговор… изъято почти пол-листа… Опять у цензора…» В этих метаниях больного чахоткой, защищавшего каждое свое слово от, удушения, так и чувствовались припадки кашля, роковое потенье в передних, крик до хрипоты, до сплева крови в платок, борьба одного против могучего левиафана государства, против тупого самодержавного строя. Это было ужасно, должно быть, — речь на могиле, и так мало народу, чтобы услышать ее! Захаров растерянно в ответ себе помотал головой и уж собрался в учительскую, как кто-то остановил его в дверях. Ученик, заикаясь немного, — Захаров выглядел сегодня таким сердитым, — напомнил про обещанное. Уж очень хочется дочитать статью! Узнать, как провалились умеренные…
Лицо поколения, дорогое расплывчатое лицо, становилось реальностью, оживало, принимало черты.
— Друзья, друзья! — начал Захаров, воротясь в класс и присев на парту. — Закройте дверь. Крепко. Так. И слушайте меня. Автор «Кавеньяка» Николай Гаврилович Чернышевский, лучший человек нашего времени, схоронил своего друга и помощника, молодого критика Добролюбова. Не могу не сказать вам, как велика наша потеря. Но прибавлю: низко, очень низко, возмутительно низко вели себя весь год писатели дворянского сословия, недостойно светлой памяти декабристов, недостойно своих собратьев по классу — Пушкина, Лермонтова.
Среди дворянчиков, собравшихся вокруг Захарова, как ветер, прошло движение. Бледноухий и тонкий, с пробором в реденьких, золотушных волосах племянник губернатора презрительно оттопырил губы. Он тоже знал от матери про бумагу и получил строгий наказ: поменьше болтать лишнего в классе. Слова Захарова чем-то не нравились глуповатому юноше. А Захаров сжато и энергично, поглядывая то на часы, то в глаза, окружавшие его, — серые, карие, черные, голубые, внимательные, настороженные, бездонные глаза молодости, впитывающей все, как губка, — рассказал про то, как весь год докучали Некрасову, издателю «Современника», и знаменитый писатель Тургенев, и молодой офицер Лев Толстой, и критик Дружинин, стараясь выставить Чернышевского из «Современника». Григорович не постеснялся написать на него низкий пасквиль, Лев Толстой задумал, как говорят, целую пьесу, что-то вроде «Зараженного семейства», где издевательски вывести хочет Чернышевского. Тургенев в обществе назвал его клоповоняющим…
— Господа, наше дворянство любит говорить о дворянской чести. Где она сейчас, эта честь? Понимаете вы людей, вдруг где-нибудь за столом, в гостиной распоясывающихся среди своих и выдающих самое свое главное, нутро свое, что они — баре, барами родились, барами и быть хотят, а другие люди для них, в сущности, проходимцы, которым они виду не показывают, что считают их ниже себя. Ну, а тут задело за шкуру и прорвалось, и вместо того, чтобы спорить по сути, о взглядах, о том спорить, что кому дорого, что каждый считает лучшим для нашего отечества, они вдруг выдали себя криками: семинарист, попович, мещанин, прихожей пахнет, клопами воняет, вон из-за стола! Вот где косточка заговорила. Вот где аргумента недостало! Господа молодые дворяне, вы вырастете, вы — новое поколение, слушайте меня. Среди вас могут найтись настоящие люди — стойте горой за таких представителей человечности, как Чернышевский!
Уже он ушел, и швейцар, не торопясь, развернул перед ним шубу, а в классе жестоко дрались. Странден дал в зубы губернаторскому племяннику за то, что тот бессмысленно выкрикнул:
— За политику и того-с! Не маленькие! Я вот скажу дяде…
— Ах ты, Кавеньяк, сволочь! Дубина! Доносчик!
— Потише вы все-таки, он не имел права в дворянском институте, да еще в классе.
И воспитанники тут же надавали друг другу жарких затрещин, перешедших в бой.
ПРИЗНАНИЕ
Дело это для Захарова так не прошло. Донес или не донес губернаторский племянник, но губернатор узнал, директору было сделано внушение, и Захарова освободи, ли от должности. Терять ему, впрочем, и нечего было — ходил упорный слух, что институт вот-вот закроют.
Захаров тепло простился с воспитанниками, успевшими стать ближе к нему. Дано было обещание писать, спрошены адреса, старательно записаны названия книг, рекомендованных Захаровым для прочтения, и совет, где их можно достать. Года полтора перебивался он в Пензе уроками, а потом нежданно-негаданно укатил искать места в Нижний. Квартирант его, физик, не прощался с ним надолго. Он тоже делал первые шаги, чтоб выбраться из чертова болота, Пензы, в более приличное место.
Смерть Добролюбова потрясла Илью Николаевича не меньше Захарова — подумать только, всего двадцать пять лет, на целых пять лет моложе его самого, и сгорел человек, но сгорел, успев многое сделать. Старший физик читал в «Современнике» умнейшие статьи Добролюбова, дивясь его знаниям и логике, — особенно те, что интересовали его преимущественно: рецензии на книги по физике, — о магните и магнетизме, о близкой его сердцу науке метеорологии, о внутренней жизни земного шара, гипотезы о которой сильно занимали вулканистов и других ученых-геологов… Но особенно любил он прочитанную им в 1858 году рецензию в десятом номере «Современника» и даже поспорил о ней с Захаровым. Тому нравилось у Добролюбова совсем другое. А Илья Николаевич повторял с удовольствием, своими словами: «Две тенденции в обществе — к дармоедству и к труду».
Он даже переписал в свою заветную тетрадку: «В глазах истинно образованного человека нет аристократов и демократов, нет бояр и смердов, браминов и парий, а есть только люди трудящиеся и дармоеды. Уничтожение дармоедов и возвеличение труда — вот постоянная тенденция истории… Нигде дармоедство не исчезло, но оно постепенно везде уменьшается с развитием образованности».
— Учить, учить надо, идти с букварем к народу, — жарко настаивал старший физик, споря с Захаровым. — У Добролюбова то и хорошо, что он просветитель народа… А как у него сказано об инородцах! — Это был особый для старшего физика предмет, задевавший его за самое сердце… — «Настоящий патриотизм… не уживается с неприязнью к отдельным народностям!»
Захаров нетерпеливо отмахивался от спора: все это одни лишь частности, частности. Все это лишь частные детали борьбы, их много, они замечательны, каждый взмах пера остер, смотрите, как высек Добролюбов казанского ретрограда профессора Берви, против которого бушевали студенты-казанцы. Но не в этом, не в частностях у Добролюбова главное!
И вот теперь Захаров освобожден от должности, словно в подтверждение своих слов о частностях. У Ильи Николаевича сжималось почему-то сердце, словно от чувства вины перед ним, перед собой — чувства вины «без вины виноватого».
Но Илья Николаевич был человек ежедневной, упорной, добросовестнейшей работы. Такая работа, хочешь не хочешь, разгоняет мысли, облегчает сердце. По метеорологии, которою Захаров совсем не интересовался, да кстати же и всей Пензенской губернией тоже, накопилось множество цифр, груда цифр. Из них надо было сделать выводы, продумав эти цифры до тонкости, а время не ждет. Стоило институту из-за неисправности механизмов запоздать с отсылкой таблиц, как уже господин Морозов, президент Общества сельского хозяйства Юго-Восточной России, торопя, обратился с письмом: «Эти выписки служат полезным руководством для изучения климата и вместе с наблюдениями, производимыми по распоряжению Общества в разных местах Пензенской и Саратовской губерний, составляют любопытный и поучительный запас сведений». Его отчеты были полезными для отечества, для научного подхода к земледелию — разве это не шаг вперед к уменьшению «дармоедства» при помощи образования?
Ко всем этим скрытым внутренним утешениям прибавлялось еще одно. Не смея вполне признаться себе, физик был счастлив.
Каждый вечер у Веретенниковых собирались, как сердито шутил инспектор, «соискатели»: все холостые преподаватели ухаживали за Машенькой Бланк. Оттанцуют, отмузицируют и даже отужинают, а все не расходятся, и, бывало, один стремится пересидеть другого у круглого стола, за альбомом под абажуром лампы, или в амбразуре окна, у фисташковой, не первой свежести занавески с бахромой, или мешкая в разговоре уже одетым в передней и все опять и опять возвращаясь к теме, давно исчерпанной, — лишь бы постоять лишний миг возле стройной девичьей фигурки. Но самым последним как-то всегда оказывался старший преподаватель физики.
Он и днем заходил сюда: Машенька Бланк взялась усовершенствовать его в языках. Сидя рядом за иностранной книгой, наклонив головы, они серьезно занимались чтением и переводом.
Илья Николаевич знал в чужих языках не больше того, что дала гимназия, прибавил и самоучкой, но ему было ново свободное обращение с языком, знакомство не с падежами и правилами, а как бы с самой стихией речи, как это было у его молодой учительницы. В первые дни, когда они занимались французским, он чувствовал себя бесконечно ниже ее по образованию. Но как ни медленно раскрывалась она перед ним, как ни скрыто лежали в ней мысли, он стал подмечать постепенно, сколь тяготит ее недостаток систематических знаний. Воспитанная без школы и без учителей, на одном чтении, Мария Александровна вдруг вспыхивала чуть не до слез от своего «невежества», как говорила себе. Ей не хватало истории, географии, она не знала множества простых вещей, не умела их связывать во времени и в пространстве. Условные обозначения науки, до этого времени как-то обходившие ее, как-то выслушивавшиеся вполуха и выговаривавшиеся легко и без запинки — «средние века», «античная литература», «русский ренессанс», «век Екатерины», «Византия», «страны славянской культуры», «удельный период», — все это вставало теперь мучительным частоколом, сквозь который нельзя было продраться не застрявши. И однажды у нее вырвалось:
— Позанялись бы и вы со мной, Илья Николаевич, общими предметами. Я ведь не кончала гимназии.
С тех пор уроки языков неизменно чередовались у них уроками общих предметов. Илья Николаевич из ученика превращался в учителя и так ясно, с таким увлечением передавал ей свои знания, что Машенька Бланк незаметно для себя стала усваивать вместе с науками и педагогические приемы Ульянова. Как это часто бывает меж людьми, постепенно срастающимися душевно, ей непроизвольно переходили его интонации, манера наклонять голову при вслушиванье, даже характерное движенье плечом, и подчас она повторяла их в его отсутствие, при разговоре с Веретенниковыми, а сестра ее, Анна Александровна, подмечая это, хитро подшучивала над «обезьянничаньем с милейшего педагога».
Но и Ульянов незаметно для себя подражал своей ученице-учительнице в выговоре и лицевой мимике. Мария Александровна умела думать и по-французски и по-немецки, и, думая, она словно ритмически, во внутреннем жесте повторяла те навыки, приемы, тот стиль среды, где говорили на изящном, всегда приподнятом, французском и многословном, не гибком, но глубокомысленном немецком языке. Ее душа растворялась в этом стилевом жесте, и физик хотел найти эту неуловимую душу, найти свою Марию Александровну, девушку своего времени и среды.
Как-то над английским текстом, где говорилось о милой Мэри, он назвал свою учительницу уменьшительным именем Мэри, и она вскинула на него глаза, покраснела и улыбнулась такой своей собственной, такой прочно, внутренне своей улыбкой, что Илья Николаевич стал часто называть ее и много лет потом называл Мэри.
Она забирала над ним постепенно власть. Видно было, что и в семье Веретенниковых идет от нее устраивающее, хозяйственное начало. Старшая девочка Веретенниковых дружила с теткой, как с подругой, а няня советовалась с «молодой барышней», как со старшей в доме; инспектор часто, обводя взглядом жену и свояченицу, спрашивал: «А ну, как думает мой парламент?», и Машеньку звал в шутку — эта шутка тоже укрепилась в семье на долгие годы — «ganz akkurat», подделываясь под немецкий акцент.
Они объяснились совсем неожиданно, в дверях пансионской библиотеки, куда Машенька Бланк пошла наконец сдавать оба журнала, то есть и не объяснились даже, а учитель физики понял по взгляду, когда он столкнулся с девушкой, что только ее, и никого другого на свете, хочет иметь женой.
— Запишите эти книги на меня, — сказал Илья Николаевич библиотекарше.
Он хотел держать их в руках, раскрыть и тут же на месте загадать — будет или не будет, хотел перечитывать строки, читанные ее глазами, — в этом сдержанном небольшом человеке, умевшем хохотать, как младенец, покатываться с хохоту, ласковом в классе, твердом в обязанностях и тоже по-своему «совсем аккуратном», горячей волной встала вдруг кровь, он был в один миг ослеплен и порабощен тем, что почувствовал, тем, что в нем зрело все эти дни и поднималось к сердцу так медленно.
— Будьте вечером, после класса, в саду. — И Мария Александровна ответила: «Хорошо», а может быть, и не ответила, а только голову наклонила, но оба они встретились вечером на горе, где сейчас Парк культуры и отдыха и стоит высокая башенка обсерватории имени Ильи Николаевича Ульянова.
В те годы на этом месте дико и пышно рос мелкий кустарник, стояли вязы и липы, шли путаные дорожки с двумя-тремя серыми от дождей деревянными скамьями, и это место прогулок спускалось вниз по самый дремучий овраг, за которым тогда еще стоял лес.
Весь день, перед тем как подняться туда, Илья Николаевич чудачил в классе от невероятной растерянности. Десятки пар глаз проницательно следили за ним; он говорил о явлениях магнетизма дрожащим от счастья голосом; на задних партах вдруг прыснул кто-то, и чья-то лохматая голова поднялась. Следя взглядом за взглядом хитрющего, небрежно причесанного мальчишки, Илья Николаевич обернулся и мог заметить, как торопливые пальцы вызванного им к доске любимца быстро-быстро стирали только что мелом написанное слово «Маша». Ну что было поделать с ними? И что было поделать с собой? Предчувствуя великий, счастливейший перелом в своей жизни, сам испуганный бурной нежностью, ломившей его, этот человек, бледный, с сияющими глазами, едва не оборвал урока. Огромным усилием воли он сдержал себя, чтобы продолжить его и не выбежать в нетерпении из класса.
АРЕСТ ЧЕРНЫШЕВСКОГО
Весной 1863 года Машенька Бланк и старший учитель физики были помолвлены, а летом она успешно выдержала экзамен на домашнюю учительницу.
Машенька выехала раньше его в имение отца Кокушкино, где должна была состояться свадьба, а Илья Николаевич занялся устройством дел.
Оставаться в Пензе, где все разваливалось, было попросту невозможно. Он даже не мог дополучить за несколько месяцев жалованья и вынужден был написать брату Василию. В Астрахани весть о его свадьбе с барышней Бланк, дочерью петербургского хирургического врача, вызвала радостное волнение в доме. Старушка мать, сестры и брат готовили невесте подарок. Василий наскреб денег и послал брату, чтобы выручить Ильюшу перед самой свадьбой. Взволновался и Александр Дмитриевич Бланк, выдавая свою Антигону. Он громогласно разделил маленькое Кокушкино на пять равных частей, наделив каждую из дочерей особой частью, но сам жил хозяином, держа этот родительский дележ больше «в уме» и не желая, как подшучивал, быть в старости «казанским королем Лиром».
Немногочисленные крестьяне деревни Кокушкино все уже знали, что «младшая, Мария Лександровна, замуж выходит» и что «дома шьют не нашьются приданого», только вот ездить в Казань за материей, кружевами и лентами было «боязно». Казань была на военном положении из-за открытого в ней заговора. Приданое — то, что в те времена полагалось девушке ее круга и средств, — и в самом деле шилось в Кокушкине, шилось больше ее же собственными прилежными руками. Выбирался фасон поскромней, материя попрочней, чтобы дольше хватило. Милые сердцу мелочи, французские и немецкие книги, Шекспир в издании Бодри с гравюрами, ноты с ее монограммой на переплете «М. Б.», ее старый рояль — все это было уже упаковано и ждало отправки. Да, но куда же? Где начнется ее новая жизнь?
Не прощаясь с Захаровым надолго, Илья Николаевич почти был уверен, что скоро они опять встретятся. В том же году он стал хлопотать о своем переводе из Пензы в Нижний.
Нижний Новгород по сравнению с Пензой был почти столица. Купечество застроило его, подняло благоустройство, жило широко, ворочало миллионами. Макарьевская ярмарка, перенесенная в Нижний, собирала в него раз в год лучшее, что есть в России. Это отзывалось и на театре и на школах. Но главное дело было в том, что в Нижнем преподавал его старый казанский учитель, Степанов, и туда же, в Нижний, переехал директором гимназии и тамошнего дворянского института друг и сослуживец его, Александр Васильевич Тимофеев.
Друг этот был не просто друг. Он прошел через всю жизнь Ильи Николаевича и был в этой жизни своего рода судьбой. Талантливый словесник, Тимофеев учительствовал в астраханской гимназии, когда маленький Ильюша, сын портного, сидел в ней за партой. Тимофеева непрерывно повышали — от учителя в директора, от директора в округ. Но куда бы ни забрасывало его это восхождение, он неизменно звал с собой и своего бывшего ученика: устроил его в Пензе, помог ему устроиться в Нижнем и встретится с ним спустя шесть лет в Симбирске.
Илья Николаевич списался с Тимофеевым и ждал назначения. Личные его дела и политические события были так напряжены в этот последний пензенский год, что физик чувствовал себя как бы на бивуаке. Он не был революционером. Образование досталось ему так дорого, память о жертве брата Василия, непрестанное ощущение горделивого, радостного внимания к себе и своим успехам со стороны этих милых сердцу, безобидных и простых существ в астраханском домишке — матери в темном платочке, сестры, брата — было так живо и так сильно в нем, что благодарность за бытие, за труд, за личное счастье заливала ему душу, как мальчику. И он верил, что есть бог, вечная справедливость. И он был влюблен.
Но политика вторгалась в эти личные чувства и сминала их.
Шел переломный 1863 год в истории Российской империи, и люди, самые, казалось бы, далекие от политики, начинали вдруг чувствовать, что одинокой судьбы, независимой жизни в мире нет, а есть судьба общества, изживаемая сообща. Точь-в-точь как с лошадью на повороте: спущенная постромка вдруг натянулась, и человек сразу почувствовал тягло, которое он до той поры вез нечувствительно и легко.
А перелом был в том, что менялись уже на деле, на практике все привычные, вековые отношения между хозяином и работником. В это лето кончались те переходные два года после «высочайшего» манифеста, в продолжение которых крепостные должны были оставаться еще «временнообязанными», и теперь, наконец, для них наступала «полная воля». Два года в бесчисленных канцеляриях целая армия чиновников и писарей готовилась к этому дню. Отпечатаны были договорные книжки по найму; отныне «раб» превращался в наемную рабочую силу, а «барин» — в работодателя, и книжка должна была лечь между ними символом нового хозяйственного отношения.
Но ни эти книжки, ни статьи в газетах, ни призывы к патриотизму и высоким чувствам не могли прикрыть и наладить всеобщее неустройство, вытекавшее из плохо обдуманной и половинчатой реформы. В деревнях стоял хаос. Помещики капризничали, объявляли о продаже имений, переводили деньги за границу. Все видней была разница между их интересами в разных губерниях: на севере, под Петербургом, поместья стояли брошенные, помещики угрюмо щеголяли перед царем своей показной нищетой, а на юге и там, где выгодней была наемная сила, быстро возник кулак и определился помещик-буржуа. По привычной российской прохладце учреждения к этому оказались неподготовленными, тысячи запросов и жалоб с мест навалились на присутствия мучительной неразберихой, чиновники отмахивались, а тут еще упорный слух, вычитанный из прокламаций и раздутый III Отделением, о неминуемой кровавой революции именно в этом году, году выпуска обобранных, издевательски обезземеленных крепостных на волю.
Физик доживал в Пензе последние дни и только-только собрался из опустелой квартиры Захарова к будущему своему зятю Веретенникову, как поздним вечером на почтовых опять прикатила из Петербурга в Пензу сестра Захарова, главная передатчица всех петербургских новостей. В низенькой пустой спальне, еще не подметенной после хозяина, усевшись на табуретку, она шепотом, во всех подробностях, описывала прошлогодний арест Чернышевского. Про большие петербургские аресты в Пензе говорилось глухо, да и мало кто знал о них, а знавшие не представляли себе полного их значения. О Чернышевском даже слухи ходили, что его вот-вот выпустят. Так уверяли приезжие саратовцы, своими ушами слышавшие об этом в доме родичей Чернышевского, Пыпиных. Будто бы молодежь пыпинская писала из Петербурга, из самых верхних источников, что писателя ждут домой.
— Нет, это вряд ли возможно, — возразила Захарова. — Такого человека правительство не выпустит.
Перед ней на подоконнике сидели Странден и маленький изжелта-смуглый Ишутин. Сжимая ладони, с горячей на лице краской девушка в сотый раз передавала слышанное. Света в комнате не было, лишь с угла мерцал в окна уличный фонарь. Странден слушал, стиснув ладонью подбородок, обросший первым кудрявым пухом, и ему казалось, что все это он видит своими глазами: светлый, длинный, болезненный питерский вечер с неуходящим пыльным солнцем на пустом небе, темную квартиру Чернышевского, типично петербургскую. Все в этой квартире уложено, заперто, заколочено, в коридоре корзины, мебель в чехлах. Жена Чернышевского с обоими мальчиками уехала к родным в Саратов и даже лишнюю посуду в буфете заперла. Николай Гаврилович будто бы пошутил за чаем: «Ольга Сократовна все уложила и пересыпала гвоздикой с перцем, оставила только меня и то, что на мне». За чаем сидели Антонович и еще кто-то. Ждал ли он ареста? Ну, такой человек всю жизнь был готов к аресту: Антонович знает, что он перечитал все старые письма, выскоблил все фамилии и адреса, каких не надо, знать полиции, и все уложил пакетами, ясно, понятно — для будущего обыска. Но сказать, что он ждал ареста, — это нет.
— Вы подробно, последовательно!
И Захарова опять начинала про чай, про то, как ходил Николай Гаврилович по комнате, заложив руки, и вдруг раздается звонок, все сразу повернулись к дверям, в дверях заголубело и щелкнула шпора, тут уж всем стало ясно, кто пожаловал. А Чернышевский быстро-быстро повернулся на каблуках, приглашая за собой жандарма. У всех было чувство, как перед дальней поездкой, как на проводах: вот присядут на стулья, а потом встанут, обнимут друг друга…
— Ну что ж, прощай, дорогой Николай Гаврилович!
Она сказала это неожиданно громко, звонко, отрывисто, с душевной решимостью, словно осиротело все ее поколение.
Странден выходил молча, а Ишутин, захлебываясь от возбуждения, шептал всю дорогу, делая два мелких шажка на один крупный и широкий шаг своего товарища. Они теперь жили у родственников, в верхней части города.
— Мракобесию не сдаваться! — сурово проговорил Странден, отвечая скорей на собственные свои мысли, нежели на жаркие слова Ишутина.
На следующий день Илья Николаевич перебрался в квартиру инспектора, Пензенская земля горела под ним: он ждал, дождаться не мог своего назначения. И когда, наконец, пришло назначение, собрался и упаковался в одну минуту.
— Послушай! — Инспектор Иван Дмитриевич Веретенников сидел с ним по-холостяцки в кухмистерской: Анна Александровна с детьми была уже в Кокушкине. — Хоть ты и будущий, как говорят, бофрер, но дружба дружбой, а служба службой. Верни, брат, книги из библиотеки, на сей раз от тебя как инспектор требую. Держишь, держишь, чуть не два года. Думаешь в Нижний забрать — нет, извини, брат, бумагу пришлю! Штраф с тебя возьму!
И Веретенников сдержал слово. В самый день отъезда курьер принес старшему физику бумагу с казенной печатью. Илья Николаевич принял бумагу и расписался в получении. В ней за подписью инспектора ставилось на вид, что за старшим учителем физики Ульяновым числится книг из библиотеки Пензенского дворянского института четыре названия:
Брамбеус. «Фантастические путешествия»;
Тургенев. «Записки охотника»;
«Отечественные записки», 1860 г, №№ 1 и 2;
«Русский вестник», 1860 г., № 3.
Каковые книги со старшего преподавателя физики подлежит взыскать или натурой, или денежною их стоимостью…
Неизвестно, отдал ли физик два перечисленных выше журнала или увез их с собой в Нижний, но бумага за подписью инспектора еще и сейчас хранится в Пензенском государственном архиве.
МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
Осенью вверх по обмелевшей Волге шел нарядный пассажирский пароход общества «Кавказ и Меркурий», по тогдашнему времени чудо техники. Он шел от Казани к Нижнему и вез в каюте второго класса молодых супругов Ульяновых, только что повенчавшихся.
Ехать по Волге в медовый месяц было в те годы самым обычным делом, но только весной, когда высока вода, и вниз к Тетюшам, к Ставрополю, к зеленеющим Жигулевским горам, подолгу останавливаясь на шумных, заваленных всякой всячиной пристанях, скупая у болгар нарядные, красивые вышивки, полотнища ручных тканей, у чувашей всякие вязки и плетенья, а у немцев под Саратовом знаменитую сарпинку и деревянные ложки, у татар яркую пестроту посуды, и все, чем богат гений народа, или, лучше, народов, по обоим берегам великой русской реки.
А этот месяц, да еще вверх по реке, был для свадебного путешествия уже и прохладен и неудобен. На мелководных местах пароход неприятно постукивал, скребся о самое дно и дышал от усилий тяжелым, с копотью, дымом, простаивая в пути. Внизу на корме был смрад от сотни замученных переездом крестьян. В онучах, с грудными ребятами, мешками, лукошками или «струментом», они валялись там в одури, пожевывая из ладони скупые корки или кусок огурца, и даже песен не пели, даже не слыхать было, чтобы разговаривали между собой, и сухой плач грудных тотчас же пресекался непрестанным ожесточенным подбрасыванием: «Кш! Кш! Чтоб тебя!» — пока не захватит дух у младенца.
Наверху, в первом классе, убранном с отменною роскошью, — гордость и козырь акционеров, только что пощипанных в Петербурге и журналистикой, и вмешательством гласности в их келейные дела, — ехали крупные астраханские рыбопромышленники. Все, чем богата Волга с осенней путины, — янтарные ее осетры, тяжелые налимы, стерлядки малые, колечком в ухе, стерлядки аршинные, варившиеся на пару в белом вине, — надо всем этим колдовал повар, в каждой повадке показывая, что служит он, подает и угодить хочет не кому-нибудь, а господам. Но в первом классе капризно требовали щи, дупеля, телятину, персики, только не осточертевшую рыбу.
Физик ехал с женой во втором классе не потому только, что денег у него было в обрез и требовалась экономия на переезд и устройство, а потому, что по своему положению в то время и он, и жена его отходили к публике второго класса. Явной черты, разделявшей людей по виду в их чине, звании и достатке на пассажиров первого и второго класса, как будто и не было, но по нашему времени даже трудно представить себе, до чего это деление, без всяких исключений из правил, в точности соблюдалось жизнью. Молодожены ехали среди людей «своего круга»: некрупных чиновников, мелкопоместных помещиков, начинающих адвокатов — словом, людей «средней руки».
По всему новенькому, только что сшитому, по букетам и коробкам конфет и по многому другому соседи уже догадывались, что едут молодожены, и досаждали им сочувственно-любопытствующими взглядами. Марии Александровне это было несносно, Илья Николаевич попросту не замечал ничего. Вечером он никак не мог удержаться, подавая жене теплую мантильку, чтобы не прижать ее к себе закутанную, не провести с быстрой, немного дикой лаской по щеке и по лбу ее нежными пальцами, хотя знал, что ее это все еще заставит оглянуться вокруг — не видят ли, и сдвинуть бровки. Он выходил с ней под руку на палубу, ставил рядом два легких витых кресла, сажал ее, заботливо спрашивая, не дует ли, не принести ли платок, не хочется ли жене того, другого, третьего.
— Не суетитесь… Не суетись! Сядь же возле, — тихонько говорила жена.
И учитель садился так, чтоб быть к ней возможно ближе, чувствовать ее, и чаще всего они так и сиживали с биноклем в руке, почти молча.
В небе висел осколок месяца. Перед ними уходила назад обмелевшая, сине-розовая на последнем закате река. Навстречу им вниз по течению, разбрасывая миллионы искр по воде, шумно бежали пассажирские пароходы, скользили тихие баржи; вдоль берегов, у самой воды, загорались огоньки от ранних костров. На перекатах они угадывали в темноте веревки, и кто-то тянул и тянул вдалеке, завывая, ухая, бесконечно печальную, однообразную, дикую мелодию, и темная махина, груженная доверху, тенью шла мимо их палубы, — они уже наслушались, наговорились о бурлаках, о стихах Некрасова.
Илья Николаевич впервые был с ней так долго, так прочно наедине. Он привык сразу и целиком, словно и не жил никогда без нее. Но женщина привыкала медленно и все не могла привыкнуть. Десятки мелких привычек вставали в ней ропотом, глухо щемил девичий стыд, не сдаваясь по мелочам, не позволяя открыть плечи, распустить волосы. Он засыпал поздно, она хотела лечь пораньше, он долго не вставал с постели, наслаждаясь видом ее возле себя, счастьем говорить и делиться, планы рассказывать, прошлое вспоминать, а ей не терпелось, как птице, поскорей встать, умыться и начать день. Трудней всего было ей сдерживаться, чтобы сидеть сложа руки, не обидеть его внезапным вставаньем, уходом за рукодельем, уборкой каюты, хлопотами насчет завтрака или обеда.
— Ну неужели скучно тебе так, Маша, Мэри? Иди садись, слушай, что я тебе скажу…
О Волге он мог рассказывать без конца. Вначале, когда еще шли казанские берега и гористый правый берег Волги шел от них по левую руку, а далекие луговые горизонты низменного левого берега двигались справа, Мария Александровна и сама, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, с увлечением показывала мужу на знакомые места. Вот пригоршней, как пасхальные яички в зеленом овсе, рассыпались по высокому склону крыши большого села, Верхнего Услона, сюда они ездили на лодках… А там, напротив, возле устья Казанки, места сырые и топкие, и сама Казанка — неприглядное место, хоть и заслужила она песню:
Вдоль да по речке,
Вдоль да по Казанке…
Но Казань все отходит, отходит, и уже устье реки Свияги, словно сизая ленточка повязавшей старинный город Свияжск с богатым помещичьим Симбирском. Знакомо Марии Александровне и левобережное дачное сельцо Васильево, где казанцы проводят лето, и село Бело-волжское, на правом берегу, где родился казанский профессор, любимый ее мужем, — Николай Иванович Лобачевский. Но дальше места пошли уже неизвестные, да и быстро падал осенний вечер, стирая все краски на берегу.
И тогда слово брал Илья Николаевич. Покуда стоял пароход у яичной пристани Козловки, куда сбежали за дешевыми яйцами чуть ли не все их попутчики, он смешил жену меткими волжскими народными прибаутками — ведь что в народе родится, то и останется, как приклеенное: тверитяне — ряпушники, старичане — петуха хлеб-солью встречали, ярославцы — пуд мыла извели, родимца с лица не свели, ростовцы — озеро соломой палили, у нас-ти чесноку-ти, луку-ти, а навоз-ти не простой, а коневий….
— Какой же тут смысл? — дивилась Мария Александровна, не желая смеяться.
— А вот мы, астраханцы, — чилимники, а нижегородцы, куда мы с тобой жить-поживать едем, это самое страшное. Про нижегородцев народ сказывает: либо мот, либо вор, либо пьяница, либо жена гулявица.
Он везде подхватывал любопытные поговорки и запоминал их, и ему хотелось подразнить ими свою серьезницу жену, вызвать ее улыбку. А жена не поддавалась на поддразнивания, в свою очередь, из-под опущенных ресниц приглядывалась к нему, по-новому изучая его в повседневной жизни. Многое в нем она открывала впервые.
Илья Николаевич любил точность. С первых дней брака она заметила, как упрямо он сам доискивался определения того, что только «плывет в мыслях» — плывет, но еще не схвачено, не сформулировано или полузабыто — не вспомнится. Он искал словари, обходил соседей, спрашивал специалистов, спрашивал так толково и мягко-придирчиво, что и ответ невольно стремился быть точным. Мальчонка ли промычит на пристани ни то ни се вместо цены — он будет настаивать: «Одиннадцать или двенадцать?»; рассказчик ли заговорится, противореча себе, — Илья Николаевич непременно добьется, чтоб все было ясно продумано и чтоб важность знать самому, о чем ты хочешь сказать другому, стала понятна и его собеседнику. «Если не знаешь, уж лучше молчать», — говаривал он, когда слышал: «кажется… погоди, если не ошибаюсь… по моему мнению… кажись, что так, а може, и не так… нехай буде по-вашему…»
Это свойство ей нравилось в муже. Оно отвечало ее собственной ненависти к безделью в быту, скуке с пустыми людьми, досаде, когда берутся за то, чего не знают. Но это свойство напоминало, как много она еще и сама не знает и как много для нее пустых мест, лишенных всякого представления, в разговоре других людей, да подчас и в собственных, до сих пор легко, с чужого голоса произносимых словах. Она стала избегать называть понятия, под которыми ничего ясно не видела. Но не решалась побороть самолюбие, чтобы спросить мужа.
А он — педагог, великий мастер деликатности — заметил все это, невыразимо стыдился дать ей понять, что заметил, — и нежность к жене опаляла ему душу.
В такой сложной душевной работе, ощупью находя друг друга, жили они двое суток бок о бок, а Волга все уходила, уходила вниз. Приближался Нижний. Пароход заворачивал на середине реки, надвигались люди на пристани, горы арбузов, дынь, гуси и щипаные цыплята на руках, саженные рыбы в садках, скрипела разматываемая цепь, и опять стояли, стояли.
В одну из таких стоянок, когда на палубе никого не осталось — все сошли на берег, — Илья Николаевич стал тихонько рассказывать ей со всем обаянием умелого лектора про эту большую тихую реку, прорезавшую не только всю русскую землю, но и всю русскую историю.
— Как ее не любить, Маша, ведь я и родился и вырос на ней, и круг жизни очерчен ею, — буду вот колесить с тобой по ее городам, нынче здесь, завтра в другом месте. Ты заметила, сколько мы встретили разных народностей? Ведь и сейчас в Кокушкине у вас соседи татары, у нас в Астрахани калмыки — я сам отчасти калмык, — чуваши, киргизы, немцы, мордва, башкиры, болгары — кого только мы с тобой не насмотрелись в дороге! Знаешь, откуда они? Река текла с севера к югу, и древние русы шли с нею вместе, осваивали каждую пядь и сами на ней осваивались. Строили, и замечательно строили свои городки-крепостцы. Учили тех, кого покорят, и сами учились у каждого. И как талантлив, до чего многогранен русский народ! У нас в Астрахани есть Успенский собор, ты увидишь, когда поедешь к нам, что это за собор, какая в нем гармония! Глаз не оторвать! Когда Петр Великий приезжал с женой в Астрахань, он сказал про этот собор: «Во всем моем государстве нет такого лепотного храма». А кто его строил? Простой русский мужик, Дорофей Мякишев. Двести шестьдесят с лишним лет назад. И знаешь, Машенька, сколько он получил за него? Сто рублей за все про все — был сам и архитектором, и чертежником, и начальником работ, и плотником, чуть ли не сам даже камни клал. Вот какие самородки в русском народе! Тебе не холодно, милая?
— Нет, нет, рассказывайте дальше.
— Что же это — я тебе «ты», а ты мне «вы»? Штраф, Маша.
— Перестаньте, увидят…
Но Илья Николаевич все-таки поцеловал жену, поцеловал крепко в щеку и остался так, голова с головой, досказывая уже тихим шепотом:
— А в Нижнем был другой самородок, и тоже из простого народа, механик Иван Кулибин. Этот Иван Петрович Кулибин нигде не учился, никаких школ не кончал, но был от природы до того одарен, что самоучкой осилил механику. Изготовил электрическую машину, телескоп, микроскоп, изготовил знаменитые свои часы. Екатерина Великая поставила его главным механиком над всеми русскими мастерскими и повелела, как тогда говорилось, «делать нескрытное показание академическим художникам во всем том, в чем он сам искусен». Не скрытно, заметь, — а чтоб широко разойтись знанию. И подумай, ведь этот народ был насильственно, словно древний раб, закрепощен помещику… Сколько же талантов он даст освобожденный!
В немой ласке она дотронулась рукой до его непокрытых волос, похолодевших от ветра.
Муж притянул к себе эту ласковую руку, и ему захотелось опять услышать, как она поет, облокотиться на спинку стула в гостиной Веретенниковых, впитывать мягкие, бархатные звуки «Фиделио» и вообразить на минуту, что это чужая, гордая Машенька Бланк, и все для того, чтоб открыть глаза и увидеть, что это не Машенька Бланк, а Машенька Ульянова.
НА НОВОМ МЕСТЕ
В один из свободных вечеров в Нижнем, а их оказалось совсем мало, Мария Александровна села писать сестре.
Проставила число и месяц, вывела «Дорогая Аннушка» и долго сидела над бумагой. Ей хотелось начать с описания Нижнего Новгорода. По сравнению с Пензой и Казанью это была настоящая столица — так шумно, такие большие здания, лавки, театры, храмы. Улицу пройти надо с оглядкой — такие лихие тут выезды, и чего только, каких только нет и карет и повозок! Но ее поразило не столько это. Ей хотелось как-нибудь передать сестре то особенное ее впечатление от Нижнего, что он из всех виденных ею городов самый русский.
Правда, муж ей все время читал лекции по истории, но даже и без этих лекций в Нижнем на каждом шагу ее поражала русская история, не мертвая, а живая и живущая во всем обиходе — в веселом, вольном окающем говоре населения, в ресторанной еде, лакомствах, зрелищах, в приходящих на рынок со всех окрестностей торговать каких-то дремучих, саженных ростом, суровых иконописных мужиках, в ярмарке, конец которой они с мужем еще застали.
Раньше на театрах она часто видела пьесы из старины, на маскараде и сама один раз нарядилась половецкой девушкой; она знала, как русские испокон веку и дрались, и торговали с монголами, но одно дело слышать об этом, как о далеких временах, а другое — видеть незнакомый народ своими глазами. На ярмарке в новомодных одеждах, среди самой современной обстановки, в пестроте населения ей почуялось множество исторических типов, — не те времена, не те костюмы, но чем-то древним-древним из-под этих костюмов веяло на нее от торговцев-татар, заезжих персов и греков, от цыган с их медведями и гадалками, от каруселей, от ходивших по ярмарке крестьян в национальных костюмах, от разных привезенных хоров и танцовщиков — мордовских, украинских, черкесских, и все эти чужие типы ярче и понятней оттеняли для нее русский тип, словно в лицах рассказывали про русское прошлое.
Муж показал ей домик Петра Великого, где Петр, неугомонный царь-путешественник, останавливался, когда плыл на Азов и Астрахань; она уже знала, что здесь, в Нижнем, знаменитыми новгородскими плотниками еще в шестнадцатом веке строились и спускались на Волгу первые русские суда. Она подробней узнала и про тот народный подвиг, когда Москву осаждали ляхи и литовцы, а в Нижний пришел за помощью князь Дмитрий Михайлович Пожарский, поклонился вольным посадским людям — не дворянам и не знати, а людям простого звания, — и как «нижнегородские жители, всяких чинов люди, выбрали нижегородца посадского человека доброго Косму Минина в полк к князю…» Все это она как будто еще видела на улицах Нижнего, в чертах потомков, сохранивших тип и характер предков, в старинной стене Кремля, в Коромысловой башне, в вольной суетне, ничем не похожей на сонную дворянскую Пензу и даже на университетскую Казань.
Но вместо того, чтобы как-нибудь излить сестре на бумагу свои впечатления, Машенька обидно почувствовала, что она никакая не писательница, и письмо вышло в две странички: о том, что живет она с мужем счастливо, хотя муж непоседа, набрал себе множество уроков — почти его и не видишь. О том, что тут, кроме Ауновских, еще Захаровы, — про Захарова ходят слухи, будто он лишен права преподавания. Много тут и воспитанников Пензенского института, между прочим тот самый сорвиголова Странден, который столько испортил крови Ивану Дмитриевичу, первый ученик Васильев и еще кое-кто.
Сестра ответила очень длинно. Она жаловалась на «своего» и прибавила: «Мог бы в первый год брака быть повнимательней, подомоседливей хоть твой-то! Ведь умеет же он быть внимательным к своим обязанностям. Я нахожу — это чересчур. В эмансипации меня не упрекнешь, терпеть стриженых не могу, но со стороны мужа такая abondance, всего себя делу, это тоже излишне, это забыть, что жена имеет право на вас».
А Илья Николаевич, и правда, набрал себе сразу много дела. Был старшим учителем в мужской гимназии преподавал в женском училище да еще взял на себя обучение планиметрии молодых землемеров: при гимназии открылись на летнее время землемерно-таксаторские классы. И, кроме всего, стал с первого сентября еще и воспитателем при пансионе дворянского института. Надобности соглашаться на последнюю должность Илья Николаевич не видел, но уступил Тимофееву.
Это была новая, очень важная, по мнению министерства, должность. Не один только Пензенский институт — почти все дворянские институты переживали в этот год жестокий кризис. Там, где и денег много, и учителя хорошие, все-таки вмешивался «дух времени», как говорилось в обществе, а «дух времени» был явно против сословных закрытых заведений, против изживших себя пансионов с их полуграмотными, грубыми надзирателями. И министерство в виде опыта, желая все же сохранить интернаты, ввело в новом уставе гимназий вместо прежнего надзирателя новую должность воспитателя с университетским образованием.
Илья Николаевич искренне думал, что эта новая должность введена министерством из соображений чистой гуманности, чтоб с детьми был воспитатель образованный, знакомый с педагогикой, понимающий душу ребенка. Он бегал с Благовещенской площади, где была гимназия, за угол, на Варварку, где находился дворянский институт, едва успевая побыть дома и превращаясь из доброго учителя в такого же доброго воспитателя. Но, удивительное дело, — гимназисты любили и уважали учителя Ульянова, а институтские воспитанники чурались и бегали от воспитателя Ульянова, хотя и человек и метод оставались одни. Это его раздражало и мучило, и к жене он приходил пасмурный, жалуясь на переутомление, а ей казалось, что ему скучно дома.
В каждом браке есть одна такая пробная минута испытания, когда гвоздь, на котором все держится, как будто начал шататься и вот-вот выпадет. И тут все дело в том, как будет дальше, — пойдет ли еще расшатывать его жизнь или двумя-тремя крепкими ударами вколотит уже так глубоко, что и не вынешь потом.
В жизни Ульяновых этой пробной порой была первая зима в Нижнем. Мария Александровна видела, что муж живет ею, — но как живет ею? Не будь ее, уйди она сейчас — и словно вынесут лампу из комнаты, так потемнеют и посереют для него мысли, какими, поднимая с подушки голову, бывало, делится он с ней, сонной, и люди, к каким все бегает и говорит, говорит о своей педагогике, о детях. Но лампа ведь не на себя светит в комнате, и люди смотрят не на нее в ее свете.
Машенька видела множество семейных ссор вокруг, где занятый муж мельком замечает жену, а она делает ему так называемые «сцены» за это. Видела она и другое: как расстроенная жена ищет сочувствия в детях, в няне, выхватывает из кроватки спящего ребенка, прижимает его к себе, зацелует — все это были нервы, женские нервы; какая страшная, разрушительная вещь эти самые нервы! Она искала мысленно, за что ухватиться, чтоб у них никогда не было такого, не появлялось желания всплакнуть в подушку, скапризничать, раздражиться. И первое время, как все женщины в мире, она помогала себе тем безотчетным чувством блаженства, какое кажется вечным и неисходным. Оно волной шло от мужа к ней, вязало их мысли в работе. Он прибегал на большой перемене, между уроками, среди дня, находил ее в кухне в фартуке за чисткой картофеля, встречал на улице, когда она шла с корзинкой купить что-нибудь. После коротенькой встречи оставалось сиянье внутри, делавшее такими спокойными, рассудительными, добрыми ее деловые разговоры, отношения к людям. Ей долго казалось, что это только у них и что ее сдержанность хранит это счастье, а у других нет и не может быть этого, но вот в счастье стали врываться какие-то диссонансы. Два-три раза она приревновала его совсем без смысла. Ей делалось тяжело в его отсутствие. Появилась и раздражительность — это жадным становилось то самое чувство, в котором она искала опоры от нервов. Чувство медленно пожирало все остальные интересы, музыку, даже порядок в доме, и, что вовсе было несвойственно ей, она стала залеживаться по утрам, растягивая свою лень, стала задумываться и, не делая ничего, вдруг мелко, часто позевывать от утомления, накоплявшегося от этого все растущего чувства.
В тот день, когда она писала письмо Аннушке и в нем невольно нажаловалась на мужа, ей стало от этого неприятно и совестно, а все-таки она вышла на Варварку и сама отдала письмо на почту, а выходя с почты, лицом к лицу столкнулась с учителем Захаровым.
— Легки на помине — я только сию минуту в письме о вас написала!
— Значит, хоть одна добрая душа меня помнит, Мария Александровна. Ну что, как муж ваш, как его самочувствие?
Захаров с виду опустился немного. Наросла щетина вокруг рта, где он раньше сбривал, возле глаз собрались морщины, цвет лица был желтый, и на пальто недоставало средней пуговицы. Но он ей обрадовался, и она ему, безотчетно. Узнав, что Мария Александровна идет в ряды, он взял из ее рук «пещер» — плетеную корзину с крышкой — и захотел проводить.
— Илья Николаевич учительствует, воспитательствует…
— То есть как-с?
— В институте. Нельзя было отказаться, Тимофеев сам просил, и я почти что не вижу его.
— Зачем, зачем он это, экий он! — Захаров остановился даже и пещером взмахнул. — Э-эх, Илья Николаевич! Что такое эти воспитатели? Прежние наши фельдфебели, если на то пошло, честнее были, драли и в карцер сажали, донос делали за курение табачишки в ретираде — извините за грубое слово, — а от этих ждут, чтоб дипломатничали, политику разнюхивали… Да-с, Мария Александровна, дорогая моя молодаюшка, в гнусные времена живем!
Он быстро оглянулся вокруг — март, чудесный месяц март. Звук в морозном воздухе висит прозрачно, как сосулька с крыши, дремлют в тулупах извозчики, выпятив ватные зады, солнце, и соглядатаев нет, — все-таки он снизил голос:
— Вы присмотритесь, что только делается. В Казани прошлой весной, думаете, был заговор? Люди собирались, по-российскому турусы разводили, «революцию больше в уме пущали», как выражается наш сатирик, — а на них военным положеньем, арестами, ссылками. У меня сейчас тут проездом приятель один, Красовский Александр Александрович, тоже словесник, он в Вятке в семинарии учительствует, так его ученики были замешаны в это дело, он рассказывал в подробностях. На каждого из нас, носителей света, гончую держат — молодежь в интернатах, в пансионах, как горючий материал, тонкими, образованными, благонадежными воспитателями приглушить, так сказать, хотят, ну и культурнее поразобраться в ней, чем она дышит…
— Боже мой, что вы такое говорите!
— Слышали про здешнего учителя Копиченко, нет? Арестован-с. У меня обыск, обыск произвели за честность мыслей. Лучшей молодежи хребет ломают. Да вы читайте журналы, между строк видно.
Она шла со стесненным сердцем и больше ему не возражала. Ей сразу стало ясно, что угнетало Илью Николаевича. До сих пор она вместе с ним видела в этой новой должности «прогрессивную меру», шаг вперед, победу нового духа времени, а слова Захарова все перевернули в ее голове. Он довел ее до мясного ряда, подал пещер, поглядел добрыми, все такими же сослепу на всех глядящими, в одну точку упершимися глазами из-под неаккуратно разросшихся бровей, и она с уважением почувствовала, что в этой одной своей точке он видит куда больше и лучше, чем другие видят в целой окружности.
— Прощайте, Мария Александровна, бог ведает, когда еще приведется. Я в губернию, в управляющие еду. Жить-то ведь надо, вопрос, так сказать, насущного хлеба-с. Кланяйтесь Илье Николаевичу.
Она все была задумчива, покупая мясо, все была задумчива, гуляя из конца в конец, глубоко под вечер, дожидаючись мужа, по длинной их квартире. Квартира была при мужской гимназии и состояла из четырех комнат. Шли они все в ряд. Если открыть двери из крайней и стать на пороге, то можно было увидеть и всю анфиладу, сквозную, как в музее. Но в ней не было однообразия — и обои разные, и цвет мебели, и назначение у каждой свое. Самая светлая и крайняя приготовлена под детскую; за нею небольшое зальце с дубовыми креслами и трельяжем и ее рояль у стены. За этим зальцем — веселая, в ситце, столовая, а за столовой кабинет Ильи Николаевича, куда был доступ со стороны коридора, и не только членам семьи или гостям, а и гимназистам, заходившим по делу, и сослуживцам. Общую спальню они не сделали, и так пошло с Нижнего, Илья Николаевич, когда появились дети, спал на диване у себя, а мать — с детьми.
Дверь в кабинет скрипнула очень осторожно — Илья Николаевич входил на цыпочках, думая, что жена уже спит. Но с несвойственной ей горячностью Машенька уже летела к нему навстречу, опустила вдруг обе руки ему на плечи и бурно его притянула к себе, с жалостью чувствуя, что он маленький, чуть не меньше ее, и худой, и от его одежды пахнет той человечьей большой усталостью, когда весь день одежда работает на человеке в службе, не смененная, не встряхнутая, не снятая хоть после обеда на полчаса. Поддаваясь ее неожиданной горячности, муж прижался к ней, как ребенок.
— Душа моя, что ты сегодня такая хорошая у меня? И не спишь почему? Что это, Машенька, зажги свет?
Все три вопроса сделаны были разным тоном — первый ласковый, не вопрос даже, а промурлыкал его, откликаясь на ласку и думая, что у нее настроение такое. Но в следующую минуту он сердцем понял в ее объятии что-то неладное, и уж третий вопрос зазвучал тревожно, по-деловому.
Он сам зажег лампу на столе в кабинете и опять подошел к жене. Но Мария Александровна уже стягивала с него мундир, уже подняла кувшин с водой — полить ему на руки, уже звенела тарелками в столовой, звала Настю с горячим ужином из кухни, и постепенно, отдаваясь отдыху, вдыхая запах подогретого жаркого и разжевывая пышный, вкусный, с хрустящей корочкой хлеб, Илья Николаевич успокоился, а вернее — вернулся к тому скверному, пасмурному настроению, с каким всякий раз возвращался из института, со своей воспитательской должности.
— Знаешь, Маша, Розинг этот уже ничем не стесняется, ведет под Тимофеева такой подкоп, что даже ученики заговорили.
Розинг был интриган, желавший устроиться на место Тимофеева директором института. О нем все знали, что он невежда и картежник, брал на старой службе взятки, и на его происки сам попечитель округа заявил, что таким, как господин Розинг, не должно быть и не будет места ни в одном учебном заведении. До сих пор Мария Александровна глазами мужа глядела и на Розинга, и на его подкоп под Тимофеева, считая, что никто не допустит заменить культурного и энергичного Тимофеева подозрительным Розингом и что происки его — прямо позор, прямо анекдот. Но сегодня и тут ей все показалось по-другому.
— Им больше ко двору Розинг, чем Тимофеев!
— Да что ты, Маша!
— Убеждена в этом. Правительство как раньше защищало свою власть, так и теперь защищает, только старается это умней делать. Я сегодня видела Захарова…
— А-а!
— Нет, не а-а, — покраснев, она передразнила мужа, но тут же подложила ему вкусный хрящик из соуса. — Я сама знаю, что это так. Ты вот жалуешься на институтских мальчиков, а тебя в гимназии в классе обожают. Что ж, мальчики, что ли, другие, какая-нибудь порода особенная? Всюду дети одни, только ты в институте для них враг и надсмотрщик, и сколько ты не старайся, они тебя не полюбят, Илья Николаевич. У них секреты свои, они вот по ночам, Захаров сказал, от руки целиком, всю новинку Чернышевского — роман «Что делать?» — переписали, а скажут они это тебе? Нет, не скажут, а если бы сказали, ты что должен? Довести до директора, на то и воспитатель. Ну как же им, скажи, любить тебя, чего ты от них дождешься?
Ей было ясно теперь, что не скука дома — до того ли ему, — а, должно быть, давно уже Илья Николаевич думал и думал над смыслом этой своей «прогрессивной» должности, и пасмурнее он был в эти дни совсем по другой причине, гораздо глубже, чем даже ей казалось.
— Ильюша, милый, откажись от этой службы! Нам хватит по горло, не гонись за жалованьем. А Тимофеев — пусть себе Розинг подсидит Тимофеева, ему тоже лучше уйти из института.
Она редко называла его Ильюшей, и сейчас это вырвалось у нее не намеренно. Голос, обычно сдержанный, слова, всегда своим тоном напоминавшие барышню Бланк, его милую учительницу иностранных языков, зазвучали сейчас так просто, так по-народному, словно в Астрахани мать воскликнула.
Илья Николаевич встал с места и заходил по комнате, и все молча ходил и ходил, пока она, тоже молча, убирала со стола. А потом вдруг, обняв жену за плечи, он потянул и ее ходить с ним, вот так, из комнаты в комнату, по всей анфиладе, и стал ей рассказывать о своих пробных уроках в землемерно-таксаторских классах:
— Маша, это прямо какая-то особенная порода людей пошла: хватают теорему с полслова и сейчас же в практику; вот я теперь на опыте замечаю, какая разница — детям преподавать и взрослым. А главное — работы, работы в деревне! Эх, надо бы нам с тобой тоже в деревню, Мэри!..
По голосу мужа, по тому, как он переменил разговор, перешиб собственные мысли, и как, идя с ней рядом, шаг в шаг, нога в ногу, не отвечая прямо, отозвался на тревогу ее, Мария Александровна почувствовала то понимание без слов, ту жизнь во внутреннем единстве, какой раньше, в первые нижегородские месяцы, как будто еще не хватало им…
ВОСПИТАНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Розинг действительно подсидел Тимофеева. Нижегородское дворянство, мимо округа, подало прошение прямо на имя царя, и царь, «в уважение к ходатайству» и «неизменно благосклонный» к дворянству нижегородскому, лично назначил Розинга директором, а чтоб попечитель округа не обиделся, пожаловал его чином тайного советника.
Илье Николаевичу было приятно развязаться с институтом, и он ушел. А Мария Александровна именно с этого вечера, как ей казалось, нашла себя, — или медовый месяц закончился, заменясь буднями? Но только однажды, когда за мужем захлопнулась дверь и в квартире сделалось пусто, она поймала себя на новом чувстве.
Раньше, бывало, весь интерес уходил ему вслед и кормился памятью, ожиданием его присутствия, и ей нравилось делать лишь то, что имело прямое касанье к нему, — готовить любимые его кушанья, вытирать пыль с его книг, раскрывая и перечитывая те места, где Илья Николаевич подчеркивал карандашом, или просто вдруг останавливаться перед висевшим на гвоздике домашним халатом мужа, соображая, где и что починить ему, — словом, и двигалась она, и ходила в круге времени своего мужа. А тут вдруг, не успела захлопнуться дверь, какое-то воровское чувство своего времени охватило ее, и ей казалось, что она рада, что Илья Николаевич вышел из дому.
На самом деле это был возврат — возврат к той личной деятельности, которой не могло быть в присутствии мужа, когда круг его времени совершенно и полностью поглощал ее время. С каким-то новым, приятным волнением, в полном одиночестве, она вкусила это спокойное, свободное, свое собственное время, а свое время ведь тоже любишь не меньше, чем человека, и у каждого в жизни должно быть это свое время.
Оставаясь теперь одна, Мария Александровна думала. Голова у нее яснее работала. Сотни упущенных мелочей становились на место. Нервное напряжение, расход сил на чувствование заменялись глубоким, здоровым выдохом. И, даже если не клеилась работа, одиночество целило и восполняло ее, и нервная убыль, как выбоина в кристалле, затягивалась и заживлялась своим же внутренним веществом.
Но и сам Илья Николаевич стал больше просиживать дома. Он еще в Пензе с 1859 года начал с особым, свежим интересом разворачивать ведомственные книжки журнала министерства народного просвещения, в который его коллеги заглядывали разве что по долгу службы — просмотреть назначения и приказы. Между тем этот журнал с конца пятидесятых годов, когда во главе его стал Константин Дмитриевич Ушинский, делался все интересней и содержательней. В нем находил Илья Николаевич множество новых сведений о той высшей, по его убеждению, науке, которую и наукой-то стали звать совсем недавно, — науке воспитания и образования человека.
Еще будучи гимназистом, он как-то получил у своего любимого учителя математики, Степанова, старый номер «Казанского вестника». Этот номер — за август месяц 1832 года, — вышедший в свет, когда Ильюше Ульянову был только один годик от роду, показался ему, кончающему гимназию, и по шрифту и по языку, очень уж выспреннему и малопонятному, чем-то совсем устарелым, если б не одна статья, ради которой Степанов и берег его благоговейно. То была речь математика Лобачевского «О важнейших предметах воспитания».
Степанов дал ему прочесть эту речь, чтобы обратить внимание любимого своего ученика на места, подчеркнутые красным карандашом, места, имевшие касание к математике. В виде напутствия Ильюше, мечтавшему перейти из стен астраханской гимназии под своды Казанского университета, должны были служить эти подчеркнутые строки: «Не столько уму, сколько дару слова одолжены мы всем нашим превосходством перед прочими животными». Но из всех языков мира самый лучший — это «искусственный, весьма сжатый язык, язык математики». Именно «математики открыли прямые средства к приобретению познаний». Мир чисел не выдумывается из головы, он лежит под покровом вещей, он отвлекается от самой природы, выводится из ее законов. «Их указал нам знаменитый Бэкон. Оставьте, говорил он, трудиться напрасно, стараясь извлечь из одного разума всю мудрость; спрашивайте природу, она хранит все истины и на вопросы ваши будет отвечать вам непременно и удовлетворительно».
— Прочитал эти рассуждения? — спросил на следующий день Степанов. Ильюша не признался тогда учителю, что совсем не подчеркнутые красным строки, а другое в речи Лобачевского понравилось ему больше всего и заставило задуматься. Так понравилось, что много раз потом он вспоминал эти слова и находил в них помощь и опору.
Большой ученый, стоявший во главе самого знаменитого университета российского, посчитал великим, серьезным делом воспитание человека! Этот ученый спросил себя: «Чему должно нам учиться, чтоб постигнуть своего назначения? Какие способности должны быть раскрыты и усовершенствованы, какие должны потерпеть перемены; что надобно придать, что отсечь, как излишнее, вредное?» Спросил — и сам же себе ответил: «Мое мнение: ничего не уничтожать и все усовершенствовать. Неужели дары природы напрасны? Как осмелимся осуждать их?.. Всего обыкновеннее слышать жалобы на страсти, но, как справедливо сказал Мабли: чем страсти сильнее, тем они полезнее в обществе; направление их может быть только вредно. Что же надобно сказать о дарованиях умственных, врожденных побуждениях, свойственных человеку желаниях? Все должно остаться при нем, иначе исказим его природу и повредим его благополучие…»
И сколько еще необыкновенных мыслей заложено было в этой речи! О том, что человек может и должен жить до двухсот лет. О том, что жизнь сокращается от незнания человеком меры, от невежества — от невежества! И «наставник юношества» должен помнить все это, должен формовать совершенного человека, его вкус, его умение наслаждаться жизнью, умение знать меру и «чувствовать непрестанно новое», потому что «единообразное движение мертво» и «покой приятен после трудов».
Вся сложная наука, все тонкое искусство образовывать человека еще чем-то смутным, не вдруг понятным, но уже пленившим воображение, как внутренний жар, охватило Ильюшу Ульянова от прочтения этой речи. И каким огромным богатством показался ему человек! Вот стоит дитя на улице. Его держит за руку няня. А это дитя, как семя какой-нибудь пальмы или кедра ливанского, держащее в малом своем объеме все царственно-прекрасное дерево, несет в себе множество даров природы — умственных, сердечных, телесных, и ни один не надо отсекать — надо только развивать и растить их и доводить до совершенства.
С тех пор прошло четырнадцать лет. Он собирался пойти на юридический. А стал физиком. Он видел страшную старость Лобачевского — где уж дожить до двухсот лет! Но наука о воспитании, мысль о важнейших предметах воспитания никогда не оставляла его, принимая все более простые, разумные, человеческие очертания. Илья Николаевич много читал в эти годы и понимал, что та же мысль — о «естественности», об уважении к природе человека, о воспитании как о помощи самой природе, а не насилии над ней — лежит во всех современных ему учениях о педагогике. Не чистая доска, на которой пиши что хочешь, не «tabula rasa», нет, ребенок — это человек, и подходить к нему надо как к человеку. Но миллионы детей, море человеческое, остаются без школы, без наставника, без грамоты, словно травинки в поле, вытаптываемые ногами… Невежество, сокращающее жизнь!
И никто из его коллег, кроме, может быть, Александра Васильевича Тимофеева, не понимал, как может он с таким страстным вниманием штудировать старые номера министерского журнала. А там были читанные и зачитанные им статьи Ушинского, там проскальзывала жизнь, практика жизни даже в сухих приказах. Там речь шла о десятках мер, принимавшихся русским обществом, чтоб догнать в просвещении другие, более передовые страны. И простая строчка о каждой новой открытой школе, о звуковом методе обучения грамоте звучала для него, как песня.
Ушинский в двух старых номерах 1857 года так замечательно написал о народности в общественном воспитании. Он рассказал о различных педагогиках в различных странах, и физик Ульянов, так страстно любивший путешествия, но так мало ездивший по белу свету, словно собственными глазами видел перед собой школы английские с их воспитанием характера, выдержки, здравого смысла; школы немецкие с обширностью их образовательных предметов, с уклоном в философствование и теорию; школы французские с их внешним многознайством, с умением болтать по методу Жакото, отбросившего обученье грамматике и «налегшего на детскую память», на обезьянничанье, на легкость подражания и заучивания с налету… Но каждый народ вкладывает в школу понятие о своей народности, черты своего общего характера, сложившегося исторически.
«А мы, русские? Как и чему обучать, какую школу создать?» — спрашивал себя Илья Николаевич над книгами, делая выписки из статей Ушинского. И прежде всего самое главное — трудиться, трудиться на этой ниве, умножать освещенные места на огромнейшей темной карте Российской империи. Как выразился Ушинский о деятельности, о труде? «Труд сам по себе… так же необходим для душевного здоровья человека, как чистый воздух для его физического здоровья…»
Лампа в его кабинете начинала коптить: керосин выгорал. Встав на цыпочки, прерывая весь нескончаемый поток дорогих ему мыслей, он дунул в стекло, потушил огонь и тотчас прикрыл стекло бумагой, чтоб заглушить чадный запах дымящегося фитиля, отравивший ночной воздух.
Ощупью шел он по анфиладе комнат в спальню жены, зная, что она еще не заснула и ждет, когда он ляжет. Наклонясь к ней и ощупью найдя лицо ее, он приложился щекой к ее щеке, в безмолвной ласке передавая ей свое сегодняшнее возбуждение мысли. Она отыскала и пожала ему тихонько руку. И установившееся между ними прочное внутреннее единство, когда и слов не нужно, сразу охватило его большим благодарным чувством душевного успокоения.
МУЗЫКА И МЕРА
Каждое двадцатое число Илья Николаевич, посмеиваясь, приходил к жене прямо из передней; едва скинув пальто, вытягивал из грудного кармана толстый бумажник, налистывал, смочив большой палец, оттуда бумажек на десятки рублей, потом прятал бумажник и доставал из брючного кармана круглый кошелек. Из кошелька сыпал поверх этой кучи несколько золотых, большие серебряные рубли и мелкие деньги и, весело сказав: «считай, хозяюшка», брал себе сверху один рубль «на баню» и спешил сиять мундир, вымыть руки и выйти в столовую к обеду.
На эти деньги она должна была сделать очень многое, счетом за месяц, и научилась так поступать с ними: завела ровно столько конвертов, сколько разных трат, надписывала: «сестре Федосье Николаевне в Астрахань», «за квартиру», «за дрова», «керосин», «Насте жалованье», «Илье Николаевичу починка обуви», «извозчики» и прочее и прочее, — и еще один, тайный конвертик — «маленькому на туалет».
Деньги были для нее совсем новая вещь. Она никогда раньше их не имела и привыкла обращаться в жизни с продуктами, а не с деньгами. В деревне на ее руках было почти все хозяйство — куры, огород, плодовый сад. Она отлично знала, как квохчет курица, когда ходит «пустая», и как меняется квохтание, когда несется; как надо вовремя заметить наседку и посадить ее, чтоб не исчезла в саду на целый месяц, устроившись где-нибудь в густой крапиве. Умела ухаживать и за плодовым садом, опрыскивать яблони, не дать молодой яблоньке раньше времени вскормить гибельные для молодого роста плоды, а сорвет первые четыре-пять зеленых яблок и зароет тут же, у корня дерева. Все это была наука, своеобразная физиология природы, и она имела еще одну сторону: всякий раз, как эти, дорого дававшиеся и так медленно создаваемые куриные яйца, фунты клубники, молодые цыплята, сливы и яблоки обращались в деньги, то оказывалось, что деньги — неслыханно дорогая вещь, до того их мало дают за вложенный человеком в природу сложный долгий труд. Ей была поэтому понятна скупость крестьян, продававших свои продукты, постоянно торгуясь, и ей тоже всегда казалось, что за продукты дается меньше, чем они стоят.
Когда из города привозили шерстяной отрез, Мария Александровна и его невольно прикидывала в уме — не на деньги, а на яйца, фунты яблок и ягод, битых цыплят.
А сейчас приходилось отвыкать считать на фунты и цыплят и привыкать считать на рубли и копейки, но хотя фунт мяса стоил на деньги очень дешево, все же Марии Александровне было противно и невозможно привыкнуть выливать прокисший суп, нерасчетливо наварив его столько, что и съесть некому, или мышей плодить в ненужных запасах. Она пыталась найти меру — покупать и готовить ровно столько, сколько нужно, и подметила, как соседние дамы, учительские жены, осуждают ее за это. Раза два Настя ей передала, что директоршина Агафья или шапошниковская Нила «говорят, будто бы ихние барыни говорят, что будто бы Мария Александровна скупенька». А в лицо ей восклицали: «Вы, Мария Александровна, удивительная хозяйка!»
Рядом с ними жили директор Садоков с женой, муж и жена Шапошниковы, историк Виноградский. В первые дни приезда, когда в гимназии начиналось ученье, а ей пришлось обживаться на новом месте, обзаводиться нужными по хозяйству вещами, она не имела времени на частые встречи с соседями. Но скоро в семье директора, Константина Ивановича, обнаружилось нечто очень притягательное для нее, сильно поспособствовавшее более близкому, знакомству.
Садоковы жили не сказать роскошно, однако же с той степенью культурного барства, какая неуловимо отличала их квартиру от соседних учительских квартир. Было это не по причине высокого положения Садокова в Нижнем — кроме своего директорства, он служил некоторое время главным цензором, редактировал местную газету — «Нижегородские губернские ведомости»; и не потому, что жалованье его намного превышало обычный заработок учителя. Но жена Садокова, Наталья Александровна, была на редкость образованной женщиной, владеющей многими языками, и отличной музыкантшей. И Мария Александровна, с детства привыкшая видеть в музыке не только удовольствие в досужий час, а и одну из необходимейших потребностей своего рабочего дня, сразу почувствовала живой интерес к ней. В гостиной Садоковых стоял рояль куда лучший, чем ее собственный, кокушкинский. В углу были тесно приставлены друг к другу пюпитры для нот, и это означало, что здесь частенько музицируют не на одном только рояле. Этажерка для нот возле окна ломилась от папок. В первый же визит к ним Мария Александровна сразу заметила на стене в рамке какой-то печатный документ на немецком языке. Ей захотелось прочесть его, но тотчас неловко стало, — она и без того уже отделилась несколько от остального общества, собравшегося сюда в этот хмурый осенний денек.
Между тем ее интерес к документу заметил один из гостей. Это был стройный человек с лицом мягкого славянского типа, больше польского, нежели русского. Подойдя к ней, он улыбнулся — лицо необыкновенно, по-женски похорошело, — снял документ со стены и подал ей, поклонившись:
— Вот почитайте, каков наш город в глазах Европы!
То была вырезка из немецкой музыкальной газеты «Neue Berliner Musik-Zeitung»,[6] вырезка давнишняя, от 1850 года. Она быстро пробежала ее глазами:
«В середине великого пространства русского царства, почти в равном расстоянии от г. Санкт-Петербурга и Уральского хребта, отделяющего Европу от Сибири, лежит Нижний Новгород. Уже несколько лет тому назад и между жителями этого города, которых число превышает 30 000, постепенно распространяющаяся в образованном классе наклонность к музыкальным наслаждениям нашла сочувствие, и музыка насчитывает теперь уже значительное число образованных почитателей, которые с ревностью и любовью следуют своему музыкальному призванию. Во многих домашних кругах города, как благодетельные последствия этого направления, образовались маленькие музыкальные собрания, в которых нашли бы наслаждение истинные друзья музыки».
И дальше перечислялось, что играли на этих собраниях. Перед Марией Александровной мелькнули имена Гайдна, Бетховена, Моцарта, Мендельсона-Бартольди, Шпора, Феска, Рейсигера… а за ними фамилии исполнителей. Но разобрать их она не смогла: тень упала на строчки — это Илья Николаевич подошел сзади и через плечо ее стал тоже читать документ. Он читал медленно, добросовестно шевеля вслед читанному губами, и вдруг остановился, нахмурившись. Образованный класс, среди образованного класса!.. Как будто любовь к музыке не родилась в народе, как будто не поет, не играет народ…
— Что вас тут остановило? — грудным, приятным голосом спросила, подходя к ним, директорша, а вслед за нею и другие гости, беседовавшие ранее с директором. Медленно, шагая вразвалку, подошел и сам Константин Иванович.
— Да вот ссылка на образованные классы… — прокартавил Илья Николаевич, быстро оборачиваясь и делая любимое свое движение плечом, выражавшее недоумение. — Немцам тем более стыдно писать это. Немцы так много исследовали народную песню… Разве одни только высшие классы любят музыку?
— Ах, господин Ульянов, речь не о народе, не о деревенском мужике. Посмотрели бы вы, какое общество застал тут папаша!
— Александру Дмитриевичу пришлось изрядно потрудиться над здешними жителями, чтобы превратить их в меломанов! — вставил Садоков и свое слово.
А молодой человек с милым славянским лицом, кого здесь называли Александром Серафимовичем, стал подробно рассказывать об отце директорши, Александре Дмитриевиче Улыбышеве.
Впрочем, про Улыбышева Ульяновы и сами уже знали. Как-то, проходя с учителем рисования Дмитриевым по Малой Покровке, они увидели большой каменный особняк. Пять лет назад умер его хозяин, и весь Нижний шел за гробом, сказал их спутник. И как много интересного услышали они об этом большом барине, засыпавшем, словно в тридцатые годы, только под сказки своей дворовой нянюшки; об его прелестном помещичьем доме в Лукине, где учитель рисования бывал не один раз; о страстной его любви к музыке, к театру, о квартетах, составлявшихся у него на дому, об его почти что религиозном культе великого Моцарта!
— Я не знала, что вы урожденная Улыбышева, — сказала Мария Александровна, внимательней вглядываясь в пухлое, круглое лицо директорши с умными, немного властными серыми глазами. — Ваш батюшка имеет печатные труды по музыке?
— Вот они, — отозвалась директорша и тотчас невольно перешла на французский язык, может быть потому, что книги отца были написаны по-французски: — Ils sont bien disputes dans le monde musical.[7]
— Et bien connus,[8] — тотчас же вставил Садоков.
Мария Александровна взяла из рук директорши три маленьких томика с длинным заглавием: «Nouvelle Biographie de Mozart, suivie d’un apercu sur l’histoire générale de la musique et de l’analyse des principales oeuvres de Mozart par Alexandre Oulibicheff, membre honoraire de la sociéte philharmonique de St.-Petersbourg».[9] Они были изданы в Москве ровно двадцать лет назад.
— Дискутируют, собственно, главным образом не «Моцарта», а вторую, вот эту книгу папаши, — добавила уже по-русски Наталья Александровна, протягивая ей ноны и, отлично изданный том. — Она вышла только за год до его смерти за границей.
Вторая книга выглядела солидней, и заглавие ее было чуть короче: «Beethoven, ses critiques et ses glossateurs».[10]
— В нашей семье очень любят Бетховена, — краснея, сказала Мария Александровна. Ей захотелось прочитать обе книги, попробовать этот чудесный концертный рояль Садоковых. А среди гостей пошли бесконечные воспоминания об Улыбышеве.
Александр Дмитриевич был действительно колоритнейшей фигурой в колоритном Нижнем Новгороде, и зять его нисколько не преувеличил, сказав, как много пришлось ему потрудиться, чтоб сделать из своих сограждан меломанов.
— Не в народе, а именно в нашем так называемом высшем обществе был дикий взгляд на музыку, и с ним пришлось бороться Александру Дмитриевичу, — горячо заговорил Александр Серафимович.
Шепотом справившись у соседа, Илья Николаевич узнал, что фамилия молодого оратора Гацисский. А тот продолжал:
— Чем занято было общество? Единственные разговоры: кто сколько нанес кому визитов или кто сколько полек отхватил без передышки. В театре судили не пьесу, не игру актера, а пышные формы госпожи такой-то на сиене… Это сейчас мы говорим о судебной реформе, о волостных судах, о судах присяжных, а в те дни прислушались бы вы к нашему образованному классу! Вкусы в музыке дальше модной кадрили «Десять невест и ни одного жениха» да пародии на гусарский романс «Крамбамбули» не заходили. А господин Улыбышев страстно горел музыкой, сам прекрасно играл на скрипке, приглашал из Москвы знаменитых исполнителей. Дом его был открыт для любого причастного искусству — от графинь до уличного бродяги-певца. К нему ездили и многие литераторы, счел своим долгом зайти за месяц до его смерти даже ссыльный поэт, известный Тарас Шевченко, проездом из Оренбургской ссылки. Правда, уже был тогда прикован к постели Александр Дмитриевич, и свидание не состоялось… Но вы бы послушали, как хорошо говорил Александр Дмитриевич о музыкальном образовании народа… Да, да, господин Ульянов, — повернулся он к Илье Николаевичу, — вы совершенно тут правы, народ — исток музыки, но речь идет не о стихийности, не о песне устной — о той самой музыкальной грамоте, которая, как и словесная грамота, нуждается в школе, школе и школе.
Увидя внимательные лица вокруг, Александр Серафимович чуть кашлянул, чтобы согнать хрипотцу, и продолжал с увлечением:
— Когда я первый раз облачился в студенческий мундир — а вы знаете наш мундир с этакими чуть не гвардейскими обшлагами и стоячим воротничком с золотом, под самые щеки, — пошел представиться в новом своем виде Александру Дмитриевичу. Он меня мальчиком знал, когда я на флейте играл. Так вот, посмотрел на меня. «Из такой маленькой флейты, говорит, и вдруг такой большой фагот!» Меня после этого в Нижнем так и называли большим фаготом. И тут мы с ним хорошо поговорили. Он мне в подробностях рассказал, как проезжал чешскую землю и буквально из каждого деревенского окошка то флейту слышал, то скрипку, то фагот, а на какой-то станции четыре крестьянина угостили его таким гайдновским квартетом, что дай бог в Петербурге услышать. Это не народная песня. Это музыкальная культура народа. «Я гордился, что славянин, — говорил мне господин Улыбышев, — но я хотел бы учить наш великий, наш музыкальный народ, чтоб он с листа читал музыку, держал дома инструмент, находил, как чехи, в музыке выражение души своей…»
Гацисский весь раскраснелся, и его необыкновенно привлекательное овальное лицо с глубокими, большими глазами, его чуть вспотевшие на висках волнистые, длинные волосы показались Илье Николаевичу вдруг удивительно знакомыми.
— Погодите, погодите! — неожиданно воскликнул он, вглядываясь в него попристальней. — Да ведь, Александр Серафимович, я вас знаю. Вместе учились. Вы на юридическом… Вы в Казанском университете кончали?
Но Гацисский, хоть и учился одновременно с физиком, никак не мог припомнить его. Зато они сразу вместе, перебивая друг друга, разворошили множество общих воспоминаний.
С того дня Ульяновы ближе познакомились с соседями. Почти в каждой квартире нашлись музыканты. Наталья Александровна пела, учитель Шапошников играл на скрипке, а Виноградский мог играть решительно на всех инструментах, требуя себе на подготовку не больше как полчаса. Умел он и сам их изобретать из щипцов, гребешков, ликерных графинчиков и дразнил Марию Александровну, составляя шутовские ансамбли.
Так не хитро и не скучно повелось у них проводить вечера — с музыкой для одних, с картами для других, — то в одной, то в другой квартире. Заведено было и чтение вслух — читали романы из «Русского вестника» и зажигательную полемику между «Современником» и «Русским словом» со статьями Писарева и Зайцева. Общим любимцем был знаменитый Дудышкин из «Отечественных записок».
Илья Николаевич завел себе токарный станок и в короткие промежутки между занятиями выточил фигурки к любимой игре своей — шахматам. Часто под тихую женину музыку поигрывал он теперь в эти собственного изделия фигурки с забредшим на огонек сослуживцем.
Ему очень хотелось еще разок повидать их случайного знакомого, Александра Серафимовича Гацисского. Как и писатель Короленко несколько лет спустя, как и другой нижегородец, Максим Горький, увлекшийся Гацисским уже после его смерти, Илья Николаевич почувствовал сердечную тягу к Гацисскому. Но Александра Серафимовича в те дни поймать было почти невозможно. Садоков взвалил ему на плечи редактирование «Нижегородских губернских ведомостей». Один-одинешенек — впрочем, вдвоем с единственным наборщиком, — ухитрялся он сам и составлять, и набирать, и печатать газету, необычайно оживляя ее «Неофициальный отдел». Поднимал в нем новые вопросы, отовсюду выискивал свежую информацию, даже почин положил неслыханному в газетах новшеству: привлек десятки доброховцев-корреспондентов из Балахны, из окрестных деревень. Когда нижегородская гимназия вместе с дворянским институтом устроила заседание педагогического совета, чтоб сообща обсудить устав общеобразовательных учебных заведений, Гацисский показался на совете, сидел, слушал и заносил в книжечку. Поговаривали, что он пишет большую и смелую статью. Илья Николаевич очень ждал эту статью, но она не появилась. Ее запретила цензура.
Летом 1864 года Мария Александровна почувствовала себя неважно и прилегла — она ждала в августе ребенка.
Ей было двадцать девять лет. Для первых родов это считалось серьезным возрастом, особенно в те годы, когда девушек выдавали замуж в пятнадцать лет. Илья Николаевич не на шутку взволновался и как-то, присев к ней на кровать, предложил выписать свою мать из Астрахани. Он не часто говорил о семье, жена только угадывала в нем горячую скрытую любовь к этой семье. Но у нее вырвалось:
— Нет, уж если выписывать, лучше папу выписать, он врач.
Илья Николаевич вздохнул и уступил, но сердце в нем сжалось, вспомнилась сухонькая старушка мать, за неграмотностью продиктовавшая брату Василию свое благословение на брак, и ее ласковые шершавые ладони, какими она взяла его за голову, чтобы прижать к себе, когда он знатным гостем, кончив университет, заехал домой.
— Ну что ж, ты права, напишем в Кокушкино.
Но Марии Александровне уже стало стыдно. Она отвернулась лицом в подушку, держа мужа за руку. Слегка пожала его ладонь:
— Никого не надо выписывать, обойдусь и сама.
Скоро у них родилась дочка. Обе бабушки, с материнской и отцовской стороны, были Анны, и своего первенца Ульяновы назвали Анной.
Теперь в детской стояла люлька. Илья Николаевич прибегал в комнату на цыпочках, и все в этой комнате, ставшей немного таинственной для него, приобрело какой-то особенный звук и запах. Звуков он различал два: легонький сип, как тогда на пароходе, словно ногой наступили на мячик или мехи захлопывают и выходит воздух наружу, — это существо в люльке располагалось к плачу; и легонький чмок, когда в полутьме комнаты жена сидела в кресле, приподняв одну ногу на скамеечку, расстегнутая, с белой набухшей грудью поверх лифчика, — и дочка вбирала эту грудь в кулачки своими тоненькими, едва ощутимыми пальцами. Ножки ее, прикрытые простыней, тоже сгибались в ступнях и опять растопыривались в такт чмоканью и сосанью.
— Мне, Илья Николаевич, не нравится ее нервность. В кого она такая нервнушка?
— Да в чем ты видишь ее нервность?
Он глядел и видел ребенка, каких тысячи и миллионы.
А мать уже разбиралась, в ней рос свой опыт, отдельный от его, отцовского.
Она видела в Ане черточки, унаследованные, как ей казалось, от неслаженности и шероховатости их первого года в Нижнем. Стоило во время кормления хоть шепотом заговорить с кухаркой или с мужем, девочка резко откидывала головку и затягивалась плачем. Приходилось брать ее на руки, долго носить и носить, а потом ловко подсунуть сосок к губам, чтоб, забыв обиду, она снова качала чмокать. И мать стала по-своему с первых дней искоренять эту нервность. Сколько раз ей хотелось исцеловать свою девочку, когда та, лежа перед ней распеленатая, еще не держа головки и не сводя глаз в фокус, закатывала большие молочные белки под самое веко и пузырила слюнки на губешках в неизъяснимом удовольствии житья-бытья на белом свете. Но Мария Александровна, к удивлению соседок, вела себя с ней, как с десятым ребенком: и материнскую страстность сдерживала, и от плача головы не теряла. Оставив капризницу кричать, сколько ей вздумается, она методично готовила все, что нужно для пеленания.
Так в хлопотах прошла вторая зима в Нижнем, прошло лето, и опять началось учение в классах под снежные ветры и вьюги с Заволжья, под трескучий мороз и сухой воздух, снежинкой налетающий в фортку.
ВЫСТРЕЛ КАРАКОЗОВА
В первый же праздник рождества в семье Ульяновых зажгли елку. Илья Николаевич никогда в детстве не был на елке, да у них в Астрахани и достать-то ее было неоткуда. Но Мария Александровна задолго до праздника съездила в магазин и привезла домой вату, клей, цветную папиросную бумагу, золотую и серебряную бумагу, позолоту в баночке, проволоку, картон. С большого стола в детской убрали скатерть, зашуршала бумага под маленькими железными ножницами, запахло клеем, посыпались на пол красивые пестрые обрезки.
Мария Александровна золотила грецкие орехи и кончиком ножниц втыкала туда, где оторвался орех от стебля, петельку из канители, клеила длинные цепочки из тонко нарезанной золотой и серебряной бумаги, делала из картона баульчики и корзиночки, обклеивала их цветной бумагой и украшала переводной картинкой. Проволоку она обертывала в зеленые обрезки, на конце укрепляла разноцветные лепестки, и в одну минуту из-под пальцев ее выходили мак, незабудка, маргаритка, но венцом этой кропотливой волшебной работы был белый ватный дед-мороз в остроконечной позолоченной шапке, с палкой в руке и мешком за плечами.
Пальцы у Марии Александровны становились сухими от клея и ножниц, она покашливала, — в воздухе летали ворсинки ваты, даже прическа растрепывалась, даже передвигались часы обеда и ужина, — и однажды утром над спящей в люльке Аней, в самом углу комнаты, поставили тяжелое лапчатое дерево. Елка была свежая, густая и крепкая, она стояла прочно на деревянной крестовине. От нее шел чудесный дух праздничного кануна, дух вечного детства. Когда зажгли свет, на стене колыхнулась от нее тень, и вся комната стала прозрачной.
Украсив елку, Мария Александровна ушла в зальце, села за открытый рояль. И долго, за полночь, играла свои любимые песни, подпевая себе. В этот день она не захотела пойти к соседям, хотя их звали и были готовы зеленые ломберные столы для игры.
Жизнь страны доходила до них глухо, как море. Казалось, что история катилась по ровной дороге и что все было прочно. Весной, когда Аню стали сажать на высокий деревянный стул и прикармливать толокном из тарелочки, Нижний Новгород вместе с другими русскими губернскими городами готовился к торжественному юбилею. Исполнялось сто лет со дня смерти великого самоучки Михаилы Ломоносова. Журналы напечатали предложение отметить день этот учреждением ломоносовской поощрительной премии. Учителя словесности готовили речь на актах, печатались приглашения посетить гимназию и прослушать художественные номера музыкально-литературного утренника. Но перед самым юбилеем торжество было сорвано.
К Шапошникову приехал сын его и наследник, студент Гавря, будущий Гавриил Гавриилович второй, прикатил неудачно домой, и не один, а с таким позором всему их дому и положению в городе, с таким срамом для отца, статского советника, что не до Ломоносова, не до юбилейного скандала было учителю словесности: Гавря приехал, исключенный из университета, под негласный надзор полиции.
В первые дни квартира Шапошниковых была наглухо заперта для посторонних. Даже кухарка Шапошниковых отмалчивалась и сторонилась чужих кухарок. Не слышалось в коридоре и криков, хотя законоучитель, отец Варсонофий, высказался в том духе, что сгоряча не худо бы отцу и посечь сына. Потом двери открылись, но квартира была уже пуста — Гаврю отправили в деревню к тетке. И тут у Гавриила Гаврииловича развязался язык, и оказалось, что он получил от сына в спорах и разговорах множество драгоценных сведений на самые животрепещущие темы. И, между прочим, насчет юбилея.
Юбилейный скандал учинил, оказывается, Писарев в журнале «Русское слово». После ареста Чернышевского и шестимесячного закрытия петербургский «Современник» едва дышал. Книги его еще раз сверкнули читателю романом «Что делать?», написанным в крепости и как-то счастливо и неожиданно проскользнувшим в печать по недосмотру цензуры, но это было последней его вспышкой. «Современник» правел и плыл в тихую заводь статей Антоновича. На смену ему в Петербурге гремели тощие книжечки «Русского слова», где Писарев жестоко кусал Антоновича, задевал даже Чернышевского, чье имя нельзя было произносить в печати. А перед самым юбилеем Писарев напечатал о Ломоносове статью, где превознес черты народные и самобытные богатырской его личности, для контраста сопоставив их с Пушкиным, над которым и учинил он знаменитую свою расправу.
Чем и почему был велик Ломоносов? Тем и потому, что он был выходцем из бедного крестьянского рода, — так ответил сам себе Писарев, — пришел в Москву по столбовой дороге, полуграмотный и в лаптях, брал науку с боя, теснил к стенке дворянских недорослей, привык к независимости, никак и ни разу не поклонился ни в чьей передней. Пушкин же, мол, был представителем изъеденного низкопоклонством, оторванного от народа, утерявшего самобытность, ничтожного и пустого дворянского класса, и недостатки его характера, легкость и поверхностность — все это были роковые черты среды его, — вот что вычитывалось из статьи Писарева. Это была классовая критика — и в то же время критика класса. «Отечественные записки» ответили благородно-негодующе. Молодежь зачитывалась Писаревым и глумилась над Онегиным и Татьяной. Ломоносовский юбилей провалился. И еще потому провалился, что…
— Вы представляете моего Гаврю, мо-его Гаврю! — Шапошников развел руками. — Отец — словесник, двадцать лет учит Пушкина понимать, а родной сын — писаревец. И знаете, — тут Шапошников понизил голос и шепотом, оглянувшись по сторонам, пробормотал: — Четвертое апреля… Вот в чем секрет. Вот почему наверху не было сочувствия юбилею. Четвертое апреля, понимаете?
Юбилей Ломоносова не был поддержан царским правительством, на него не было отпущено ни копейки, и в этот день царь и двор, министры и министерства, быть может, и проснулись бы и заснули, даже не вспомнив о Ломоносове: «русской власти» ни малейшего не было дела до русских народных гениев и их юбилеев, не подоспей донесение III Отделения об осторожности в отношении даты.
Четвертое апреля сделалось пугалом. Дописывая в крепости последние страницы «Что делать?», Чернышевский, в томлении по жене, позволил себе, как он часто делал потом, помечтать о своей «голубочке», и тоска его вылилась в образе «дамы в черном», вдовы живого мужа, чье имя нельзя произнести вслух.
Но черная дама спустя два года оделась в розовое, человек средних лет едет с нею в коляске. Злонамеренный автор подразумевает, конечно, себя и свою свободу, он дает срок, он предрекает революцию, раскрывающую перед ним стены крепости… И под страницей, заканчивающей роман, поставив точку, пишет дату — четвертое апреля.
«Сие может оказаться дурным пророчеством и призывом к революции на четвертое апреля», — говорили в III Отделении. И ломоносовский юбилей был негласно приглушен.
Через полтора года после рождения первой дочери, в четверг на каникулах, тридцать первого марта 1866 года, у Ульяновых родился сын. Аня ходила вокруг него, обеспокоенная вторжением чужого, потом, не вытерпев, подошла к люльке — люлька была ее собственная и мама была ее собственная, — ухватившись за край люльки, она стала изо всех сил трясти ее, чтоб вывалить непрошенного гостя.
— А, стыд какой, барышня! Ай, нехорошо!
Мария Александровна подняла с подушки томные глаза на дочку. Вот уже у нее их двое, и новый так тих — это мальчик: в семье у них было пять девочек и только один братец, но так намного старше ее… Она закрыла спять глаза.
— Уведите ее погулять, Настя.
В последнее от пасхальных каникул воскресенье Илья Николаевич провел весь день с нею и детьми. С утра выставили рамы, раскрыли окна, и в них потек легкий дух весны, смешанный, как вода с вином, еще пополам с осенью — с запахом прошлогоднего прелого лета и подсохшей земли. Его беспокоило состояние жены, непонятное, не похожее на прежнюю деятельную ее натуру, нежелание подняться, побороть слабость. Подсев к ней, он рассказывал городские новости и, увлекшись, опять говорил о своих таксаторах, с которыми скоро должен был начать занятия. Прибудет и заработка, сейчас это не пустяк…
Но как ни старался Илья Николаевич, он не мог растормошить ее, — в страшной тоске после вторых родов, равнодушная к таксаторам и к лишней сотне, бледная от потери крови, жена лежала весь день, лежала и следующий.
В понедельник, четвертого, он опять сел за стол один, а после обеда прилег по привычке на полчаса уснуть у себя на диване.
Все в доме спокойно, шторы спущены, захожий итальянец крутит на дворе тягучую баркаролу, и звуки шарманки коротко, сипло выскакивают, как молоточками молотят, а им вторят первый весенний грохот колес по булыжнику, дальний гудок чугунки — только-только открылась московско-нижегородская железная дорога, — и вдруг громкий и частый стук — не на улице, не на дворе. Стучат из коридора в кабинет мужа. То могла быть почта, мог быть курьер, но, непонятно пугаясь, она встала с постели, выхватила запеленатого сынишку из люльки и, качаясь от слабости, чтобы не потерять равновесия, быстро побежала через все комнаты в кабинет.
Муж сидел в спущенной рубахе на диване, а в дверях стоял бледный до дурноты Шапошников и дошептывал:
— Четвертое апреля помните?
— Тише! Не пугайте жену!
Но она уже слышала:
— Что такое? В царя стреляли? Кто? Когда?
— Сегодня по телеграфу передавали… Царь жив, сейчас начались молебны в церквах…
Мария Александровна неровной походкой, клоня руки с ношей от слабости, пошла из кабинета. Настя выхватила у нее ребенка.
Известие было дико, думали, что это ошибка, что стрелял сумасшедший. Весь Нижний, знакомые и незнакомые толковали о происшедшем на папертях, в оградах церквей, среди улиц и тротуаров. Извозчики и ломовые останавливали лошадей в толпе и тоже вступали в разговор. «И-их, и разорвать бы его на клочки, — говорили про убийцу. — Это он за волю в царя стрелял, не иначе как помещик».
По мелочам, из писем, газет, шепотов и разговоров по секрету, со дня на день составлялся связный рассказ о том, что произошло в Петербурге.
Царь любил прогуляться в Летнем саду. Об этих прогулках знал весь Петербург. Провинциалы, приезжая в столицу, шли на царя, как в театр, — у выхода из Летнего всегда была толпа. И четвертого апреля он, как обычно, медленно ходил по дорожкам, мелькая между деревьями военной шинелью с аксельбантами, а потом вышел из сада и уже был в двух шагах от экипажа. Народ подался вперед, — царь шел своей гибкой, танцующей походкой, и за отворотом шинели был виден его уланский мундир в обтяжку и любимый царем прусский орден на груди. Вдруг высокий сутулый человек выступил из толпы, выхватил из-под длинной своей крылатки пистолет и выстрелил. Но пуля пролетела мимо: костромской мужик Осип Комиссаров спас царя. Он почти непроизвольно, как в драке, ударил убийцу кулаком по руке, и тот промахнулся.
Стрелявший кинулся бежать. Его окружили, схватили, подмяли. Царь нутряным, не своим голосом приказал подвести к нему убийцу. Десятки доброхотцев, тяжело дыша, в полубезумном, охотничьем угаре подвели к нему пойманного человека. Бред горел горячечным румянцем на лицах людей, бред горел и в моржовых, выпуклых глазах царя.
— Ты не русский?
— Чистый русский.
— Почему стрелял?
— Потому что ты обманул народ! Обещал землю и не дал земли.
Царь махнул рукой — на сутулого опять навалились и яростно, в собачьем торжестве и ненависти, когда хотят и не смеют разорвать дичь в зубах, втолкнули его в карету.
Арестованного допрашивали день и ночь — он молчал. В III Отделение сыпались письма советчиков: предлагали особые виды пыток, допроса, казни. Отставной коллежский регистратор Михаил Малинин писал: «Опыт допрашивания посредством сонных бредов преступников, предложенный мной вашему превосходительству, я полагаю, очень важен к злодею царя. Это не есть пытка, но нужно знать, чем вывести бред, в какое время, с чего начать опрос и предложение, что впоследствии удивит бессознательного, и он должен будет подтвердить прочитанное, а к этому нужна небольшая магнетизация, почему предлагаю свои услуги для исполнения». На этом письме III Отделение пометило: «Принять к сведению».
Чтоб не дать ему спать, два жандарма сидели день и ночь рядом с ним и будили его. Он стал болтать ногой в дреме, приучая себя к механическому движению во сне. Жандармы заметили хитрость и стали толкать его каждые пять минут.
Царь ежечасно запрашивал у комиссии, как идет следствие. Но ответить царю было нечего: арестованный упорно ни в чем не признавался.
Через три дня был назначен в следственную комиссию сам усмиритель поляков, граф Муравьев, любивший говорить о себе: «Я, господа, не из тех Муравьевых, которых вешают, я из тех, кто сам вешает…»
А в обеих столицах тем временем праздновали спасенье царя. Комиссарова, возведенного в дворянское звание, и жену его, сочинившую себе титул «супруги спасителя», возили по бесконечным банкетам, поили шампанским, восхищались манерами, выговором, словечками Комиссарова, находили в нем, словом, «истинно русскую душу» на французский манер.
В немецком юмористическом журнале «Кладдерадач» предки Патов и Паташонов, два болтливых соседа — Шульц и Миллер — высунулись из своих окошек и разговаривали:
— Вы слышали, что в царя стреляли?
— Слышал, слышал. А не знаете кто?
— Дворянин.
— А кто спас царя?
— Мужик.
— А что дали ему за это?
— Возвели в дворянство!
Писатель Лесков-Стебницкий в «Отечественных записках» подал царю «челобитную». Он был прозаик, но «челом бил царю» былинными верноподданными стихами, словно базарная кумушка вдруг нараспев запричитала:
Мы, надежда-царь, не вступаемся
В дело страшное, на Руси святой
Небывалое! От «него» вся Русь
Отрекается.
«Он», напечатанный жутким в стихах курсивом, был все еще неизвестен.
Через неделю Илья Николаевич вошел после уроков в свой кабинет с серым лицом и негромко сказал жене:
— Маша, узнали фамилию убийцы.
Она подняла голову от шитья.
— Каракозов… пензенский… наш.
Он походил, походил по комнате, взглянул на нее тяжелыми глазами, словно ночь целую не спал:
— И Странден тоже арестован!..
Илья Николаевич не сказал жене, что из пензенцев арестованы не только Странден, а в их числе и те, кому он сам, своей рукой дал рекомендательные письма, чтобы облегчить им доступ в университет.
— Ну, давай есть.
Он ел медленно, тяжело, не доел обеда, вышел на улицу. Ему хотелось говорить и слушать, понять что-то. Чего хотят эти люди? Он вспомнил Каракозова — высокий, болезненный, с перхотью на плечах, чуть заика, с бесхарактерными бровями и точно удивленным, скошенным ртом, — подбил его кто-нибудь на такое дело? И, боже мой, что ждет его!
Вот бы Захарова встретить! Но нет, уж лучше не надо Захарова.
А Захаров сидел в низкой, душной харчевне, куда с улицы шли вниз пять ступеней, пил чай рядом с извозчиком. Он знал, что его притянут, и ждал ареста. «Авантюрист, истерик», — раздраженно думал Захаров о Каракозове, и тут же едкая боль за ученика пронзала ему сердце.
Сменив чай на стопку, а стопку на косушку, закусывая черным хлебом, круто посоленным, он ломал в воображении какие-то высокие дворцы, ломал на куски лицо поколения, и это любимое лицо осыпалось, переставлялось, как печатают на афишах разноцветные половинки цирковых клоунов, не сходящиеся в аккурат. Снова, выплывая из сумрака его помраченной памяти, представлялись ему то маленький желтолицый Ишутин с его манерой вечно на что-то таинственно намекать, то этот долговязый его Лепорелло, несчастный Митя Каракозов, — и острая, горячая волна ненависти, истекающей любовью, как бывает, когда твой самый близкий, твой кровный натворит что-то в непоправимый вред себе, охватывала его физической, невыносимой дрожью. И бешенство от страшного бесплодия этого выстрела!.. Так ли бороться надо, бороться, чтобы вывести к свету общество? Новый тип человека, вертающий колесо истории, выброшен был, казалось Захарову, слизистым комком, недоноском, не тем, не того отца, не той матери. Где они — сильные, ясные, добрые, умные, — «их еще мало, но будет все больше», — где воздух, и тон романа, писанного в Алексеевской равелине, верный и точный звук, поданный камертоном Николая Гавриловича? Куда идем мы? Что будет с Россией? Он встал, сутулясь, обеими руками натягивая картуз на глаза, — он никогда раньше не пил.
Поднявшись по скользким ступеням в мучные ряды, перепачканный белым, он шел тихонько вдоль стен, словно терся о них своим старым мундиром, — мера его понимания жизни исполнилась: учитель Захаров сходил со сцены…
Уже Каракозова сняли с виселицы и в простом гробу, обвязанном веревкой, увезли с места казни, мимо глазеющего народа. Уже Ишутина отправили в вечную каторгу — сходить с ума и бегать в арестантском халате от стены к стене, бормоча несвязные речи. В двадцатилетнюю каторгу — полного сил и жизни умницу Страндена — за то, что готовил побег Чернышевскому из Сибири. Обыски, аресты, взятие под полицейский надзор посыпались на самых, казалось, благонадежных. И делать газету в провинции становилось все трудней и трудней.
Гацисский, правда, еще не сдавался. Но доносы, один за другим, поступали на него губернатору от местных тузов. «Преувеличенно и тенденциозно пишете», — ставил губернатор на вид Гацисскому, повторяя выражения жалобщиков. Издание местного «Нижегородского сборника» — мечта Гацисского — провалилось. По Нижнему ходило крылатое словцо Валуева: «России не нужна областная печать».
А Герцен в «Колоколе» писал: «Выстрел 4 апреля растет не по дням, а по часам в какую-то общую беду и грозит вырасти в страшнейшие… бедствия. Полицейское бешенство достигло чудовищных размеров… Темные силы еще выше подняли голову, и испуганный кормчий (так поэтически назвал Герцен Александра Второго) ведет на всех парусах чинить Россию в такую черную гавань, что при одной мысли о ней цепенеет кровь и кружится голова».
ИГРА В ПУТЕШЕСТВИЕ
Ульяновы назвали своего мальчика Александром, по деду с материнской стороны.
У них уже третий ребенок — дочь Ольга, — не жилица на белом свете, как шепотом, глядя на ее тихие, грустные глаза, судачат кумушки в коридоре.
Опять пошла жизнь, но что-то произошло в этой жизни, как тогда в Пензе, — Илью Николаевича потянуло вон из Нижнего, вон из привычной, знакомой среды, подальше от ставшей ему постылой квартиры и соседей по коридору, знакомых шумливых улиц с хрустом железных колес по булыжникам, с пылью и вонью пристаней, — уйти, уйти, но куда уйти? Он хотел прежней широкой замашки на жизнь и работу, ночных часов бдения над книгами и тетрадями, яркого звездного неба над головой, — а ему пошел тридцать шестой, он уже начал, наскучив бритьем, отпускать себе бороду, и возбужденные, яркие, талантливые минуты, когда кровь приливает к мозгу, стали сменяться тяжестью и усталостью.
Преподавание Ульянова тоже стало меняться. Раньше, бывало, он юношей вбежит в класс, возьмет классный журнал, подсядет сбоку на первую парту и делает вид, что ищет, кого бы вызвать, а вызовет все равно по алфавиту:
— Авейкиев!
Рыжий Аверкиев не спеша встает, не спеша чешет раннюю бородку и задушевным басом, словно это между ними заранее условлено, сообщает:
— Я, Илья Николаевич, сегодня не читал.
— Ай-яй, Авейкиев, как же это? Опять не пъиготовили уока? Вот я вам точку поставлю, а в съедущий г'аз спъошу вас.
И маленькая, деликатная точка ставится в журнале, чтоб от нее женственным почерком физика мелко и опрятно отросли в дальнейшем два полукружия, тройки или даже сама четверка. Но кончился опрос, физик кладет журнал на кафедру и медленно, заложив руки за спину, опустив голову, начнет прохаживаться по классу. На партах движение. Близорукие Городецкий и Доброзраков шумно выходят из задних парт и, тесня первый ряд, усаживаются поближе к Илье Николаевичу, глуховатый Трифонов оттопыривает ухо горстью, кое-кто раскрыл тетрадь, карандаш наготове, и уже Илья Николаевич подходит к доске, и уже под скрипящим и вдруг осыпающимся крошками на мундир мелком возникают ажурные миры на доске, и глаза следят за их кружевным хороводом, завороженные.
Но сейчас и на уроке не тот Илья Николаевич. Он думает о таксаторах. Вспоминает бородатые лица, окающие волжские простонародные голоса, большие руки на партах, вопросы о самом жизненном, — запах земли, древний запах земли вдруг мерещится ему в пыльном классе, и опять странное, необузданное желание уехать, уехать, сняться с места мучает Илью Николаевича. Он уже не вызывает по алфавиту. Утомленно ищет среди ленивых лиц повыразительнее, посмышленее.
А дома жена с тяжелыми красными веками над заплаканными глазами. Третий ребенок, девочка Ольга, и в самом деле умер, и матери кажется, что Оленька была краше и лучше всех, что не будет конца тоске по ней, разве вот только еще родить девочку и назвать, как покойную. А Саша и Аня забыли сестричку.
Пока стареют и устают родители, для них этот родительский мир словно первая весна на земле. Ане четыре года. Саше два с половиной. Они гуляют за руку по откосу, играют вместе на коврике, и Ане кажется, что весь мир для них особенный, мама особенная, и никогда никто никуда не уйдет из этого мира. Аня худа и смугла, обещает хорошенькую. Ее портят большие уши. Но Саша и сейчас красив. Тихий мальчик, задумчивый, очень спокойный, — хворает редко, плачет редко, не жадничает на игрушки. Мать обшивает детей сама — для Саши русские рубашки и шаровары в сапожки, для Ани узкие платьица, расшитые тесьмой, криво чуть-чуть, но по моде, и длинные кружевные панталончики из-под платья.
Няни нет — все делает мама. И гулять на откос водит мама. Она опять стройна, как в девушках, а ей уже за тридцать. Прохожие заглядываются на нее.
Соседки уже привыкли к ее манере хозяйничать и воспитывать детей, но за глаза нет-нет да и посудачат. По-европейски культурная Наталья Александровна, рыхлая и добродушная Шапошникова, веселая Виноградская, затевающая суматоху с детьми, — они были во всем равные, у каждой было что вспомнить из собственного детства. Одна выросла в дворянском поместье, где все велось на широкую ногу; другая — в купеческом доме, с кивотами по углам комнат, мерцавшими днем и ночью желтым огнем лампад; третья — в полковых переездах, в постоянно сменяемых, на скорую руку обставленных офицерских квартирах. Но при всей разнице в воспитании они сходились на том, что Мария Александровна «мудрит с детьми». В чем мудрит — было не совсем ясно.
Если разобраться, дел и забот у взрослых всегда по горло, и дети — так думалось Наталье Александровне — естественный сопровождающий элемент в семье. «Как это можно — без детей», — говорила и Шапошникова, а Виноградская иной раз, вспоминая собственную жизнь, вздохнет, и вырвется у нее: «Что вы там ни говорите, а дети — такая обуза! Дети пойдут — и скажи прости личной жизни».
На дочерей в семье Улыбышевых ничего не жалелось. Сколько бонн и гувернанток встает в памяти Натальи Александровны! Бонны выписывались из Германии; гувернантки — англичанка, швейцарка, француженка — переходили с рекомендациями из других знатных семей. И с первого дня, как приезжал новый человек в дом, Наташа Улыбышева подсматривала из-за дверей, а эти новые люди — худая англичанка с длинной шеей и влажными, словно слезились они, глазами; круглая, кудреватая швейцарка, стучавшая по паркету каблучками; или очень бледная, кареглазая, с нездоровым лицом и в рюмку стянутой талией француженка, — обязательно, прежде чем с девочками, знакомились со взрослыми и позднее тоже как будто интересовались больше взрослыми, чем своими питомцами. Наталья Александровна помнит, как они приходили в кабинет к отцу, и скоро неслись оттуда непринужденные речи на иностранных языках о том, о сем, больше о принципах воспитания вообще. И обязательно выслушивал новый человек родовую историю странной фамилии Улыбышевых, как защитил грудью один храбрый русский воин князя Димитрия Донского и тот отдал за него в благодарность свою единственную дочь Улыбу; «мы народ улыбающийся, nous sourions á nos malheurs», — шутил отец. Гувернантки улыбались в ответ. В общем, это было превосходное воспитание и образование при всей безалаберщине и суете в доме. Но когда устраивались балы или музыкальные вечера в их деревянном лукинском доме, полы трещали и стены дрожали в детской, двери хлопали в коридоре, голос француженки, спешившей послушать музыку, только досадой звучал, когда она забегала в детскую: «Пст, пст, dormez, dormez, ma mignonne», — словно девочка сама была источником шума и не желала заснуть; и никто не обращал внимания на перекочевку ее из классной куда-нибудь в мезонин, передвижку ее завтраков и обедов во времени, если это требовалось распорядком дня взрослых. Жизнь детей приноравливалась к жизни по-европейски культурного отца. И все вокруг постоянно говорили, что Улыбышевы ничего не жалеют для образования дочерей, да и сама Наталья Александровна думала так.
А склад жизни Ульяновых резко отличался от этого привычного склада. Мария Александровна совсем не баловала и, казалось, вовсе не ласкала своих детишек, между тем жизнь ее и мужа ее, молодых еще людей, как будто приноравливалась к тому, что нужно и полезно растущим детям.
— Как вы считаетесь с такими малышами! — удивленно сказала ей на пятый год знакомства Наталья Александровна, когда Ульянова прекратила в столовой какой-то неподходящий, осуждающий ближнего разговор, а вечером отказалась устроить в столовой фанты, сославшись на то, что дети разволнуются и не заснут вовремя.
— В этом возрасте образовываются привычки, — отозвалась Мария Александровна, — я смотрю на это как на фундамент к характеру. — И тотчас покраснела слегка, но разговор продолжила, хотя собственные слова показались ей чересчур книжными: — Надо с детства приучать детей к своему времени во всем, чтоб не было хаоса. Тогда у них выработается внимание, уважение к себе.
— Ну, это вы чересчур мудрите, голубушка Мария Александровна! — воскликнула Шапошникова, вслух высказав общее мнение.
В одну из своих прогулок с детьми по откосу Мария Александровна вдруг вскрикнула и закрыла глаза ладонями: маленький Саша кубарем покатился с откоса. Аня, раскрыв рот и оцепенев, глядела, как он секунду мячиком катится вниз с дорожки на дорожку, а на третьей дорожке стоит большой дядя в длинном желтом сюртуке, с пышным бархатным бантом на шее, расставил ноги и руки — стоп — и подхватил Сашу, как мячик. У Саши лицо смешное и трепаное, из-за пояса углом вылезла рубашечка, но он стал на ножки и ничуть не плачет…
— Мама, мамулечка, гляди, Сашу дядя опять на ножки поставил!
Мария Александровна раскрыла глаза, переконфуженная за свою слабость.
— Благодарю, благодарю вас! Ах, Сашенька…
Всем усилием воли она подавила волнение, словно и не произошло ничего, только оправила рубашечку на взъерошенном сынишке. И дети от этого спокойного движения материнской руки и ее лица, такого знакомого и всегдашнего, тоже мгновенно успокоились и, взявшись за руки, пошли дальше. Она не сказала им, чтоб они «не смели ходить близко к откосу», не поругала Сашу за неосторожность, а дочь за то, что выпустила Сашину руку. Она только сама передвинулась с края дорожки на самую ее середину, и Аня, поглядевши на мать, озабоченно подтянула брата подальше от скользкого откоса, тоже на середину дороги.
Вечерами они и теперь, всем коридором, собирались друг у друга, чтоб почитать вслух. Чтение уже было другое, в журналах начал меняться весь тон. Лесков-Стебницкий явно пошел в гору, Тургенев написал «Дым», разруганный либералами. В «Отечественных записках» беспокоятся о сусликах, что они объедают поля; а писательница Марко Вовчок, нахваленная еще Добролюбовым за смелую повесть о крепостной девочке, пишет роман на модную тему о «пострадавших» — сосланных и томящихся в тюрьмах, выводя их ничтожными болтунами. Сегодня они должны были читать большой, печатавшийся по частям патриотический роман графа Льва Толстого «Война и мир». Толстой выводил в нем исконное, старинное среднее дворянство, далекое от двора, от чиновных выскочек, выводил Москву как бы в противовес придворному Петербургу, и его роман становился знаменем для нового поколения. Каждое десятилетие люди читают книгу по-своему, и большая книга растет с человечеством, а маленькая умирает со своим поколением.
Марии Александровне очень хотелось слушать продолжение «Войны и мира». Но в этот вечер она осталась с детьми и затеяла с ними такую интересную игру, что всякое воспоминание о падении с откоса испарилось из головок детей. Саша давно уже спокойно спит, рассыпав длинные волнистые волосы на подушке, но уйти от детей она никак не может. Аня засыпает куда медленней, чем Саша. Коротко остриженная девочка лежит с открытыми глазенками, изо всех сил стараясь согнать с ресниц сон. И все просит мать посидеть с ней, все держит мать за руку. Мария Александровна потянет тихонько руку и соберется встать, а девочка опять сжимает ее и целует горячими губами.
— Мама, мамуленька…
Ей хочется сказать матери, чтоб они всегда так играли, хочется выразить, как она благодарна ей, какая особенная ни на кого не похожая, лучше всех, всех, всех мама у них, но слов нет, и противный сон тянет вниз за ресницы. Аня выпустила руку, отвернулась к стенке и заснула.
А игра в этот вечер и в самом деле вышла замечательная. Они играли в дорогу.
Мать сдвинула стулья, на передний стул взобрался с кнутиком Саша за ямщика, он погонял два опрокинутых толстых кресла по их бахромчатым бокам и кричал: «Но-о! Но-но-но!» А они с мамой сели в платках на стулья сзади него, и это была большая дорожная почтовая колымага, с ящиком под сиденьем, с буфетным отделением, с ножами, ложками и вилками, бутербродами в бумажке — из вкусного ситного хлеба с маслом и бутылкой теплого молочка. Едут они, а мама рассказывает:
— Вот бежит, бежит дорога, версты по сторонам, въехали в густой-густой лес. Солнце не светит сквозь лес, стволы стоят белые, и ветки поникли, и сумрак внизу, между стволами, — это буковый лес. Вдалеке трясет бородой седой старик, он едет медленно, борода его вьется между стволами, на голове корона, глаза, как у филина, горят — гони, гони, Сашенька, это царь лесных гномов, он гонится за нами, он вытянул руку, но… — Аня хохочет, жмется к матери, а другой рукой крепко хватает Сашу за пояс, — но он нас не тронет…
И мать вполголоса запевает детям тихую Шубертову мелодию на бессмертную балладу Гёте, перефразируя последний стих по-своему, в чудный, благополучный конец.
Они едут дальше, лес давно позади, перед ними деревня над овражком — это их старое милое Кокушкино.
— Видите, детки, вот нас встречают тетя, и другая тетя, и множество ребятишек — это все ваши братики и сестрицы. «Здравствуйте, тетеньки!» — «Здравствуйте, Аня, здравствуйте, Саша, приезжайте к нам непременно гостить летом!» — «А что мы будем у вас делать?» — «Будем рыбку удить, малинку собирать, в выручалочки играть, будем в речке купаться, на лошадках кататься, в поле ходить, цветы поливать…»
И дальше, дальше бегут лошадки.
— Вон на небе всходит луна. Степь пахнет разными травами, богородицына трава, вереск, мята, шалфей, клевер — все тут есть. Вон висят они у папы в гербарии под стеклом, подрастем — будем каждую в поле распознавать. А теперь ну-ка, распрягай, Сашенька, лошадей, пусти их на травку. Лошади ступают тихо, ноги у них застреножены, ищут губой травку повкуснее, для них это ведь не просто сено, одно и то же, а каждая травинка особое блюдо: одна слаще, другая горше, одна солона, другая кисловатенькая, и эта жирней, а та водянистей. Жуют, жуют лошади, и мы сядем пить молочко.
У Ани даже слюнка закипела. Она откусывает хлеб по маленькому кусочку, как разную травку, и жует, жует его. А Саша прилег к маме головенкой и опустил кнутик.
— Куда же мы едем, мама?
— Мы едем в такую страну, да-алекую, далекую, где нет ни старых, ни молодых, а все люди как дети.
— Все добрые?
— Все добрые и хорошие… И наша Олечка там… — И она запела вполголоса, прижимая к себе разомлевшего мальчика, без слов, что-то сочиненное ею тут же.
Когда Аня заснула, Мария Александровна совсем было собралась к соседям, но неожиданно вернулся муж. Он ходил к Тимофеевым, и она его так рано домой не ждала.
Илья Николаевич вернулся в душевной приподнятости, не вошел, а вбежал.
— Знаешь, какая новость? Постой, я разденусь, сядем на диван. Ну, слушай, жена, хочешь выехать из Нижнего?
Жена молчит.
— А я, ты сама знаешь, сплю и вижу уехать отсюда, засиделся, не тот человек совсем. Маша, подумай, родная, — учреждается инспектура народных школ, Тимофеев предлагает. Он может меня устроить инспектором. Работа, новая, свежая, разъездная, буду колесить по деревням, народ увижу. Маша, я тут непомерно засиделся, ну что хорошего в такой жизни? И тянет меня, признаюсь тебе, тянет, очень тянет.
— Да ведь служба эта министерская? Ты заранее не очень идеализируй. Все-таки сейчас ты педагог, а там будешь чиновник.
— Я душу в нее вложу…
— То-то вот ты во все душу вкладываешь, — она положила голову к мужу на плечо и вдруг совсем неожиданно всплакнула.
— Да ты что это, Маша? — Он приподнял обеими руками лицо жены. — Ты мне правду скажи: ехать не хочешь?
— Разволновалась из-за Саши — с откоса упал. Да сиди, ничего не случилось, даже не поцарапался, а мне все что-то боязно за него. Ну, Ильюша, хочешь ехать — поедем.
Илья Николаевич обнял жену и крепко прижал к себе.
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В НИЖНЕМ
Он страстно хотел ехать. Живой человек не мог не хотеть ехать, когда все двигалось и менялось вокруг, — за таксаторами пошли в деревню фельдшера, учителя, врачи, заработало земство, сели в канцелярию первые женщины на жалованье в двадцать пять рублей. Но не только это.
По всей стране поднималась волна интереса к народу. Все чаще и чаще звучало в обществе слово «народ». Петербург и Москва ставили первые «народные спектакли». Молодежь тянулась в деревню.
Учить народ, изъездить большие пространства, дышать воздухом деревенских просторов — от одной этой мысли он чувствовал, как молодеет в нем загустелая от сидения кровь и горячо и сильно бежит по жилам.
Было тут еще, пожалуй, одно — есть люди единственной какой-нибудь спецальности, в которую они входят с годами все глубже, теряя способность делать, кроме нее, что-нибудь другое. Илья Николаевич не был таким. Он донашивал до отказа одежду, называя это «обжить себе рубаху», и злился не на шутку, когда жена чуть не насильно навязывала ему новенький, с иголочки, еще враждебно-чужой и немилый костюм. Но в работе Илья Николаевич постоянно искал новое и тоже, может быть инстинктивно, как берут свежую спичку, чтобы получить искру, подводил и ставил себя под все новые обстоятельства, чтобы опять и опять вспыхивать на работе, опять пережить чувство весны. Новая должность сулила ему привлекательную разносторонность: инспектору народных школ предстояло знать все новейшие течения педагогики и быть плотником школьных зданий, создавать людей и вникать в учебники, в отношения на деревне, в мужика, в деревенский быт, колесить по бесконечным дорогам и всюду во всем, на каждой сходке обнаруживать толк и знание дела.
Как только стало известно место его нового назначения — Симбирск, он отправил жену с детьми к своей матери в Астрахань и стал прочитывать о Симбирске все, что под руку попадало, — от «Капитанской дочки» и «Багрова-внука» до «Сна Обломова». И где ни встретит в обществе человека из тех мест, он непременно подсядет к нему и прислушается.
Все ему было так ново и любопытно, словно роман читал. Сидит у Садокова заезжий помещик, снисходительный симбирский дворянин с какими-то пестрыми от крашения усами и со следом монокля в разношенном, старом, птичьем веке, из промотавшихся заграничных праздношатаев, а Илья Николаевич и тут ухитрится что-нибудь выпытать, — о том, например, что в имениях кой у кого завелись было и машины, молотилки конные и даже паровые, и веялки, и навоз собирать стали на удобрение, — но «машины машинами, а способ обработки земли все старый, далеко нам до заграницы: ни травосеяние, ни плодопеременная система даже как опыт не идут, не прививаются: ну и от машин нет проку, особенно с освобождением крестьян; рухнула культура земли, рухнула и охота возиться с ней…».
— А у вас самих?
— У меня все на испольной работе, мужики сеют и мне и себе, собирают и мне и себе, а что соберут — нáровно пополам, — и легко и просто.
Он записал для себя и про испольную работу, и о травосеянии, и каков старый способ хозяйства, — по деревням ездить и с мужиками говорить нельзя неучем, обо всем придется сказать свое слово, и надо, чтоб слово это было самое точное.
Попался ему и настоящий купец-симбиряк; его Илья Николаевич завел к себе в опустелую квартиру поить чаем и чуть не пять-шесть часов выспрашивал подряд, что там и как. Купец был польщен беседой с господином учителем. Он торговал в Симбирске лучшими каретами и выездами, имел дом на Московской, каретное заведение во дворе дома, рабочих и даже агентов для разъезда по губернии. Фамилия купца была Шестериков. На персонажей Островского он походил мало и отзывался о них неуважительно, — в том смысле, что писатели нынче сильно отстали от жизни, таких дурачков в смазанных сапогах, да с поклоном до земли, да у матерей, у жен под туфлей или, к примеру, самодуров, окромя водки в рот ничего не берущих, — этого сейчас на Руси меньше, чем музейных чучел. Купец уже с десять годов как привык и к речи другой, и к фасону другому — иначе ведь и капитала себе не составишь. А это не купцы, что у господ писателей на театре, — это скорей помещичьи старосты; ну, да ведь и понятно: что писателю больше знакомо в жизни, с того образца и подобия он и пишет.
Сам он одет был в добротный сюртук и в ботинки мягкой кожи на такой подошве, что и скрипу не давали. Но рому себе в чай наливать не отказался, напротив.
От этого купца Илья Николаевич узнал, чем губерния живет и дышит. Купец рассказал ему про восемьдесят две ярмарки в год; самая большая — симбирская сборная — открывается в понедельник на первой неделе великого поста. Конечно, не чета Макарьевской, но товаров привозят и на шесть, а то и на семь миллионов, оборот делают когда как и считают его не меньше трех-четырех миллионов. Своих промыслов немало, — вот, к примеру, «кошатники», с мелочи начали, а теперь тысячи огребают: торговали вразнос по селам деревянными ложками — до самой до Перми, до Сибири, а взамен брали кошачьи шкурки и шкурки эти продавали на Жадовском рынке, а сейчас эти самые шкурки, крашеные да подбитые паром, за границей ходят как последняя мода. А село Астрадамовка славится рукавицами, а село Ховрино — сапогами. И вино курим у себя, и стекло дуем, и кожу тянем, и сукно валяем — вот только соль ввозим…
Выходило, по его словам, совсем обратное рассказу помещика: тот все представил так, будто в губернии и земля дичает, и культура глохнет, и жить глухо, и вообще самое печальное место на Руси это Симбирская губерния, с ее падающими урожаями, уходящими в воспоминание богатствами заливных лугов, исчезающим зверьем в лесу, да и лесами, отступающими из году в год. А по купцу — губерния росла и росла. Промыслы открываются на каждом углу, мужику воля впрок пошла. Он через торговлю и промысел начал богатеть, и о дорогах заботы больше, и главное, вот бы и вы нам, господин будущий инспектор, помогли: кое-кто у нас шибко задумывается насчет чугунки, не мешало бы к нам чугунку провести, как в Нижнем, — уж очень край на отлете. А дорога стоящая, в самую Сибирь, а Сибирь, это теперь все говорят, — будущая наша Америка, вон оно что. И будете коляску себе покупать — милости прошу, выберем на совесть, а лучше шестериковских колясок и в Москве не найдете!
Только сейчас, когда в Нижнем осталось ему доживать последние дни, Илья Николаевич вдруг почувствовал, что успел привязаться к этому большому, шумному городу, к его окающему говорку, к его людям, к педагогической своей работе в нем.
Тут, в Нижнем, доживала свой век вдова Лобачевского.
В Нижнем на каждом шагу встречал он своих однокашников, бывших казанских студентов.
В Нижнем сложилась и окрепла его семейная жизнь, такая прочная, так не похожая на неустойчивые семейные очаги его товарищей, — нежность к жене, как свет, излучающий внутреннее сияние, вдруг жарко охватила его в разлуке.
Все это срослось с Нижним, с его шумными, вкривь и вкось бегущими улицами, с крутым подъемом к Кремлю, с благолепными церквами, с их звучным, переливчатым колокольным гомоном, вспугивавшим тысячи голубей над просыпанным в снегу овсом… Нижний, Нижний…
Сюда постоянно кто-нибудь приезжал, и не только на ярмарку. Это был город торжественных встреч, закатываемых на широкую ногу обедов, длинноречивых тостов, любопытствующих иностранцев, видевших в Нижнем кусочек Азии. Особенно любили сюда наезжать писатели, серьезные писатели, исследователи жизни русской. Еще в первый год, как он сюда переехал, принимали и потчевали нижегородцы писателей Арсеньева, Безобразова, Мельникова. Имена их в те годы говорили многое, особенно волжанам. И наезжали сюда мимоездом, делая порядочный крюк на пути, представители совсем новой формации, которых в обществе и в печати уважительно называли «деятели на ниве народной».
То было время начавшегося необычно быстрого передвижения, век строительства железных дорог. Чугунка поражала людей неслыханной быстротой пожирания пространства: сегодня сел человек в вагон, а завтра на месте. Патриоты прежних почтовых трактов и ямщицкого бубенца держались, правда, за старый способ — они злорадно перечисляли железнодорожные катастрофы, сравнивали неопытного машиниста с бывалым ямщиком, а мелькание видов из вагонного окошка — с богатейшим, медленным движением природы и жизни вдоль столбовых дорог. Но чугунка соблазняла сбережением времени, и люди ездили, надо не надо, по дальним губерниям, заезжали на сторону, в провинцию, чтоб понаведаться, поделиться опытом с единомышленником, держать связь с обществом.
Город Нижний к тому же был на большом водном пути к югу и чугуннорельсовом в Москву. Вот почему «деятели на ниве народной» — в большинстве своем выходцы из поповского звания, откуда вышли и духовные вожди эпохи — саратовец Чернышевский и нижегородец Добролюбов, — заглядывали частенько в Нижний, по дороге и не по дороге.
К тому, что писалось в журналах и газетах, прибавлялись бесчисленные рассказы очевидцев. Имена многих педагогов становились известны широким кругам чуть ли не наравне с именами виднейших писателей. Рассказывали, например, о молодом преподавателе харьковской духовной семинарии Сергее Иринеевиче Миропольском, по собственному почину открывшем воскресную школу для подготовки народных учителей. В то время на всю Российскую империю только и были две учительские семинарии — одна в западной, Виленской губернии, в местечке Молодечно, другая в чинном, онемеченном Дерпте. Рассказывали и о просвещенном помещике бароне Корфе. Илья Николаевич слышал о Миропольском, но особенно заинтересовали его дела барона Николая Александровича Корфа в Екатеринославской губернии. Вся образованная Россия говорила в ту пору об этих делах — о создании образцовых народных школ в целом уезде степной полосы, где еще два года назад дети тамошних немецких колонистов по восемь лет сидели в одном классе, а выходили, не зная русской грамоты, и на весь обширный уезд были фактически только две грязные, ненавистные крестьянам полуразвалившиеся школы-избы…
Как же обрадовался и разволновался Ульянов, прослыша, что в Нижний, возвращаясь в Москву кружным путем, заехал нужнейший ему человек — член Московского комитета грамотности, только что обследовавший, по поручению комитета, школы барона Корфа.
В старом своем служебном кителе, блестевшим по швам, забыв, как всегда, надеть шляпу, поспешил он в гостиницу, где, по его сведениям, остановился приезжий, и еще на лестнице столкнулся с Александром Серафимовичем Гацисским, спешившим туда же.
Разбитной половой уже внес в номер большой, из начищенной, как солнце, латуни самовар, дышавший жаркими парами и чуть припахивавший угольком. Половой настежь раскрыл окно, чтоб, избави боже, не угорели господа чиновники. А в окно вместе с воздухом городского лета ворвались влекущие, тревожные шумы пароходных гудков, резкого стука извозчичьих колес о булыжник, протяжного гула отходившего от вокзала поезда.
Приезжий, договорившийся с Гацисским о встрече, очень обрадовался знакомству с Ульяновым. Он усадил гостей за чайный стол, заказал лишь стакан и тут же, не дожидаясь чая, принялся рассказывать. Впечатления были так еще свежи, так захватили его, что наслаждение было делиться ими. Гацисский по старой привычке газетчика вынул записную книжку и придвинул к себе чернильницу. Ульянов, желая помочь хозяину, разлил по стаканам чай.
— Дорога, — начал рассказывать комитетчик, — кошмарная. От станции Константиновки девяносто верст, лошадей нет, ямского двора нет, одна корчма, а чай в буфете двадцать пять копеек золотник. Степь, мазанки, голытьба, речь малорусская, пшеница и ни единого деревца. Пыль — хоть ломтями режь. Два года назад там у немецких колонистов деревня была — точный стиль осьмнадцатого века, учебник в школе 1795 года, да не славянина Коменского, тот прелесть, а черт его знает какой…
— По Коменскому наш нижегородец Лобачевский учиться мог! Гёте учился! — воскликнул, перебивая его, Гацисский.
— Палочная расправа в полном ходу, — продолжал рассказчик, — такова была действительность. И вот приезжает Николай Александрович Корф. Организует в пятьдесят седьмом году первый уездный училищный совет. Кстати, господин Ульянов, — обернулся он к физику, — вы изволите ехать на новую должность инспекции народных училищ. А знаете ли, барон Корф не очень этой новой должности сочувствует, считает ее ненужным контролем за земством, за училищными советами.
— Контроль само собой, и при том, что вами описано, в уезде контроль очень необходим, но главное — помощь школе, я так понимаю новую должность, — ответил физик.
— Пожалуйста, пожалуйста, не отвлекайтесь, — снова перебил Гацисский, — это все изумительно интересно для нашей губернии. Говорите, как на театре, — место действия, пейзаж, действующие лица, каков этот барон, — и подряд, подряд, со всеми деталями!
Не торопясь и отхлебывая из стакана по глоточку, чтоб увлажнить горло, комитетчик повел свой подробный рассказ о новом опыте Николая Александровича Корфа. Гостям казалось, они путешествуют вместе с ним, подъезжают к культурнейшей усадьбе этого екатеринославского помещика, и вот среди голой пыльной степи — цветущий сад, дивные аллейки и клумбы, где благоухают тысячи цветов, большие французские окна распахнуты на веранду, барышня за роялем играет гаммы, а потоку этих до-ре-ми-фа-соль из сада отзываются соловьи. Ветер поддувает полы чесучевой рубашки барона, пока он водит гостя по аллеям парка, приглушенным баском рассказывая ему о своем увлекательном школьном творчестве. Круглое лицо барона с легким намеком на будущие баки по сторонам сияет улыбкой, он необыкновенно быстр и суетлив в движениях, несмотря на свою полноту. Корф зовет и жену и дочь «душенька» и шутливо по-немецки «кокхенпуппхен» и вдруг, становясь серьезным, почти раздраженно кричит о себе: «Я — утилитарист, убежденный утилитарист!» Более всего на свете боится барон Корф оскорбительной клички «фантазер» или «идеалист».
Но вот они с гостем уселись на длинную южнорусскую линейку, спиной друг к другу, боком к кучеру, у которого барон то и дело брал из рук вожжи, нетерпеливо показывая, как ближе проехать, хотя кучер лучше барина знал дорогу. И начался объезд замечательных школ, созданных в Александровском уезде бароном Корфом. Время было вакационное, школы стояли пустые, но ученики, прослышав, что едет с помещиком гость из Москвы, возвращались кое-где с полевых работ и стайками весело вваливались в школу. Один паренек, нанявшийся на лето в пастухи, пришел в школу за восемнадцать верст.
Было на что посмотреть московскому гостю и что послушать!
— Представьте себе чудо, — говорил комитетчик, — иначе как чудом я это не могу назвать. Земство отпустило в этом году пять тысяч рублей. Школы — те же избы, но чистые, теплые, окна вдвое больше обычных. Оборудование, мебель — все в полном порядке, на стенах картины Шрейбера, за три года куплено двадцать тысяч книг, восемьсот сорок дюжин стальных перьев — гусиными никто не пишет, — двести пятьдесят стоп бумаги. Учителя, стоящие, преданные, образованные. Корф им жалованье поднял, установил премиальные. Ну, словом, чудо. А когда дети пришли, я просто развел руками. Простите меня, господа, но таких детей в деревне, я в первый раз увидел!
Барон Корф торжествовал, показывая москвичу своих ребят. Без капли застенчивости или страха они решали у доски задачки, пересказывали басни, спели чисто и, глядя на ноты, молитву. Особенно удивило москвича сочинение, написанное на тему «О вреде и пользе водки».
— Ну это уже слишком, — вырвалось у Гацисского. — Какая может быть польза от водки?
— Вот и я точь-в-точь такими словами сказал Корфу, — воодушевился рассказчик. — Какая же, позвольте, польза? Корф сначала мне ни звука. Дети сидят и пишут. Написали. Он собрал сочинения, прочел и показывает — читайте! Ну и удивили меня эти сочинения! Один пишет: «Полезна — из нее лекарства приготовляют; вредна потому что мужик ее пьет не дурно (не даром то есть), купляет ее за свои деньги, если кто напьется и имеет деньги в кармане, то он их выронит или кто вытащит, хозяйство рушит за водку, а если кто напьется в грязный путь (в грязную погоду), то он свою одежду в грязь замарает». Другой пишет: «А пользовита она потому, что едешь куда, да смерзнешь», или еще: «И какую шкоду сделаешь, то купишь кварту или две, то сейчас ты прав будешь над ним, с кем ты завязывался за что-нибудь».
— Это даже и непонятно, — сказал физик.
— И какой голый практицизм! — воскликнул Гацисский.
— Боже, как вы далеки от жизни! Корф именно и хвастается практицизмом, он ненавидит красные слова. Весь быт деревенский отражается в этих сочинениях, жизнь, как она есть: нагрешил, обидел, подрался, нашкодил, а откупился двумя квартами — и опять ты прав. Ведь это же сама жизнь. Корф назвал этот урок изучением деревенского быта. Он превозносит такой здравый смысл в деревенских детях!
И гость перешел на метод барона Корфа, на урок арифметики, запоминание цифр с голоса учителя, по тысячам, сотням, десяткам и единицам, то есть на работу памяти не над единым образом всей большой цифры, а расчлененно, над каждой составной частью цифр. Важно, что получается в результате. Реальнейший успех, и крестьяне, два года назад ничего не желавшие и слышать о школе, сейчас толпами приходят на экзамены, часов пять-шесть на ногах выстаивают, слушая, как бойко и знающе отвечают их дети. Звуковой метод, наглядное обучение, собственный учебник барона Корфа, его неутомимость — каждую осень, несмотря ни на какую погоду, он лично в течение двух месяцев объезжает все школы в уезде… «Слава заслуженная, — добавил под самый конец комитетчик, убирая со стола множество бумажек, по которым он кое-что считывал в своем рассказе. — Я буду всенепременно делать мои наблюдения достоянием широкой гласности!»
Илья Николаевич прослушал рассказ с живым интересом. Он не сказал, впрочем, что не во всем полностью соглашается с Корфом, — конечно, великое, замечательное дело, спасибо за него, учиться и учиться им всем у Корфа, но в подчеркнутом утилитаризме и практицизме барона ему все же почудился тот, барский немного, привкус восторженной тяги к народу, когда хочешь не столько дать, сколько получить, позаимствовать, погреться, попользоваться у народа его здоровой и нетронутой цельностью. Сам из простой среды, далекий от всего барского, Илья Николаевич выслушал прочитанные из детских сочинений отрывки не как образчики живого, конкретного и совершенно оригинального, не по-городскому, решения темы, а с невольным критицизмом педагога, которому не восхититься, а поправить надо. «Нельзя оставлять ребят с таким путаным способом выражения, наклеив на это ярлык здравого смысла», — как-то безотчетно подумал он. И не любование, а острая, теплая жалость прошла по душе его. Он их уже как бы видел перед собой во всей узости темной деревенской жизни. Какими будут дети в его собственной, Симбирской губернии? Когда к ним, скоро ли?
Но последнее слово о Симбирской губернии сказали Илье Николаевичу мужики. Это было, впрочем, уже на пароходе, когда он с женой подъезжал к месту своей будущей жизни, а до тех пор надо еще рассказать, как проводила это последнее нижегородское лето Мария Александровна.
У АСТРАХАНСКОЙ БАБУШКИ
Брат Вася давно уже в письмах слезно просил Илью Николаевича потешить старуху мать и прислать невестку с внучатами, тем более что и мать, по всему видно, уже недолга.
И в это лето для Ани и Саши чудесно сбылась мамина игра. Они втроем сели и поехали в Астрахань с такой же совсем точно провизией, как в игре, и даже игру продолжали в дороге, но только вода колыхалась вокруг настоящая, и встречи были живые — плыли, качаясь, чайки, похожие на летучих рыб, скользили тихие баржи, а на них домики с окошками, улицы, фонари, а в домиках занавески и люди, как в городе. На белокурого красавца Сашу заглядывался весь пароход, как он прохаживался, подражая отцу, словно взрослый, заложив обе ручонки за спину. Аня заметила эти взгляды и гордилась братиком, подбегала к нему и прихорашивала, делая вид, что им нет никакого интереса в чужих взглядах, а играют они и гуляют сами по себе. То пригладит брату кудри на головешке, то шаровары заложит лучше в сапожки, то рубашечку одернет. Терпеливый Саша молча сносил беспокойные Анины ручки на себе и стоял тихо, покуда она усердствовала над ним, а потом снова начинал пресерьезно прогуливаться.
Но стоило только сказать кому-нибудь: «Мальчик, здравствуй, дай ручку», и остановить Сашу, как уже Аня летела, готовая, если понадобится, отбивать брата у чужих.
В Астрахани на пристани Марию Александровну встретил бледный от волнения дядя Василий Николаевич и церемонно дважды приложился к ее руке. В ярком астраханском солнце Василий Николаевич, нарядно разодетый в полосатые брюки, модный жилет и сюртук, расшитый тесьмой, с бархатным бантом на манишке, усатый и щедро напомаженный, да еще так странно и церемонно поздоровавшийся, чуть даже напугал детей. Но пока он их вез в крытой извозчичьей карете, держа обоих на коленях, — тучи голубей на улицах, непонятные крики продавцов, ослики, верблюды с кладью, — молчать стало выше сил, и восхищенные дети вертелись и восклицали, не заметив, как уже обнимают странного дядю за шею в тугом воротнике.
На пороге домика ждала бабушка. По обычаю старых людей, она раскинула обе руки в стороны, с вывернутыми ладонями, жестом душевного своего изумления на присутствие дорогих гостей, а потом крепко к сердцу прижала их этими старыми, натруженными руками и вся осыпалась мелкими слезинками. Она и ласкала и отодвигала от себя внуков, любуясь ими, и снова, бормоча что-то сквозь слезы, притягивала их к себе, а дядя Василий носил вещи в верхнюю, лучшую комнату, а тетя Федосья, сухая и маленькая, быстро уставляла стол тарелками. Аня дичилась, а трехлетний Саша, тихий, как всегда, охотно сам шел к старушке и прижимал мягкое личико к ее морщинистой щеке, точь-в-точь так, как она это сделала.
— Ах ты, голубенок мой беленький! — шептала восхищенная бабушка.
Весь этот день они то сидели за столом и откушивали, то отдыхали в спальне, прикрывшись кисейкой от мух. И чего-чего не было на столе, каких только удивительных пирогов не напекла тетя Феня, и какие странные леденцы были в вазочках — зеленого, красного, голубого, желтого цвета, перекрученные колечками, и пряники в виде сердца и лиры, и варенье из моркови, из розовых лепестков, из дыни, и наливки всевозможных букетов, собственноручно настоянные и процеженные бабушкой, и азиатский пилав с поджаренным миндалем и изюмом, — ну, разве съесть все за один раз! Мария Александровна скажет: «Довольно, довольно, совсем ребят избалуете», а бабушка знай подкладывает, а потом опять ведет полежать и отдохнуть, запирает ставни, выгнав полотенцем назойливых мух, и не успеют гости встать с постели, как уж опять стол накрыт, а мухи в комнате — тучами.
— Мамочка, мы лопнем! — шепчет Аня.
В вечеру пришли почетные гости, старые други семейства, и опять за столом говорили и говорили. Про маленького Илью Николаевича рокотал бархатный басок священника Ливанова:
— Старик Николай Васильевич детей держал строго. Раз он дает гривенник будущему вашему благоверному — а Ильюше был тогда шестой годок, — посылает в лавочку за чаем, на пятачок чаю купить, пятачок сдачи принести. Ждем, пождем — нет мальца. Пропал. Что-то, старик говорит, нету мальчика, погляди, Вася, на улицу. Василий открыл дверь в сени и глядит, а в сенцах, как в шкафу, ни жив ни мертв — Ильюша. Стоит весь в грязи и войти боится, и постучать боится, и заплакать не смеет, — это он в лужу упал и покупку перепачкал. Строговат был ваш покойный свекор. Да и хлеб ему дорого давался. И лета были патриаршьи — под семьдесят.
Вспомнил он и про давнишнее посещение Астрахани блаженной памяти покойным опальным стихотворцем Тарасом Шевченкой, стихи которого знал и любил, несмотря на их вольность.
— Колбасу в нашем городе искал, — рассказывал, усмехаясь, батюшка, — привык, должно быть, в немецком граде Питербурхе к пословице «немец, перец, колбаса»; ходит по улице, встретил моего отца дьякона и спрашивает, есть ли тут сарептские немцы, чтоб у них копченых колбас на дорогу купить. Долго искал. Но у нас, знаете, запросто. Что нужно, сами себе дома на потребу изготовляем. Свекровь ваша, Мария Александровна, славится своей хозяйственностью. Так и уехал не солоно хлебавши! — И отец Николай Ливанов пригубил рюмочку.
То был незнакомый ей мир. Но Марии Александровне, воспитанной совсем в других условиях, он казался понятней, чем рауты у директорши Садоковой.
Черный труд выпал на долю семьи мужа: до смерти трудился свекор, испитой и желтый под старость; трудился Василий в соляных объездчиках, а потом в приказчиках, — вот и завтра ему вставать спозаранку, раньше всех; беспросветный труд, среди горшков и ухватов, выпал матери мужа. Такая простая жизнь; о такой жизни столько она прочитала романов, сеющих уважение и жалость к народу! И разве Илья Николаевич, вечный труженик, не плоть от плоти судьбы народной?
Между тем время отъезда в Симбирск приближалось. Илья Николаевич заканчивал последние свои нижегородские дела. В беготне по городу без шляпы он загорел и окреп, даже на маковке, где у него быстро лысело, опять пошли волосы, и шея обросла вьющейся от самых ушей бородой.
Ауновские писали, что нашли Ульяновым на Стрелецкой улице — правда, не в центре, но место считается высокое, сухое, здоровое — дешевый отдельный флигелек во дворе.
В то утро, когда он снова встретился с женой в Нижнем, Мария Александровна, соскучившаяся по мужу, воскликнула:
— Да ты поздоровел без меня, Илья Николаевич!
А для него в ней тоже была новизна — от ее загара, от детских разговоров и привезенных кулечков с подарками веяло родным городом Астраханью, материнскими объятиями, воздухом детства, — словно теперь только они сблизились самой последней близостью.
Полные новых впечатлений, каждый по-своему в одиночку разбогатевшие, они опять были два отдельных человека, перед тем как слить две жизни в одну.
Лето почти прошло. За окном лежала дорога в столбах и звала их, плыл мир в грядущее и звал их, и уж действительно плыл на грузовой барже весь их семейный быт, в сундуках, в рогоже, ящиках и корзинах, — рояль, стулья, кровати, посуда, книги, трюмо, зимние вещи — все плыло из Нижнего в Симбирск и тоже звало их.
Илья Николаевич был в это время в полном расцвете своей мужской зрелости: ему исполнилось тридцать восемь лет. Жене его шел тридцать пятый. Когда, наконец, оба они ступили на симбирские сходни, Мария Александровна носила в себе четвертого своего ребенка.
ПРИЕЗД В СИМБИРСК
В те два года на Волге стояла засуха. Урожай пропал до последнего колоска. Крестьяне голодали подряд две зимы, голодали отчаянно, вымирали деревнями и волостями, людоедствовали, обугливались в тифу, а потом пришла еще холера и покосила народ. Но в конце сентября 1869 года — время приезда Ульяновых в Симбирск — хлеб как будто взошел хорошо. На пристанях мордовки уже продавали калачи, бублики и пироги с медом. Веселей с виду становилась и публика четвертого класса, — только перед самым Симбирском нижнюю палубу запрудила странная в своем молчании толпа.
В лежащих вповалку людях, в истомленных, худых лицах баб, повязанных по-великорусски, — не на затылке, а под самый подбородок, в молчаливых мужиках, уткнувших головы в руки, в их убогих узлах, продетых на палку, в молчании грудных ребят было что-то неподвижное до жуткости. Даже незаметно было, когда они пьют или едят. Казалось, это ехали души умерших через Стикс, только вместо гребца Харона хрипел и чавкал паровой котел.
Что была за притча в этом безмолвии?
Илья Николаевич попробовал спросить раз и другой, ему отвечали односложно и вяло, даже не вскидывая шапку поверх лба, и желтовато-восковые губы шевелились нехотя, словно с болью. И вдруг, никем не спрошенная, из угла пронзительно заговорила баба:
— Из деревни мы, барин, ушедши. Свой-то хлеб не убран оставили, завлеклись, позарило нас. Да, видишь, какое дело; тыщ нас пятнадцать, мужиков и баб, ушло в Заволжье, сулили по четвертной за жнитво с десятины-то и обманули нас, милостивец, кругом обманули, без ножа зарезали. Что будешь делать! Свое-то хозяйство прахом, вот теперь и каемся, да локтя не укусишь, вчерашнего не воротишь!
Он ничего не понял. Долго приступал и к ней и к другим с расспросами. Какой-то мещанин в картузе, хвативший, видимо, еще с утра лишнего, словоохотливо пустился объяснять, но говорил маловразумительно и больше пословицами, сочно упирая на букву «о»:
— Авóся ждáнки съели, господин чиновник. Так оно на роду у русского мужичка написано. Вот и горюет теперича. Не евши тощó, а поевши тошнó…
И только машинист рассказал Илье Николаевичу страшную историю этих разоренных людей.
Урожай с весны обещал быть хороший, и помещичьи агенты, желая завербовать для уборки огромных поместий заранее батраков, с весны смутили крестьян большим посулом, что-де за Волгой дадут им по двадцать пять рублей на каждую сжатую десятину. Такая цена — аховая цена, но мужики поверили, потому что и прошлые годы стояли вздутые цены. Рассчитывали они так: заплатят дома у себя за уборку своих полей по четыре-пять рублей, а сами на уборке возьмут выше той цены впятеро и вшестеро да на прибыль и справят хозяйство. Но вышло иначе. Пятнадцать тысяч человек, снявшихся с места и ушедших на заработки за Волгу, отошли вглубь на сотни верст, а там батраков оказалось свыше, чем надобно, как помещики и построили свой расчет; идти назад не солоно хлебавши тоже не на что, и вот крестьяне нанимались жать и по три рубля за десятину, лишь бы не помереть с голоду, лишь бы живыми домой добраться. Три четверти ушедших не заработали ничего и возвращались, имея перед собой еще долг за уборку своего хлеба.
— Эх, славны бубны за горами! — кончил рассказ машинист. — Серый народ, их обкрутить легче, чем вшу поймать, ваше благородие.
Илья Николаевич содрогнулся. Теплой струей пробежала у него по телу не жалость даже, а острая нежность к этим побитым жизнью, нежность, похожая на страдание. Так бывало с ним за чтением любимого поэта Некрасова. Он вез с собой его старенький томик, изданный в 1863 году, тот самый, про который Тургенев воскликнул: «А стихи-то Некрасова, собранные вместе, жгутся!» И сейчас, войдя в каюту, рассеянный и омраченный, походил-походил, как зверь в клетке, от стены к стене, а потом раскрыл книгу, уронил щеку в ладонь и стал по-новому перечитывать знакомые строки:
Раз я видел, сюда мужики подошли,
Деревенские русские люди,
Помолились на церковь и стали вдали,
Свесив русые головы к груди;
Показался швейцар. «Допусти», — говорят
С выраженьем надежды и муки.
Он гостей оглядел: некрасивы на взгляд!
Загорелые лица и руки,
Армячишко худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах,
В самодельные лапти обутых
(Знать, брели-то долгонько они
Из каких-нибудь дальних губерний).
Кто-то крикнул щвейцару: «Гони!
Наш не любит оборванной черни!»
И захлопнулась дверь. Постояв,
Развязали кошли пилигримы,
Но швейцар не пустил, скудной лепты не взяв,
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: суди его бог!
Разводя безнадежно руками,
И покуда я видеть их мог,
С непокрытыми шли головами…
За заставой, в харчевне убогой
Все пропьют бедняки до рубля
И пойдут, побираясь дорогой,
И застонут… Родная земля!
Назови мне такую обитель,
Я такого угла не видал,
Где бы сеятель твой и хранитель,
Где бы русский мужик не стонал?
Стонет он по полям, по дорогам,
Стонет он по тюрьмам, по острогам,
В рудниках, на железной цепи;
Стонет он под овином, под стогом,
Под телегой, ночуя в степи;
Стонет в собственном бедном домишке,
Свету божьего солнца не рад;
Стонет в каждом глухом городишке,
У подъезда судов и палат…
Волга, Волга! Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля…
Он читал, и глаза его увлажнились. Это было написано одиннадцать лет назад. Вчерашний раб ныне свободен — и что же? Он такая же темная, безответная жертва хитрости и подлости, все так же на нем, как на скотине, ездят другие в свою пользу и выгоду… Учить его, учить, вывести его из темноты к свету!..
Новый инспектор народных училищ, коллежский советник Ульянов, по чину еще только начинающий восходить по лестнице, был уже лицом, о прибытии которого печатают в губернских газетах. Ему предстояло появляться всюду, где присутствуют верхи города, — на торжественных молебнах, открытиях, похоронах, юбилеях. И Мария Александровна была теперь тоже супругой должностного лица. Оба почувствовали это, как только подъехали к Симбирску.
Снизу, с пристани, город наплыл на них красотой русской ранней осени. В золоте сквозили сады под горой, наверху сверкали соборные колокола, в прозрачной ясности были остро слышны звуки, падал, ухая, куль на землю, визжала где-то пила, неслись низко, шурша крылом, птицы, зазывали извозчики, и — надо всем этим — бархатно-ясно малиновым звоном пробили, разносясь далеко надо всем городом, знаменитые часы с Васильевской церкви, подарок графа Орлова-Давыдова городу Симбирску.
Как ступил Илья Николаевич на землю, пожимая руки встречающим и на ходу что-то уже спрашивая и говоря, так Мария Александровна сразу и потеряла его чуть не на всю зиму.
Чиновники, его встречавшие, с первого взгляда почуяли в этом быстром, картавящем, сутуловатом человеке, одетом вовсе не по-столичному, в его улыбке и пожатии настоящего труженика, простую душу, какие тянут обыкновенно гуж всерьез и за совесть, одни за всех.
Он выехал в предварительный объезд по губернии, не дожидаясь, пока семья распакуется на новом месте, чтоб не пропустить хорошую погоду, и с первым же крепким ветром на околице понял, что теперь пришло к нему главное дело его жизни. Скошенные поля с вороньем, крылья мельницы за пригорком, болота, заросшие очеретом с тяжелой, грязной кувшинкой; избы как гореть опят на мокрой земле под неожиданным холодноватым дождем, переливчатый ямщицкий бубенец, отвязанный от дуги и зазвеневший вовсю, чуть отъехали от города; родные землистые бородатые лица — все это было теперь его, здесь будет он проезжать хозяином необъятной пажити, и он страстно желал работы на ней.
Ему даже совестно было, что так хорошо, по душе, дается эта работа, во всей прелести деревенского воздуха, отнятого у городских жителей.
ОБЪЕЗД ГУБЕРНИИ
Еще в Нижнем Илья Николаевич хорошо изучил губернию, по которой предстояло ему колесить. Но только на месте узнал он в точности о дорожных своих маршрутах.
Уездов в губернии считалось восемь. На юг, к Сызрани, шла проторенная дорога с хорошими почтовыми станциями. Здесь ездили на чугунку, и дорога эта проходила по двум уездам: Сенгилеевскому и Сызранскому. Да и верст она захватывала сравнительно немного: сто тридцать три с четвертью по прямой, не больше двухсот с заездами по деревням.
В центре губернии сообщение тоже было не трудное. Два уезда, Симбирский и Карсунский, лежали бок о бок и были подробней других освещены в отчетах уездных училищных советов. Сюда чаще ездили из губернского центра, и отсюда в Симбирск то и дело гоняли перекладных.
Зато северный маршрут — триста двадцать верст по прямой, а поколесишь по тамошним школам, наберешь и все полтысячи — был не только самый сложный по состоянию дорог, но и требовал больше времени.
Чуть ли не в первый час приезда исполнявший инспекторскую должность до него господин Вишневский повел Илью Николаевича к себе в служебный кабинет, чтоб вооружить его, как он выразился, цифрами и фактами. Он расстелил на столе обширную, на кальке схематически вычерченную карту губернии, покрытую крестиками церквей, кубиками ямских станций, двойными кружками школ, змейками грунтовых и пунктиром проселочных дорог, и начал, входя во вкус своей задачи, можно сказать, с Адама: с закладки окольничьим Хитрово в 1648 году первых домов Симбирска; с чумы, посетившей город в 1654 году; с приезда в 1666 году грузинской царицы Елены; с осады Симбирска спустя четыре года вором и разбойником Стенькой Разиным; со вторичного посещения Симбирска государем Петром Алексеевичем, раскинувшим, по преданию, палатку на берегу…
Но тут утомленный этой официальной историей, Илья Николаевич смущенно прервал Вишневского неожиданным вопросом:
— Как Симбирская губерния в отношении телеграфа?
Телеграф был в те годы еще новинкой, распространявшейся медленно. По уездам, которые предстояло ему объезжать, телеграфных станций пока нигде, кроме Сызрани, не было. Но Вишневский ответил, что в Промзине достраивается и буквально на днях будет открытие. Илья Николаевич поискал Промзино на карте. Это и был трудный северный маршрут, шедший по четырем северным уездам: Карсунскому, Ардатовскому, Алатырскому и Курмышскому. До Промзина, через Тетюши, Тагай, Урень и Русский Кандарат, было верст сто пятнадцать.
Илья Николаевич откашлялся и проговорил мягким своим говорком:
— Вот и начну с Промзина, а приеду — буду изучать цифры. Природа начинает с внутреннего — interiora prius, — полушутя процитировал он запомнившуюся ему латинскую цитату из чьего-то восторженного пересказа латинской дидактики Амоса Кóменского. — Ведь общий очерк губернии я уже знаю, — поторопился он добавить, увидя, как поднялись брови у Вишневского. — Знаю и число школ, и соотошение национальностей в губернии.
— Как вообще на Волге, нам приходится учитывать свыше тридцати процентов инородцев — татар, мордвы, чувашей, — подхватил Вишневский. — С татарами трудно: муллы крепко их держат: они только и знают свои медресе, но бедны, бедны до крайности… Чуваши и мордва на редкость трудолюбивы. Чуваши хорошие пчеловоды, самый лучший мед в губернии у них. Мордва толкова, переимчива, быстра на новинки. В общем, вы сами увидите. Со школами, конечно, туго у нас, но училищные советы кой-где работают недурно. К вашему приезду собрали много отчетов с мест, их придется обработать…
Илья Николаевич попросил себе карту и стал готовиться к отъезду.
Какой-то помещик, объездивший пол-Европы в собственном необыкновенном дормезе на рессорах, где все было предусмотрено для дорожной жизни, говорил ему как-то полушутя-полусерьезно, что на свете все относительно, и колесный способ передвижения с пристяжной тройкой или даже шестеркой цугом ничуть, может быть, не медленнее современной паровой железной дороги и, во всяком случае, много удобней:
— Рельсы вы не сдвинете и вагон ваш с этих рельсов по желанию свести не сможете. А лошадей свернете, куда хотите, и дорогу выбираете, где вздумаете, лишь бы лошадям было куда ступить. А скорость — иной чин в эполетах, с особой подорожной, так пронесется, что любому поезду его не догнать, был бы документ да деньги в кармане, да ямщика в спину тузи. Техника — понятие относительное!
Насчет выбора путей этот оригинал, может, и недалеко ушел от истины. По каким только дорогам, куда и носу не сунет чугунка, пробирались лошадиные копыта по матери земле!
Ездить можно было, в зависимости от цели и средств, на разный манер. Не к спеху — и вы едете «на долгих», произнося это техническое для своего времени слово с ударением на последнем слоге. Выехали из вашего города на одних лошадях с одним ямщиком — и на тех же лошадях и с тем же самым ямщиком доедете до места своего назначения, проезжая по пять-шесть часов в сутки; остановитесь, где положено, на ночлег, погуляете по городу, забредя к знакомому, а то, на манер Чичикова, даже к окрестному помещику. И пока сами отдыхаете, отдыхают и лошади, а там назавтра — опять дорога, бубенчики, ямщицкая песня, придорожные трактиры, заяц через дорогу.
Есть спех — вы избираете «перекладные», и тут действительно мчишься, как выпущенное чугунное ядро из доброй старой пушки времен Очакова. Через каждые пять часов — стоп у ямщицкой станции; молча, с дугами и сбруей на потных спинах, пышущих жаром, отводит ямщик лошадей от коляски, словно паровоз от состава, а из конюшни уже ведут к вам и приставляют в оглобли свежую тройку с расчесанными хвостами, и новый, незнакомый вам кучер, отоспавшийся, вскакивает на облучок, на ходу подбирая вожжи. Не успели оглянуться — и опять мчитесь, опять однотонная музыка дороги, крапчатый дождь простучит по верху дорожной коляски, уминая дорожную пыль, вспыхнет и замрет вдалеке собачий лай. Ночью вы спите, вытянув ноги. Вы привыкли к колыбельному качанью рессор, У вас и голова не кружится, и сны легкие, и свежий ночной воздух летит к вам под полог с дороги, навевая их. Раза три переменят тройку, покуда вы отоспитесь и спросите наутро у незнакомого ямщика: «Что, брат, за станция?»
Но для Ильи Николаевича Ульянова оба эти манера оказались, в сущности, литературной иллюзией, отвлеченной, как и всякая иная иллюзия. Он выехал в казенной бричке, набившей ему в первый же час до боли бока. Пыль столбом стала при выезде из города. Ровная и унылая дорога плыла медленно, вдоль древнего вала, тянувшегося отсюда невысоким, непрерывным ребром до самой Москвы — остаток древней русской истории, когда наступала на эти равнины орда. Часами только и мелькало перед Ильей Николаевичем, немилосердно подбрасываемым на жестком сиденье, белое с черным, — это сливались в глазах бежавшие вдоль дороги «вёрсты полосаты». Переехали реку Свиягу, и стало совсем невмоготу. Сильные осенние дожди прошли недавно в этих местах. Вокруг — до самого горизонта — раскис чернозем, лежавший под паром. Кое-как, мимо бедной деревушки Баратаевки, где дали лошадям отдых, добрались на ночлег до Тетюшей. И что это был за ночлег!
Илья Николаевич еще не знал дорожных правил и не захватил с собой ни погребца, ни персидского порошка. Похлебав на ночь из одного котла с ямщиком, он улегся было на лавке, но до утра не мог сомкнуть глаз. Вдоль бревенчатых, плохо законопаченных стен непрерывным потоком шуршали клопы, обжигавшие ему непокрытую голову, лицо и руки. Воздух в ямщицкой избе был невыносимо спертый, керосиновая лампочка, всю ночь горевшая, светила тускло, как в шахте. Два крохотных оконца не имели и подобия форточки, но открыть их ему не удалось, — стекло было наглухо вделано в неподвижную раму. А рядом спали еще люди, он слышал тяжкий храп, видел изнеможенные от усталости лица — сон свалил их, как только тело опустилось на лавку.
Но утро, холодная струя из рукомойника, острый озон свежего деревенского воздуха принесли ему облегчение. От Тетюшей до Тагая идти пришлось пешком, чтоб не пали лошади. Дорога пошла по болотам. Сперва пробирались по гатям — искусственным насыпям, обложенным щебнем, щепками, прошлогодней соломой. Потом пошли зажоры — ямы с водой, чуть прикрытые неожиданно пошедшим ранним снегом. Лошади до колен проваливались и, хрипя, вытягивали из ям ноги под отчаянную ругань ямщика. Он тоже шел рядом, по пояс в грязи, а впереди были версты и версты все тех же гатей с теми же, полными черной воды, зажорами. Лишь на восьмой день добрались они до широко разлившейся под дождями и снегом полноводной Суры. На том берегу ее, поднимаясь над рекой, раскинулось Промзино. Неуклюжий паром ходил по Суре, и они едва нашли себе место между крестьянскими возами, мычавшими коровами, выпряженными конями, стоявшими, понурившись и прикрыв ресницами усталые глаза. Илья Николаевич заметил впервые седину старости в лошадиных гривах и ресницы у лошадей, совсем как у людей. Но мысли его лишь мельком коснулись этих подробностей: он неотступно думал о том, что встретил в дороге.
За семь дней пути, всюду, где мог, он сворачивал в деревни, где была или должна была быть школа. Он посетил три из них и сейчас думал об этих школах. В одном месте его повели в караулку без окон. Зимою она освещалась из открытой двери. С десяток ребят сидели в этой сторожке за двумя наспех сколоченными столами. Старинным способом, по складам, их обучала полуграмотная попадья, покуда муж ее отправлял дальнюю требу.
— И часто приходится вам заменять мужа? — спросил ее инспектор, войдя в сторожку.
— Коли время есть, отчего ж не заменить, дело нехитрое, — словоохотливо отозвалась попадья, еще не зная, кто пожаловал к ним.
Разутые, с посинелыми носами, хотя стужа еще по-настоящему и не началась, дети сидели нахохлясь, и было видно, что их привели сюда точь-в-точь так, как развязывая тряпицу, отдают мужики, вздыхая, дорого доставшуюся гривну на школьный сбор: заплачено — отрабатывайте.
За инспектором в сторожку вошел, сконфуженно улыбаясь, местный староста — маленький рябой мужичонка. Он не видел никакого проку в грамоте, которой и сам не обучался; он не видел проку загонять сюда детей, чтоб тянули нараспев склады, когда могут подсоблять взрослым по хозяйству.
— Второй год одно тянут, рази ж это школа! — произнес он с явным неодобрением.
В другой деревне для школы отведена была грязноватая, с русской печью и заплеванными сенцами изба. Ночью в ней спал на печке сам учитель, отставной солдат.
— Детей почем зря колотит, — пожаловались на него бабы, — а напивается, на всю деревню горланит. Чему такой научит?
В третьем месте его встретила молодая, культурная помещица, с лицом тургеневской девушки. Явно гордясь, она повела его в светлую, большую комнату при барском доме, уставленную выписанными из города крашеными пюпитрами. Помещица оборудовала школу на свой счет и будет вносить на ее содержание триста рублей ежегодно. Вот только нет подходящего учителя. Ее племянницу не удалось уговорить остаться. Училищный совет обещал прислать… И она занимается пока сама.
— А где же учащиеся? — спросил ее инспектор, разглядывая картинки на стенах, чистые, нетронутые тетради на пюпитрах и большую аспидную доску с нетронутым мелком.
— Дети пока еще очень нерегулярно ходят, — ответила помещица, вспыхнув. Ей стыдно было признаться, что никто из детей не заходил в эту комнату, вспугнутые пронзительным ее окриком — снять сапоги с налипшей грязью. Что сталось бы с этой красавицей комнатой, если б дети пришли сюда как они есть! Она твердо решила построить баню и сперва привести их в порядок, сколько бы это ни стоило, вот только управляющий… С ним надо торговаться.
Школа, но без ребят в одном месте; ребята — и без школьного помещения в другом, а главное — главное было в отсутствии центральной фигуры — настоящего школьного учителя. Илья Николаевич за семь дней пути уже освоился со всеми неудобствами дороги, привык к ним и замечать перестал; даже насморк, с каким выехал он еще из Нижнего, прошел от непрерывных, так хорошо согревавших его усилий в дороге, когда, помогая ямщику он подталкивал бричку или просто с трудом месил и месил ногами дорожную грязь. Ветер и дождь исхлестали ему щеки, он был необычно румян, и похудел, подтянулся, и трудности ничуть не испугали его. Он втягивался в предстоящее ему большое дело, зная, что уже ни за что не уйдет от него. И ему было ясно, с чего надо начать. Методика, звуковой способ, замечательные, бесспорные законы дидактики, о которых он уже столько читал и слышал, — все это так, но это не может зажить, стать действенным, открыть настоящую свою цену без живого носителя педагогической науки, без подготовленного учителя. Здание, оборудование, книги и пособия — все это так; обо всем этом надо начать хлопотать, — но люди, люди… Поставить школьное дело во вверенной ему большой губернии, чтоб это дело стало реальностью, можно лишь с помощью учителей, десятков учителей, для которых родным станет дело обучения крестьянских ребят. И он дал себе слово: как вернется в город, первым долгом начать подготовку учителей.
Паром медленно двигался по реке, а гребцы в раздувшихся от ветра рубахах мерно поднимали и опускали в воду длинные, похожие на лопаты, весла. Вот он подплыл к пристани, полетела на берег тяжелая цепь, и кто-то в один миг закрепил ее на причале. Возы один за другим стали съезжать с парома. Было заметно, что они приехали не в простой день недели, — Промзино шумело праздничной жизнью. Трехцветный флаг Российской империи болтался на шесте, как в праздник; у церкви толпился народ, слышалась разухабистая гармонь — было четвертое октября, день торжественного открытия в Промзине своей телеграфной станции.
«Станцию открывают — наверняка первым долгом есть для нее телеграфист, — невольно подумал Илья Николаевич. — Вот так надо открывать и школы».
РОЖДЕНИЕ СЫНА
Тем временем Мария Александровна устраивалась на новом месте. Ей было трудно. Мужа она почти не видела; неделями он не ночевал дома. Кроме семьи Ауновских, ей не у кого было спросить совета, одолжиться необходимым. Соседей, близких, как в Нижнем, по общему коридору, здесь совершенно не было, весь склад жизни оказывался другим.
Стрелецкая улица, где Ауновский нанял для них флигель, одним своим концом выходила к небольшой Никольской церкви, нынче снесенной, а другим упиралась в Старый Венец, в тюрьму, чуть не за город. На этом дальнем конце, во дворе двухэтажного дома, и помещался нанятый флигелек.
После нижегородской «анфилады» он показался Марии Александровне тесен, она не могла даже распаковать всю мебель, и часть ее была снесена на чердак. Но хозяин уверял, что скоро освободятся верхи в большом доме, окнами на улицу.
На Старом Венце — крутом откосе над Волгой, занесенном желтыми мокрыми листьями, — уже веяло близкой зимой. Резким холодом несло от деревянных, тоже мокрых скамей. Внизу в дивном просторе вилась Волга, и небо над ней было исчеркано, словно мелом по синеве, густым пером облаков. Сюда по воскресеньям приходили мастеровые сорить семечками, грызть сладкие черные стручки и наигрывать на «тальянке». Тюрьма, огороженная стеной, выходила окнами прямо на Венец. Сквозь решетки постоянно налипали бледные жадные лица и выбритые головы. В будни, когда народу было меньше, приходилось посылать сюда на прогулку Аню и Сашу.
Одной Насте уже трудно становилось управиться, и Мария Александровна письмом попросила сестру Аннушку подослать ей к весне из Пензы няню, такую же опытную, как веретенниковская.
В первый день, приехав и едва разложившись, Мария Александровна была новым городом, несмотря на тесноту флигеля, даже довольна — все ей напоминало деревню. Тихие особнячки с деревянной резьбой, скамейки перед воротами, пыльная, немощеная улица, дощатые тротуары, куры, копающиеся в навозе, унылое кукареку с чужого двора и приглушенность, обособленность их собственной жизни, канувшей сюда, словно капля дождя в песок, — так все хорошо, «вольготно», было тут, по выражению Насти, тотчас же с парохода принявшейся во дворе за стирку, чего уже никак не позволялось на гимназическом дворе в Нижнем.
На центральных улицах, правда, деревня уже отступала, но словно бы не перед городом, а перед поместьями. Статные, белые с желтым, особняки; малиновые с белым, изукрашенные кирпичными зубчиками под крышами и на карнизах, казенные заведения; тяжелые «ряды» прошлого царствования — все это носило особый, не похожий на нижегородский, колорит. Здесь с гордостью показывали ей белый дом господ Языковых, где проездом останавливался Пушкин; длинное, похожее на хлебный амбар, здание, где в богатой купеческой семье родился писатель Гончаров; называли своих симбирцев — Минаевых, Воейковых; поэт Минаев родился тут в 1835 году, Анненков Павел Васильевич — в 1812-м, а в их же губернии в 1766-м родился Николай Михайлович Карамзин. И словно во внимание к этой чести здесь тоже, казалось, царила тишина.
Но тишина обманывала.
На второй день по приезде Ульяновых перед домом Прибыловского задержалась карета — это приехали первые визитерши. Мария Александровна вышла, как была, с доброй улыбкой на красивых губах, милая и приветливая. Тотчас было замечено, что инспекторша держится хорошо, прямо, как институтка, и губы у нее с лукавством, — народ говорит про такие: «губы сердечком», — тонкие, чуть пухлые на середке, словно еще не раскрытая в бутоне улыбка, а над губой справа большая родинка. Печенье же инспекторши прямо «во рту тает».
Но за первыми визитерами нахлынуло их множество.
В деревянных особнячках с резьбой жили дворяне, купцы и чиновники; у них еще служило по пять-шесть человек бывших дворовых. Осенью из деревни приказчик посылал дворянам возы битой дичи, мешки с мукой, бочки соленого и квашеного, ящики сушенья и печенья.
Через неделю, когда собственное надоедало жевать, начинались «гости» — весь город ходил жевать друг к другу. Люди называли это «проводить время». А у Марии Александровны время было самый драгоценный продукт ее хозяйства; она высчитывала и выкраивала каждый его обрезок, чтоб успеть хоть на ночь, на полчаса, вынуть и для себя книгу из комода, заложенную закладкой, и почитать при лампе, поворачивая листы, как это она одна умела, с верхнего края, осторожно и не загнув угла. И добро бы шли эти люди для разговоров, заменяющих иной раз хорошую книгу, как это повелось у них в Нижнем. Переливали из пустого в порожнее — вот был симбирский разговор в гостях. Музыка тут любовью не пользовалась, театр пустовал; когда показали «Горячее сердце» Островского, десятка зрителей не было в зале!
И приходилось отгонять гостей разными хитростями: всякий раз будто только-только еще приехали они в Симбирск, будто и не успела сменить рабочей одежды, и даже безмолвная выразительность ее спущенной поверх пояса блузки над приподнятым животом, — ну как тут «принимать» и самой «выезжать»? Прежняя нижегородская застенчивость, заставлявшая ее так часто и легко вспыхивать, уже прошла. Уже она различала, кому не стоило отвечать улыбкой на дешевую и привычную светскую улыбку.
Скоро между симбирскими дамами и ею повеяло холодком отчуждения. Опять, как в Нижнем, прошел стороной неприятный слушок о том, что-де Марии Александровне не хватает «широкой русской натуры».
Великим постом приехала от сестры Аннушки из Пензенской губернии со своей подушкой и деревянным сундуком, кованным по углам железом, новая няня Варвара Григорьевна — толстая, строгая, средних лет, с бровями кустиком, где над мелкими русыми бровинками росли другие, потемнее и подлиннее.
На страстную неделю мороз сдал сразу, и сделалось душно, как в парнике; белый Симбирск осунулся, повисли дымные очертания его церквей. В воздухе, в снегу, в скованной Волге, в почтовых трактах, уходивших из города в белые поля, шло неотвратимое, медленное движение к весне.
Марии Александровне нужно было готовиться к пасхе. В среду на страстной с кухаркой Настасьей она поехала по магазинам.
Неимоверно были грязны улицы; рынок забит возами со всякой снедью, битыми индейками и пулярками, балыком, осетриной, кадушками со сметаной и творогом, мешками муки всех сортов помола, корзинами свежих яиц. Мужики ночевали тут же в рогожах, пряча выручку за онучи. Извозчики стояли и ждали стайками, крича заранее: «пятиалтынный», «две гривны», даже — «пожалте за гривну, по воздуху домчу!». Паперти кишели нищими.
Мария Александровна не задумывалась, верит она в бога или нет, но не любила разговоры о религии и не откликалась, когда перед ней разливались на эту тему. В глубине души она была скорей неверующей, и чем дальше, тем больше. Представить себе бога она могла не иначе как насильственно, отрешившись от всех обычных представлений о жизни и предметах, и ей просто трудно было найти ему в воображении место, еще не занятое другим чем-нибудь. И уж чего она решительно не понимала, так это обращения к религии в поисках истины, в желании объяснить, откуда произошла жизнь. Если даже есть бог, думала она, то ведь это значит, он должен быть такой сложный и такой окончательный, раз к нему сводится весь смысл жизни, что он труднее, сложнее всякой науки, дальше от ума, чем все законы природы, и, чтобы постичь его, надо больше потратить времени и учения, чем на постижение одного какого-нибудь из его маленьких законов! А если он дается людям легче науки, так в нем не может быть истины, это самообман вроде звона в ушах.
Но мыслями своими она мало с кем делилась и обряды соблюдала вместе с семьей. В страстный четверг зашла она в битком набитую Никольскую церковь, где, знала, должен присутствовать и муж. Но невозможно было увидеть его в толпе. Нестерпимейшая духота охватила ее, потная, промасленная; и Мария Александровна вспомнила правило своего отца: хочешь прожить долго, живи на воздухе; свежий воздух — комфорт умного человека.
Она не выдержала, не стала дожидаться конца службы, а вернулась тихонько домой, не зажгла нигде лампы и сама прилегла, как была, одетая.
Утром в пятницу, десятого апреля, Илья Николаевич поехал из дому прямо в типографию «Симбирских губернских ведомостей», чтоб просмотреть и выправить идущий в завтрашнем, субботнем, номере, последнем перед пасхой, отчет о состоянии симбирских народных школ. Отчет был длинный, и газета согласилась провести его в трех номерах. Завтрашнее начало и его продолжение шли за подписью И. Вишневского, и только окончание отчета подписал он сам, хотя вложил свой труд и в первые два. Со вниманием просмотрев гранки, подписанные Вишневским, он еще раз пробежал глазами остальную рукопись.
То был его первый инспекторский отчет, где подводилась всесторонне освещенная общая, итоговая картина образования народного в целой губернии. Тут были цифры, присланные с мест и проверенные на местах, были характеристики, данные уездными училищными советами, и были его, Ильи Николаевича, собственные выводы, к которым пришел он не на одном лишь анализе уездных отчетов, а побывав за полгода в каждой деревне, где только имелась народная школа. Многое после первой поездки показалось ему не так уж плохо, многое успел он переоценить, передумать. Сколько раз и сам он, собрав сход, говорил с крестьянами, убеждая их видеть в школе свое личное, важное, нужное дело, — и научился простыми, ясными словами затрагивать их интерес. И отыскивались ведь кое-где не одни бестолковые дамы-патронессы, безграмотные попадьи, пьяные солдаты, тупые писаря и батюшки, поспешавшие на требу за яичками, курочками и рублями, а настоящие учителя, с искрой в душе, с пониманием дела, помещики — патриоты школ, горячие земские деятели…
Илья Николаевич уже ясно, как на ладони, видел перед собой всю свою будущую работу, а карта губернии перестала быть для него только белыми кружевами на кальке. Он быстро читал про себя:
«Число учащихся обоего пола в 430 сельских школах по губернии простирается до 9717… Обучающихся мальчиков с лишком в 5 раз больше девочек… Крестьяне, даже из чуваш, начинают сознавать пользу грамоты для мальчиков, но… не могут понять, для чего нужна грамота женщинам. Для этой цели постепенно вводится в женские школы обучение простому рукоделью…»
«Училища имеют различные помещенья: бывшие удельные имеют особые дома, более или менее приспособленные к делу обучения… хотя некоторые уже приходят в ветхость и холодны во время сильных морозов… Женские школы… или в домах священно- и церковнослужителей, или в крестьянских избах, или в церковных караулках, иногда сырых и холодных. Необходимо озаботиться заменой неудобных во всех отношениях церковных караулок более удобным помещением, потому что в сырых и холодных караулках… нельзя ожидать успешного хода учения».
«Методы преподавания в школах различны: в одних употребляются до сих пор старые приемы, постепенно оставляемые дельными преподавателями, в других употребляется метод Золотова и, наконец, в немногих начинает постепенно вводиться прием барона Корфа».
«В некоторых училищах употребляются следующие дисциплинарные средства: занесение фамилий лучших учеников на красную доску, худших на черную, поставление ленивых, шалунов на ноги во время класса за столом и поодаль на колени… Из всех этих мер желательно было бы постепенно выводить из употребления ставление на колени, как меру чисто физическую, а вводить, по возможности, меру нравственного влияния на учеников».
«Число учащих в губернии 526, в том числе: священников 294, мулл 3, учителей с их помощниками 199 и учительниц 30. Учителя большей частью из крестьян (59), затем из духовного звания (31), мещан (20); есть также сельские церковнослужители, чиновники, сельские писаря и унтер-офицеры».
«Губернское земское собрание, заботясь об улучшении народного образования по всей губернии, открыло педагогические курсы при симбирском уездном училище с целью приготовления народных учителей, для чего и ассигновало в прошлом, 1869 году 1850 руб.».
Илья Николаевич вздохнул — маловато, конечно. Важен, однако, самый почин, а почин положен, тут и его меду капля.
«Степень… сочувствия крестьян школе находится в прямой зависимости от пользы, приносимой училищем их детям, а польза, в свою очередь, прямо обусловливается личными качествами и добросовестным ведением дела преподавателя».
Он дочитал и увидел, что рукопись еще не подписана, поискал глазами перо, взял у хозяина типографии и тут же вывел свою подпись: И. Ульянов.
У него было хорошо на душе: дело двигается, завтра весь день — отдых в семье с детьми, с женой. Машенька что-то прихворнула утром…
Весело он вышел на улицу и распахнул пальто — так тепел был воздух. На город неудержимо шла весна, с треском и шумом ломались волжские льды внизу.
Перед флигелем его остановили — входите тише!
Соседка их по квартире, Анна Дмитриевна Ильина, маленькая, круглая, с черным пушком над губой — «научная фельдшерица», как ее называли в городе, а попросту — первая симбирская повитуха с медицинским образованием, уже стала хозяйкой во флигеле.
Он тихо открыл дверь. Праздник остался — на столах и в кастрюлях, на кухне и в кладовке — начатый и неоконченный. Яйца не докрашены, остуделое тесто задвинуто в угол. Сквозь запах ванили и шафрана, купленных только вчера, бил в нос другой запах — аптечный.
Жена лежала в спальне, распустив волосы, улыбаясь, в бледной испарине, вся в чистом, и комната была белая, как белоснежный халат Анны Дмитриевны.
— Айда, айда, Илья Николаевич, это не ваше мужское дело, и без вас справимся!
— Вот не вовремя, Ильюша, — шепнула Мария Александровна, виновато взглянув на него.
А уже через час он опять входил в комнату, и тот, кто так просто, по-свойски, пришел в мир, разворошив праздник, лежал, как и все младенцы, кумачово-красный и орал на столе, потому что Анна Дмитриевна, как того требует обычай, здорово его нашлепала.
Отец подошел и нагнулся. Перед ним лежал четвертый его ребенок, крохотный Ильиченыш, старообразный, как все новорожденные, с огромным, глыбастым лбом в рыжем пуху и маленькими лукавыми глазенками из-под него, словно подмигивающими отцу на быстроту и непрошенность своего вторжения.
Анна Дмитриевна с утра уже знала, как назовут дочь, если будет дочь, и как назовут сына, если будет сын.
— А ну, берите нас, папаша, — затянула она голосом всех акушерок мира, — поздравьте нас, папаша, с новым жителем на земле, Владимиром Ильичей!
1937–1957
Ульяновск — Москва
1
Все-таки.
2
«Звезды и земля».
3
Питайся несмешанной пищей. (Слова Мефистофеля в «Кухне ведьмы».)
4
«Глазами, не руками!» — то есть смотри, но не трогай (латин.).
5
Постарайся, чтобы любовь, которую к тебе питает твой жених, перешла в настоящую дружбу, и не воображай, что эта любовь может длиться вечно, как думают по неопытности многие девушки. Стремись сделать домашний очаг приятным для мужа, в этот великое женское искусство.
6
«Новая берлинская музыкальная газета».
7
Они сильно дискутируют в музыкальном мире.
8
И очень известны.
9
«Новая биография Моцарта с приложением обзора всеообщей истории музыки и анализом основных произведений Моцарта, написанная Александром Улыбышевым, почетным членом филармонического общества С.-Петербурга».
10
«Бетховен, его критики и комментаторы».