Книга: Бельмо
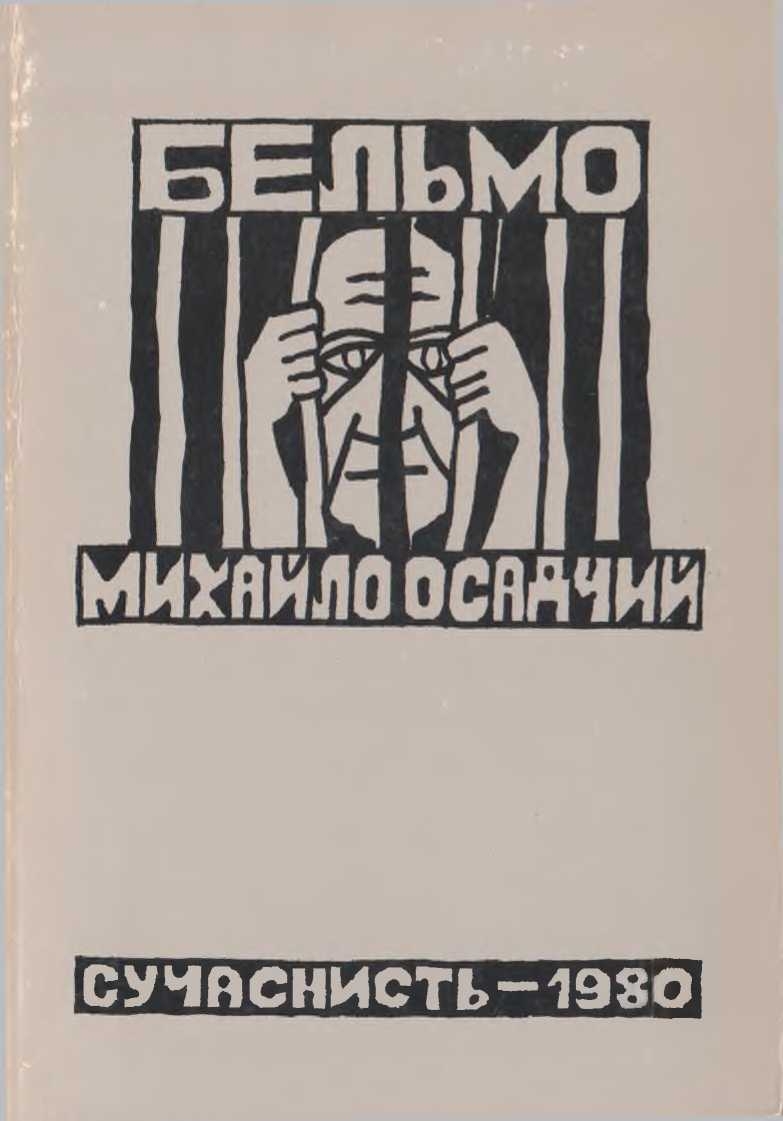
Михайло Осадчий, известный на Украине журналист и поэт, родился 22 марта 1936 года в семье колхозника в селе Курманы Недригайловского района Сумской области.
В 1958 году окончил факультет журналистики Львовского университета. После окончания университета работает некоторое время редактором и старшим редактором Львовской телестудии. Самостоятельно, без научного руководителя, пишет кандидатскую диссертацию на тему «Журналистическая деятельность Остапа Вишни (1919-1933 гг.)» и успешно защищает ее. Выступает в республиканской и областной прессе как журналист и литературовед, в периодике печатает художественные произведения (стихи, новеллы). С января 1962 года Михайло Осадчий член КПСС и с этого момента могла бы начаться для него обыкновенная карьера преуспевающего советского стихотворца с партбилетом в кармане, каких сотни вокруг. Только бы не сбиться с пути, предначертанного твердой рукой партии!
«Вокруг нас фонари, одни фонари. Они хитро размещены по обе стороны дороги... Этим светящимся путём можно идти год, два, десять, всю жизнь» — пишет несколько лет спустя в своей автобиографической повести М. Осадчий ...мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом...
Да видно нельзя никак — писал в свое время Осип Мандельштам.
Михайлу Осадчему захотелось «хоть краем глаза бросить взгляд за кулисы фонарей» — прочитать одну или две анонимные статьи о национальном положении украинского народа — «нездоровый интерес» к теме, конечно же, запрещенной для благополучного, преуспевающего литератора. За это ему пришлось горько поплатиться: 28 августа 1965 года на квартире Осадчего найдены эти статьи во время обыска органами КГБ, и вчерашний кандидат наук, инструктор по прессе Львовского обкома партии, старший преподаватель кафедры журналистики, заместитель секретаря парторганизации факультета по идейно-воспитательной работе оказывается на скамье подсудимых. В связи с арестом ВАК не утверждает ученого звания Осадчего. Весь тираж сборника стихов «Лунное поле», выпущенного издательством «Каменяр», уничтожается.
18 апреля 1966 года М. Осадчий осужден закрытым судебным заседанием Львовского областного суда на два года лишения свободы в лагерях строгого режима по обвинению в «антисоветской пропаганде и агитации».
Отбывал срок в лагере № 11 (с. Явас) Мордовских политических лагерей, работал столяром. Во время обыска в лагере в декабре 1966 года у Осадчего отобраны тетради с переводами из Лорки, поэтов Прибалтийских республик и его собственными сочинениями.
В августе 1967 года по окончании срока заключения М. Осадчий освобожден из Мордовских лагерей. Он возвращается к семье во Львов, и тут начинаются для него новые мытарства, обычные для всех бывших политзаключенных: трудности с пропиской, ночные налеты работников милиции, временные аресты и краткосрочные заключения за нарушение паспортного режима, безрезультатные поиски работы.
Но и эта жизнь на «воле» продолжалась недолго. В январе 1972 года Михайло Осадчий вместе с целым рядом других талантливых украинских поэтов, литературных критиков, художников арестован вторично. На этот раз ему инкриминировали написание ряда стихотворений и повести «Бельмо», «порочащих советский государственный строй и ленинскую национальную политику». Закрытым заседанием Львовского областного суда в сентябре 1972 года Михайло Осадчий приговорен к 7 годам лишения свободы и 3 годам ссылки.
Осадчий женат. 19 апреля 1966 года (через сутки после вынесения приговора) родился его сын Тарас. 19 мая 1972 (во время следствия) родилась дочь Олэнка. В настоящее время М. Осадчий находится в ссылке в Коми АССР, в с. Мылва.
Раиса Мороз

Вокруг нас фонари. Одни фонари. Они хитро размещены по обе стороны дороги которой нам велено идти. Путь этот тоже очень хитро вымощен светящимся булыжником и, как магнит, притягивает к себе человеческий взгляд. Фонари и булыжник подобраны одной краски. Эта краска могучего свойства. Проникнув однажды в твое естество, она берет тебя в плен. В этом плену ты становишься непомерно величественным, но и пустым, как кувшин. Тебе легко и радостно. И этим светящимся путем можно идти год, два, десять, всю жизнь. И ничто не может смутить уверенной поступи. Ведь на голове этого кувшина плотная крышка — шляпа. Но я как-то на радостях подскочил, крышка тоже, и в мою сущность, в мой пустой кувшин проскочили безрассудные мысли. Они потревожили во мне покорную зверюшку, и теперь мне не терпится увидеть, что же оно такое там, за этими фонарями?
Я заслонился от слепящего света рукой и на миг бросил взгляд туда, за кулисы фонарей. Лишь на миг и краем глаза. Однако за это мне пришлось горько поплатиться. Маленькие люди засуетились и с перепугу навели на меня свет всех фонарей. Он ослепил меня, а незрячий, я кидался во все стороны, пока совсем не обессилел в том дьявольском вертепе. Тогда я сел на дорогу и увидел, что это совсем не булыжник, а обыкновенный песок, который ловко отражал свет фонарей. На этом песке я начал писать для смеха всякие слова. Собственно говоря, только одно слово — человек. Сначала я написал его так: человек. А потом с большой буквы: ЧЕЛОВЕК. И внезапно меня это так рассмешило, что я плакал от смеха, как ребенок. Но этим лишь досадил себе, как бы то ни было, смех этот был хуже, чем кража, измена, убийство. И тогда я стал скакать по песку, как безумный, уничтожая надпись. Я не оставил на пылинке пылинки. Но от этого мне не стало легче.
Это беда сидит во мне и теперь. Этот злой призрак, принесший столько мытарств. Я едва не сошел с ума, я должен был спасаться. И соломинкой в этом случае стала бумага. Я вверил ей бессонные ночи, свою обиду и человеческое достоинство. Я сказал ей правду. Эта правда не должна обойти твое равнодушие. Эта адская, приводящая в отчаяние, правда...
Автор
Электрический звонок настойчиво сообщил о себе. Потом еще раз. Кому-то нетерпелось войти в квартиру, кто-то торопливо переступал с ноги на ногу. «В такую рань?» — подумал я. — — Кто бы это?» Какая-то тревога охватила меня: наверное с кем-то что-то случилось. Я открыл дверь, и, легонько оттолкнув меня, в комнату вошел высокий с холеным лицом мужчина, он еще загадочно усмехался и изучал меня, и вдруг меня поразил его странный взгляд, такой, что пронизывает насквозь, маска самоуверенности на его лице. Не успел я прикрыть дверь, как в квартиру вошли еще двое. Они торопливо подскочили к окнам и закрыли их.
— Садитесь, — сказали мне. — Вот тут, рядом с женою. И не двигайтесь!
— Однако... — я пытался что-то сказать, но тот, первый, возмущенно прервал меня на полуслове и ткнул мне в лицо какое-то свидетельство. «Предъявитель сего имеет право носить оружие», — успел прочитать я и подскочил от догадки: вооруженная банда? Грабеж средь бела дня? Я еще подумал: меня, пролетария? — и тут же истерически рассмеялся.
Высокий, не сводя настороженных глаз, нервно протянул ордер на обыск. У меня отлегло от сердца, хоть я все так же ничего не понимал. «Наверное случилась какая-то ошибка, — гадал я, — может быть они перепутали номера квартир...» Но они не обращали на меня никакого внимания, старательно роясь в книгах, бестолково перекладывая их с места на место. Они все больше спешили, и я замечал, что с каждой минутой растет их недовольство. «Что они так упорно ищут?» — думал я. Зазвонил телефон, но мне не позволили подойти. Телефон звенел не переставая, а они все перекладывали мои книги и тетради. И вдруг я почувствовал себя маленьким загнанным зверьком, которому холод неприятно сковывает тело. Рядом сидела жена, напуганная и встревоженная и тоже маленькая. «Плохое предзнаменование», — думал я. Время от времени на меня бросали колкие взгляды, и тогда я чувствовал, как звенят от холода мои ноги. Затем кто-то из них радостно взвизгнул, почти не пряча своего волнения, младший держал в руках статью «По поводу процесса над Погружальским». Пришельцы, казалось, помолодели, казалось, они вот-вот кинутся в пляс и нечаянно втолкнут и меня со стеклянными ногами к себе в круг. Был составлен протокол, и в чемодан побросали «Черную раду» П. Кулиша, «Историю украинской культуры» М. Грушевского, несколько сборников Б. Лепкого, да еще какие-то книжонки старых изданий. Сверху с нешуточным ритуалом положили названную статью. А через минуту меня уже несла голубая, как чья-то человеческая доля, «Волга». Они сидели по бокам, дородные и надменные, то и дело кидали друг на друга многозначительные взгляды. Иногда эти взгляды перекрещивались на мне, и тогда их тела сжимали мое до боли и омерзения, как клещи. Я не выдержал и закрыл глаза. Потом меня дернули за плечо, и когда я открыл глаза, то увидел, что мы приехали к серому трехэтажному угловому зданию на Мира № 1, бывшей улице Сталина.
■
Я был столом, маленьким и неповоротливым, которому никак не могли найти место. Меня хватали и торопливо куда-то толкали впереди себя, потом поспешно возвращали назад и снова передвигали на новое место. Коридор, кабинеты, коридор... Замелькало перед глазами и все поплыло: и пол, и потолок. Переиначились и люди, и лица: казалось, меня завернули в сверток и покатили по полу. Пинали ногами и сверху злобно бубнил чей-то укоризненный голос:
— Чего тебе не хватало? Молодой, защитил диссертацию, только б жить!
— Брыкался, цыпленок — добрыкался! Ах, ты ж, сука...
— Что я? — старался ухватиться за что-нибудь и не мог. Туда, сюда. Я сопротивлялся, я хотел быть упрямым, как слон, но совсем обессилел и лишь беспомощно шептал: «Что я!..Что?..»
Наконец все стихло. Меня лихорадочно куда-то втолкнули, вытряхнули из свертка; и я увидел перед собой холодное помещение, молодого усталого человека, который со скукой глядел на меня, безвольно хлопая веками. Молодой и лысый, лысый и молодой, подумал я и зажмурился от его игривого подергивания нижней губы.
— Садитесь! — кивнул он и, отвернувшись к столу, медленно подвинулся ко мне. — «Боже, — мелькнула мысль, — должно быть, я в самом деле совершил какое-то преступление, сам того не ведая? Новый Герострат?» Тогда он неожиданно обернулся и впился в меня какими-то полусумасшедшими глазами.
— А знаешь ли ты, кандидатик, что на твоей машинке печатались тысячи листовок? Что ты лишь строишь из себа честного... скрытный. Но мы все давно знаем... Не признаешься? Заставим! Еще и как заставим! Не такие еще были важные крали, и те падали на колени и слезно молили о покаянии. Не то, что ты, паршивое г...!
Еще ничего не понимая, я старался запомнить хоть несколько слов из той тирады, но это была скоропалительная тирада и не менее бесполезное дело. Слова сыпались на меня, как град, и я только улавливал те ранимые места, что касались меня. Поэтому я немощно, тупо, как утопленник, наблюдал людей, которые вскакивали и сразу же выбегали из комнаты, и что-то кричали, кричали, как стая голодных пеликанов...
Передо мною плыл обычный прямоугольник стола — одна молчащая и спокойная вещь в комнате, что своею устойчивостью как-то еще возвращала к действительности, выплывала на поверхность из безумного кафкинского кошмара.
Я пытался найти какую-нибудь разницу в лицах и голосах тех, что так упрямо чего-то требовали от меня, но они были похожи друг на друга, как медные деньги. Пять, три, один... Казалось, на фоне стола умышленно меняются декорации какого-то грандиозного спектакля, где-то сбоку вместо грозных басов, теноров, оскорбленно дребезжал свое из суфлерской будки испорченный магнитофон, у которого все время рвется лента.
Я старался сказать что-то этим людям, наверное, я все-таки что-то говорил, возражал, так как они придирались к моим словам, и затем я проваливался куда-то из прикованного к полу кресла, а его спинка была глухою стеною, которую невозможно обойти.
— Что Маланчук? Мы и секретаря обкома сейчас сюда приведем, и ты, его в... работничек, расскажешь, что делал! Про все свои подлые дела...
— Что, гений? В университете преподавал, кандидат наук? Ха-ха! Знаем мы вас, кандидатов! В тридцатых годах еще не таким головы скручивали, как курицам!..
— Что ему говорить — сам знает. Даже про одного из таких кандидатскую писал: про в... юмориста, про Вишню писал... Ха-ха... Националистов увековечиваете?
Я возражал, я действительно возражал, но это был какой-то беспорядок мыслей и слов.
— Но... Как вы смеете... известного украинского... выходит семитомник его произведений... Выдвинут на соискание Ленинской премии... давно реабилитированный...
— Реабилитированный?.. — они так и вытаращились на меня, как будто я сказал про новую Помпею. Они никак не хотели верить моим словам. И тут расхохотались. Они даже схватились за животы, так им было смешно. Показывали на меня пальмами, как на зачумленного, и хохотали. Да и как хохотали.
Я растерянно смотрел на них, человеческих привидений, маленьких и беззаботных, нагрянувших сюда с другой планеты, чтоб пощеголять своей молодостью, жестокостью, наглостью. Они знали себе цену, эти властные повелители, высокомерные и экзальтированные. Они не стыдились ничего. Наоборот. И вдруг меня осенила догадка: Боже, да ведь они неописуемые шутники. Решили повеселиться немного и хохочут. А я, как целомудренная девица, упираюсь во всю. Я так был захвачен этим настроением, что не успел опомниться, как уже хохотал. Наверное я теперь смахивал на старенького Вишню, который тоже никак не мог понять всей серьезности следствия, и пытался шутить.
— Но почему вы, судари, полагаете, что я террорист? Если уж вам так не терпится засудить меня, то лучше уж судите за изнасилование Клары Цеткин.
■
Передо мной снова обозначился прямоугольник стола, выражение устойчивости в этом беспорядочном движении, которое охватило все вокруг; он единственный поддерживал меня, не давал провалиться в какую-то глубокую яму, которую я иногда ясно чувствовал под ногами; я даже боялся тогда пошевелиться, чтоб не поскользнуться и не полететь вниз. А представительные мужчины, такие, наверное, привлекают своими фигурами внимание женщин, бестолково кружились вокруг меня, я слышал их назойливое хихиканье, ловил загадочные взгляды, куски фраз, которые то мгновенно накатывали, то отступали, и я, как дурачок, следил за этим, бессильный что-либо понять, и, должно быть, в эту минуту был далеко от этого дома, был на какой-то площади, закованный в кандалы и терпеливо дожидал, когда придет палач, чтобы снять голову. Галдели люди, плевались, плакали, все смешалось, а я стоял на помосте голый и зябко поводил плечами. И тогда пришел палач и бросил в толпу: «Кто хочет спасти жизнь этому вору и выйти за него замуж?» Заволновались, кто-то крикнул: «Я» — но всё затихло, и я спрашивал себя: «Почему? Почему она не подошла и голос её внезапно пропал?» — «Кто хочет выйти за него замуж?..» Был палач, был помост и несколько старых растерянных людей, которые торопливо потупились...
Я изумился тишине, неожиданно заполнившей комнату. Возле меня уже никого не было, я даже не заметил, когда все вышли. Я был один, сплюснутая, как у нищего старика, голова болела, и я подумал: «Вы ушли и забрали меня с собой». Я подумал, что на дворе уже темно, что медленно затихает уличный шум, и что с утра у меня не было ни крошки во рту. У меня было несколько копеек, в конце концов на них можно было купить пирожков и перекусить где-то в подъезде. Я так увлекся этой мыслью, что даже вскочил, чтоб итти. Кажется, я даже шагнул, раз, два, но передо мной неожиданно вырисовались зарешеченные окна, и кто-то ехидно спросил:
— Куда, ваша милость?
Правда — куда? — подумал я и оперся о стол. Если не покупать пирожков, можно взять такси и поехать домой, там меня ждет встревоженная жена. Если же потратиться на пирожки, то не хватит и на трамвай. Я поглядел на окна, оглянулся на дверь, я был наивным узником, утешающим себя болтовней, как болтливые бабы.
Кто-то вошел. Да. Я даже не повернул головы.
— Следуйте за мной, — услышал чей-то приказ и покорно, не торопясь, пошел следом.
После всего гама, не смолкавшего вокруг, я наконец очутился в просторной комнате. Со мной вежливо поздоровался с виду спокойный человек, назвавшийся моим следователем. Я сразу же почувствовал к нему какую-то внутреннюю симпатию, по меньшей мере этот человек стал для меня соломинкой, за которую я, как утопающий, схватился. «Наконец-то, — думал я, — после стольких часов неизвестности я узнаю что-нибудь о себе. Что бы это значило, что?..».
— Вы, Михаил Григорьевич, — проговорил он помолчав, ласково усадив около себя, — заподозрены в распространении в городе Львове антисоветской националистической литературы. Сейчас мы этот вопрос выясняем, и вам нечего волноваться. Немного потерпите — и пойдете домой. Но... все зависит от того, насколько чистосердечно вы признаетесь во всем.
Мне не в чем было признаваться, я так и сказал ему. Он с укоризной выслушал меня, потом поспешно что-то записывал, вставал с кресла, и, заложив руки за спину, внимательно глядя в зарешеченное окно, играл авторучкой... Затем медленно поворачивался ко мне, очень медленно, и внимательно смотрел в глаза. Я чувствовал в его взгляде немое недоверие, какую-то беспечную скептичность, иногда даже открытый цинизм. Я особенно чувствовал это тогда, когда он утомленно посматривал на решетки, недвусмысленно намекая на их назначение: ну что ж... несомненно есть возможность познакомиться с ними поближе...
Постепенно наш разговор зашел так далеко, что мы даже не могли определить цели нашей беседы. Как старые друзья, долго не видевшиеся, которые наконец встретились, мы в какое-то мгновение неосторожно высказали друг другу все, что есть, а расставшись ломали голову: о чем это мы говорили? Мы касались вопросов искусства, литературы, но разговор сразу же обрывался, поскольку его интересовало что-то другое, о чем ни он, ни я не имели понятия. Мне казалось, что начав этот разговор, он из деликатности должен был через силу поддерживать его.
Мы говорили о свободе слова, о новом понимании диктатуры пролетариата, которая, по определению в «Программе КПСС», «выполнила свою историческую миссию и, с точки зрения требований внутреннего развития, перестала быть необходимостью в СССР», что «государство...на современном этапе преобразовалось в общенародную державу, в орган выражения интересов и воли всего народа...». Я цитировал на память почти всю торопливое, видно люди куда-то спешили, работали, но работа требовала секретности, и поэтому отовсюду до меня доносился чей-то требовательный шепот:
— Ш-ш-ш-ш! Тебе, тебе, тебе гаварят!... Не положено!
Загремели засовы сверху и снизу, заскрежетал, как
радикулитный дед на печи, массивный замок: меня берегли, как забальзамированных фараонов в гробницах, вход куда завален тяжелой каменной плитой; эта мысль неожиданно рассмешила мена, и я почувствовал, как надуваю от гордости щеки, как выпячивается грудь, и пружинят ноги, — фараоны были ничто, что там их склепы под тяжелыми плитами? На моей железной двери без счета громоздких засовов и замков.
— Аправлятца! — грозно крикнул из двери маленький, как мальчик с пальчик, человечек в погонах с красными полосками. — Шевелись!..
«Мальчик спальчик» протянул мне две бумажки, воспитанно сказал: «пожалуйста», а затем терпеливо поплелся позади меня. Фараоны действительно были ничто в сравнении со мною. Едва ли им говорили «пожалуйста» и так усердно стерегли их путешествие в туалет.
■
Баланда... Я смотрю на неё, как завороженный, кажется она приклеилась к металлической миске, черной, закоптелой, деформированной, такую можно встретить на любой свалке города. Я зачерпнул деревянной ложкой зелено-желтой жидкости и поднес ко рту. Но на полдороге остановился и стал внимательно смотреть на неё, вековечную спутницу тюрьмы. Это фирменное блюдо тоже когда-то изобрел мастер, который, наверное, не одну ночь просидел над книгой «О вкусной и здоровой пище». Это изобретение пережило все революции мира, все войны, и до сих пор остается неизменным. Леонардо да Винчи изобрел швейную машинку, но она была до того несовершенной, что её даже и сравнивать нельзя с современными, на которых выполняется без счета операций. Можно строчить, обметывать петли, пришивать пуговицы, штопать, вышивать. Но имя изобретателя не было забыто, оно почитается нами. А какая несправедливость, люди, что так неблагодарно забыт изобретатель баланды! Его изобретение было едва ли не самым значительным из всех изобретений человечества.
Я поднес ложку еще ближе ко рту и вдруг, пораженный, бросил в миску: в нос мне ударил такой сгусток амбре, что у меня против воли перекосилось лицо. Я отвернулся от баланды и еще раз с благодарностью и с большим уважением вспомнил про изобретателя, если бы я жил в те давние времена, я бы обязательно наградил его значком «Отличник кулинарного дела»...
Я подумал о том, что следующая моя кандидатская работа будет как раз о баланде, о той баланде, какою можно полакомиться в любой стране, независимо от образа ее общественной жизни; имя изобретателя должно быть найдено. Мне стало очень приятно, что это дело будет выполнено именно мной, и что увековечение изобретателя будет связано с моим скромным именем.
Мои научно-исторические мысли совсем некстати были прерваны костромским оканьем:
— На о!.. На о!..
Из двери выглядывало чье-то добродушное лицо, которое мимикой подзывало к себе:
— На о!..
Только тут дошло до моего сознания, что в тюрьме, чтобы узники не догадались, кто сидит в камере, не называют фамилий, а только их первые буквы. В таких случаях следует подбегать к двери и называться шепотом. Я послушно подбежал к двери и назвался, хотя это было очень смешно, ведь в камере я был один.
— Пайдем! Руки назад, тебе гаварят!..
Выводящий шел позади меня, время от времени останавливался, забегал за поворот, внимательно осматривался, нет ли кого, а тогда снова покрикивал сзади и все время звучно щелкал пальцами обеих рук. Он делал это так ловко, что я ему даже позавидовал, как, наверное, позавидовал бы мне в этот знаменательный момент и сам фараон, которого когда-то эскортировали какие-то никчемные и искусственные звуки барабанов и фанфар.
■
Вчерашний знакомый, с которым мы так приветливо разговаривали и который открыл мне глаза на нашу общественную жизнь, сидел за массивным двухтумбовым столом, стол был устлан синим картоном, цвет этот мне всегда нравился, это был цвет неба и простора, и он всегда успокаивал, наводил на размышления и веселил. Следователь улыбнулся мне, и у меня сразу же поднялось настроение. Наверное, как он вчера обещал, все уже разъяснилось, и сейчас меня выпустят домой, держать меня дальше здесь не было никакого смысла. Я сел против него, доверчиво посмотрел ему в лицо и тоже улыбнулся в ответ: ей-богу, мне этот человек нравился, около него у меня светлело в душе. Я еле сдержался, чтоб не рассказать ему про мои наблюдения, это, наверное, и его бы очень позабавило.
— Сейчас, сей-ча-ас... — следователь наклонился над столом и начал заполнять протокол.
— Все уже разъясняется, еще несколько вопросов, потом отдерем тебя дубиной по голому месту, и... марш домой, но больше не попадайся... Ты-то не сделал ничего, но другие натворили...
Я не знал, что натворили другие. Меня лишь радовало то, что все это так быстро выяснилось, что я невиновен, и что сейчас пойду домой. Домой, подальше от камерной тьмы и духоты, подальше от этого мрачного углового дома, подальше от «аправлятца»; сейчас я выйду на улицу, вдохну свежий воздух и, наверное, не возьму даже такси, не сяду и на трамвай, а пойду улицами Суворова, Дзержинского, Ленина, поверну направо на Мечникова и попаду на свою долгожданную Некрасовскую.
— Та-ак... — сказал следователь и повел на меня серыми глазами, в которых я неожиданно поймал оттенок неприкрытой неприязни. — Какую литературу антисоветского содержания вы (в разговоре он всегда «тыкал», а когда вел протокол, то «выкал») получали от Ивана Светличного из Киева и от Богдана Горыня во Львове?..
Я хорошо знал этих людей. Светличный нравился мне, как умный, уравновешенный человек, талантливый критик, который никогда (не в пример другим) не шел ни на какой компромисс с собственной совестью. Я чувствовал в нем большую эрудицию, завидовал его знаниям истории украинской культуры, я поражался его вкусу в литературном мире, его эстетическими сравнениями, остроумием, меня привлекали в нем и чисто человеческие черты характера.
— Я ничего от него не брал, — сказал я спокойно и сразу же пожалел о сказанном: следователь, высокий, полнотелый, грозный (он мне напомнил в этот миг Петра I), вскочил с места (куда только делись его спокойствие и уравновешенность, и улыбка, и игриво-покладистый голос) и заступил собою почти всю комнату. Его глаза впились в меня, я даже чувствовал его дыхание на своем лице, он еле владел собою (но сдерживал себя, имел натренированную волю).
— Осторожно, осторожно, ты!... Твои слова — твоя ж судьба. Все зависит от тебя, ты должен это иметь в виду!
Он молча прошелся по комнате, сел за стол, взял авторучку и с ударением сказал:
— Я ж тебя хотел сегодня выпустить, а ты что делаешь? Я ж должен закрыть «дело», а ты молчишь, корчишь из себя кто знает какого дурачка, под карасика работаешь? Что брал от Богдана Горыня?
— Если уж вас так интересуют такие вещи и от этого так зависит моя судьба, то я могу... в конце концов сказать...
— Вот умница!... Гавари...
— Припоминаю, раз взял почитать книжку о творчестве художника Новаковского, исследования «Наполеон и Украина» и «Договор Богдана Хмельницкого с царем Алексеем Михайловичем 1654 года»...
— Стоп, стоп... Заспешил, как голый палку ставить, — перебил он меня, — так и запишем: «брал от Богдана Горыня антисоветскую литературу — «Договор Богдана Хмельницького с царем Алексеем Михайловичем 1654 года»...
■
Я вспомнил одного страшного ревнивца, который довел свою добродетельную и честную жену чуть ли не до сумасшедствия. Ему казались вокруг любовники, которые соблазняют его жену и даже не платят за это мизерных копеек. Он называл её шлюхой, хоть она была далека от прелюбодеяний, он избивал её, и она покорно молчала, не смела ни в чем возражать, поскольку он даже не хотел слушать никаких слов, убеждений, доказательств. У него была потребность ревновать, и он ревновал, как художник, как поэт, которого закрутила стихия творчества, и он в плену этого оставляет реальный мир и мыслит одними образами, например, образом ревности. Это известная мания, мания преследования, мания ревности, мания смерти... Эта женщина загуляла, она завела себе без счета любовиков и наслаждается их красотой и силой. Из загнанного, затравленного, невзрачного существа она превратилась снова в человека. Я завидовал ей, завидовал фанатично, бессознательно, у меня уже началась мания зависти. Я начал ненавидеть эту женщину за то, что ей удалось все так легко: она оставила дом на час-другой и завела любовников. Из этих стен я не мог вырваться, не мог кого-то соблазнить томными очами и оголенными коленями. И, наконец, у меня и не было такой потребности.
Из честного человека хотят сделать преступника, настойчиво, последовательно, загодя продуманным спектаклем, в котором приходится играть зрителям, а актеру слушать. Зрители играют бездарно, хотя и не признаются в этом, и не хотят этого знать, они играют, а актер закрыл глаза и в бессильи рвет на себе в пустом зале волосы...
Я никогда не совершал никаких преступлений, я даже не знал, как это можно подло обойтись с людьми, а меня убеждали в противоположном, мне доказывали, что я это делал, и лишь хитро прячусь, как маленький ребенок, разбивший стакан, говорит всем, что он разбился сам. В этом упрямо, нудно убеждал меня майор Гальский. Он делал это с таким воодушевлением, с такой жаждой какого-то неожиданного открытия, которое ему никак не давалось в руки, но в которое он не менее упрямо верил, что мне даже иногда было его жаль. Я от всего сердца хотел помочь этому человеку, хотел из себя сделать преступника, хотел подсластить его воображение, воображение маньяка, который, как наркоман, бредит манией преступности даже у обычного телеграфного столба. Он, как скульптор лепит Венеру, эту прекраснейшую женщину мира, и злится от того, что она прекрасна, и что в ней нет черт преступника, он жаждет создать именно преступника, он готов отрубить себе руки, которые творят против него.
О, как я завидовал той женщине, что свихнулась и стала, наконец, такой, какую выдумал её муж.
Я был переполнен таким нестерпимым желанием хоть в чем-нибудь помочь майору Гальскому, что еле сдерживался, чтоб не кинуться в окно, разорвать решётки, добежать до львовской стометровки, где вечно заседают интеллектуалы нашего общества, футбольные болельщики, с силой раскидать их маньячные сектантские кучки и, взобравшись на тумбу, заорать:
— Люди! Я ваш враг! Я слуга западногерманских империалистов! Я шпион, вы того, может быть, не знаете, но я, не успев родиться, уже выполнял преступные поручения оберштурмфюрера. Майор Гэльский, скажите его имя! Кроме всего, люди, я еще участник «малого круга» по подготовке нелегального съезда в Евпатории: майор Гальский, прошу! Становитесь рядом и рассказывайте, что у вас на уме. Говорите, поскольку кроме нас никто, даже его участники, не знают ничего про этот съезд...
О, как я завидовал той женщине!..
Я снова был на помосте, и мой палач стоял рядом, подняв вверх красный топор. Вот топор полетел в меня, и я закрыл глаза: «Кто хочет взять этого разбойника в мужья? — донесся до меня чей-то голос, но он сразу же замер, и стало тихо. Но нет. Откуда-то сбоку доносился вкрадчивый ехидный смешок, который прерывался, и тогда я отчетливо слышал чью-то декламацию. В мое сознание закрадывались знакомые строчки, близкие мне и дорогие. Майор Гальский, став в пушкинскую позу, читал напамять мое стихотворение «А я стоял среди Карпат», напечатанное во Львовской «Вільній Україні», Вот он остановился на минуту, чтоб перевести дух от смеха, и стал декламировать дальше. Рядом тряслись от смеха какие-то неприятные, злорадные лица, хотелось бросить им что-нибудь оскорбительное...
Я не очень думал о поэтическом качестве стихотворения, оно могло быть, в конце концов, и примитивнейшим, но в нем я высказал свою любовь к Украине, к своей Родине. И теперь, когда Гальский глумился над ним, я понял, что все смеются не над стихотворением, нет! Они далеки были от этого. Они смеялись над моей любовью к Украине...
— Он, вселенная и Украина! Ха-ха-ха! Е... твою несчастного кретина мать! ..
Майор Гальский не кончал Литературного института имени Горького. Он не слыхал ни о какой амбиции критика... Он был прост, как пол-литра «московской»... Опершись на стол, он декламировал дальше, останавливаясь время от времени, чтоб все вволю насмеялись. Он знал напамять даже те мои стихотворения, про существование которых я уже забыл. Я был просто парализован чудовищной памятью майора Гальского, его литературной эрудицией и чистосердечным увлечением моей поэзией. Я впервые видел так близко своего поклонника...
— Е... твоего господа мать! Двуличная твоя душонка! Политическая проститутка. Холуй западногерманского империализма! Кто выполнял поручения оберштурмфюрера? Кто был участником «малого круга» по подготовке нелегального съезда в Евпатории? Все скажешь! Все знаем? В ж... у тебя, кандидатик наук, были наши микрофоны!...
■
Кажется, я был маленьким, немножко диковатым мальчиком. Я увидел недалеко большую бочку и мне захотелось побывать в ней. Это было такое неудержимое желание, что я не мог совладать с собой. Быстро взобравшись на дерево, я зажмурил глаза и прыгнул в бочку. И сразу случилось непредвиденное: бочка вздрогнула, как задремавший конь, зашаталась... помчалась с горы, сумасшедше подскакивая на камнях, на пнях. Она то перевертывалась, то выпрямлялась, падая куда-то вниз, чтоб потом — аж захватывало от этого дух — взлететь снова вверх. Я совсем онемел от страха, не мог ни крикнуть, ни заплакать. Я лишь, широко раскрыв глаза, прислушивался, как бочка, наподобие молодого коня, крепко закусила удила и мчала туда, откуда нет возврата...
«Какой конь? — подумал я, — и зачем такое безмолвие?» Я начал старательно оглядывать стенки бочки, которые никуда не двигались, а спокойно вырисовывались перед глазами. Стенки, обратил внимание я, были проконопачены, какие-то серые и чересчур заурядные для кадки. Из-под пола проглядывал кусочек света, расчлененный решеткой. Зачем в бочке решетка? И тогда я увидел перед собою низкого, коренастого человечка, который, окутавшись тучей дыма, горячо нашептывал мне:
— Знаете, — сказал он. — Того вороного я продал, он был в белых яблоках, очень хорошее, вообще, животное. А вот как-то иду дорогой, вдруг вижу: воз остановился... Как только возница ни нукал, а конь на месте стоит. Оглядываюсь, а он на меня смотрит и так, знаете, как человек, посмеивается... Я так, знаете, растерялся, он так, знаете, как человек, узнал, идиотик. Вот конек стоящий был...
Наверное, я уже приходил в сознание. Мне как-то сразу стало легче, и я даже вздохнул: выходит, допрос закончился, и я снова в камере, ба, даже не один — коренастый дальше яростно смалил папиросу за папиросой и не переставал рассказывать о конях,
— А вас за что сюда? — внимательно уставился на меня и выпятил губу: — Где работали до сих пор?
— Я? Я работал преподавателем в университете, на факультете журналистики. Вишни вы что-нибудь читали, слышали что-нибудь про такого смешного писателя? Так он писал... — Я неожиданно стал веселым и беззаботным, даже не заметив того, я начал рассказывать о Вишне, склонившись к собеседнику, и чем больше я говорил, тем быстрее возвращался к действительности; радовался, ощущая, как вязкая аморфность, завладевшая моей головой, понемногу отступала куда-то в сторону, и на ее место возвращается сознание.
— А вас за что посадили, хабаря взяли? Кого-нибудь в университет протолкнуть хотели?
— Ну, что вы! Меня по 62-й статье...
— Типографию имели? Листовочки, ха, ха...
— Ну, что вы! Какая типография? Какие листовочки? Пришли, забрали несколько книг по литературе да искусству...
— Ги, ги... За книги — и такую статью? По этой статье судят за нелегальную организацию, за попытку свергнуть власть, за распространение нелегальщины... Что-то не то! Может, вы студентов не теми, что следует, идейками начиняли?..
— Ну, что вы? Только тем, что в учебной программе вуза...
Тогда он закинул голову вверх и громко расхохотался.
— Завтра пойдешь, старик, домой, если не врешь мне, — он закрыл глаза и на минуту примолк. — Но сейчас просто так не берут... Выходит, что-то есть, а? Я понимаю, что-то, где-то немного не то, так мы — в кустики, и ушами зайчика накрываем. Я тоже из таких. Три месяца запутывал следствие, водил за нос прокурора, все скрывал, скрывал, а они, оказывается, все давно знали. — Он с хохотом затянулся папиросой, и со злостью, с каким-то запоздалым раскаянием, добавил: «Так себе по-свински напакостил, хам. Разорвал бы себя теперь на куски без всякой жалости!»
Я проникся к нему невыразимым сочувствием. Где-то дома узника ждет жена, двое детей: женщина без мужа, дети без отца. Это особенно остро чувствуешь в камере, оторванный от всего света, загнанный в четыре стены, немые и безучастные, холодные и неприступные.
— Вы знаете, — говорил он, — мне сегодня снова приснились часы, они стояли на столе и не шли. Наверное, жена этой ночью снова мне изменила. Это всегда так, как снятся часы, то кому-то изменяют жены. Но я не виню ее, что поделаешь — природа, ее не изменишь. Мичурину, правда, это удалось, но он же не был женщиной... А вы женаты?
— Как будто, — сказал я, — как будто...
— А знаете, эти кони, как люди. Пять лет не видел, остановился, мужик его папкой лупит, а он стоит и улыбается. Смешные такие животные этой своей привязанностью к человеку.
— Вы не угостите меня папиросой? Позвольте прикурить от вашей!..
— Пожалуйста спички...
— Нет, я хотел бы, если не возражаете... именно...
«Вы молодая и красивая, с университетским
образованием, математик, с кем вы связываете свою судьбу? Он сгниет в тюрьме, а вы... как вы сможете обойтись без мужчины? Вы еще не знаете одиноких женских ночей... Вы еще не знаете, что это за мука... Господи, да вы такая молодая — с сорок третьего года! И хотите погубить себе жизнь? Да бросьте вы его к черту, найдите себе другого — высокого, сильного. Вы знаете, что для женщины настоящий мужчина? «С милым рай и в шалаше...» Так это не с милым, а с настоящим мужчиной. А что вы будете иметь от него, даже если он и выйдет когда-нибудь из тюрьмы? Дистрофика с язвою желудка...»
— Но он же скоро станет отцом...
— «Смейся молодая и красивая, смейся над этим. Это так все дешево обходится сейчас...»
— Позвольте, я вам помогу прикурить?
Я смотрел на его широкую спину, он стоял около окошка, широко расставив короткие ноги, и дальше рассказывал про коней. Я подумал, что обязательно напишу о них стихотворение и подарю ему.
— Моя фамилия Палыга, Палыга Владимир Петрович, я из Больших Чучманов, что около Бузька.
— Я напишу о ваших конях стихотворение.
— Слушайте, когда сажают в тюрьму конюхов, то каждый дурак знает, за что их сажают. А за что ж вас, поэтиков? Неужели за те конторские книжечки, что вы их назвали? Тогда вами эти идиоты просто позорят славное имя тюрьмы!...
■
Я не уверен, написал ли бы Кампанелла свой гениальный труд про будущее общество, если бы двадцать семь лет не отсидел в тюрьме. В какой-то темной конуре, где его давили государственные стены — его душа находилась далеко от него: она всегда оставляла его в одиночестве, купаясь в каких-то светлых далях: он назвал свою книгу «Город солнца», это было как раз то место, где бродила его неспокойная душа.
Я думал над тем, как много гибнет в этом мире талантов, гибнет лишь потому, что человек не имеет времени писать, что притесняет свой дух. Днем его заедает работа, потом рестораны, а затем семья. Он лишь ходит и думает, его мучают сюжеты; но так и не зафиксированные, исчезают куда-то, наверное ищут своего настоящего хозяина. Тут, в камере, особенно когда тебя неделями не вызывают на следствие, и ты существуешь, забытый всеми на свете, это печальное чувство неспокойной души вечно сидит в тебе, можно тогда написать без счета «Городов солнца», можно изобрести новую арифметику и другую таблицу умножения. Я думал: чтобы у нас было много хороших писателей, математиков, физиков, кандидатов наук, их постоянно, на пять-десять-двадцать пять пет надо загонять в тюрьмы и забывать о них — пусть свободно творят. Они могут и умереть с голода, но это не так, наконец, и важно. Главное, чтоб остались их имена и сочинения, которые так необходимы для нашего будущего...
Я попросил бумагу и карандаш, аккуратно сложил все на столике и задумался. Коренастый Володя сидел около окна и что-то читал. Если бы он сидел как-то иначе, подумал я, ко мне бы пришли какие-нибудь мысли; он закрыл мне свет, а может быть дух мой боялся его широких плеч и бродил под окнами, — Кампанелла из меня был никудышный. Правда, на его окне не было матового стекла (тогда его наверное еще не изобрели), и он, по крайней мере, мог наслаждаться если не «Городом солнца», то во всяком случае лучами настоящего солнца. Теперь все предусмотрено... Наверное мои внуки так и не дождутся нового «Города солнца»...
■
Но я напрасно старался перехитрить себя: из меня был никудышный не только Кампанелла, но и обвиняемый. Развлекаясь бумажными иллюзиями, я чувствовал, как в груди все больше растет волнение, как предательски захлебывается сердце, а глаза неотрывно следят за столом. «Молодой и лысый, лысый и молодой, — подумал я, — что сейчас делается у него в том месте, над которым должны быть волосы?»
Он бросил на меня прищуренный колючий взгляд, но сразу же опустил глаза, теперь они быстро забегали по страницам странной книжки, густо исписанной каллиграфическим почерком. Чернила были зеленые, но это меня сейчас совсем не успокаивало, наоборот, тревожило и раздражало: против меня снова что-то затевали!
— Ну и ну, ну и Михайлик... Тихонький, скромненький, кто бы мог подумать... — он водил пальцем по строчкам и шевелил губами, брови иногда удивленно подскакивали вверх и там двигались в ритме; он то веселел, то хмурился, заложив руки за спину, и лениво поднимая тяжелый взгляд.
— Теперь, в конце концов, не так уж и важно, чтобы ты что-то говорил. Да и не нужно этого. Что ты мог сказать — сказал, да, если бы и хотел пересказать разговоры со знакомыми, то так и не перескажешь, как тут... — Он крякнул от удовольствия, навалившись обеими руками на толстую, как старинная Библия, книгу, — у нас все записано...
— Что бы это могло значить — «увергер»? — сказал, едва открыв дверь, с порога «мой» следователь. Казалось, до сих пор он внимательно прислушивался в коридоре к нашему разговору, и теперь, выбрав подходящий момент, поспешил сбить меня с толку.
— Увергер? — переспросил я, не поняв слова... — это, наверное, чья-то фамилия?
— Скрытничаем, карасик, маскируемся, — сказал с упреком следователь и осуждающе покачал головой. —А нехорошо выходит у нас с тобой. Выдаем себя за честного, а забываем про порядочность...
Он кивнул «молодому и лысому, лысому и молодому», и тот медленно прочитал из «Библии»: «6 мая 1965 года. Теперь все мастера и талантливые поэты обращаются лишь к национальной форме...»
Я удивленно пожал плечами: откуда им так дословно известны эти слова? Когда-то, правда, я произнес их у себя дома одному молодому художнику. Может быть его допросили и он рассказал. Но, извините, слово в слово? И сразу я похолодел от догадки и омерзения: они подслушивали! Но как? Я живу на пятом этаже — тогда что: телефон, магнитофон, чердак, открытое окно? Все возможно... Я чувствовал, как весь наполняюсь отвращением, омерзением: меня, работника обкома партии, преподавателя университета — подслушивали! Что они хотели знать? Я никогда не высказывал никаких сокровенных мыслей, которые могли показаться антисоветскими, что было у меня на сердце, то и говорил, и не стыдился этого, приятелям, сотрудникам, на кафедре, в обкоме партии. Это же самое я говорю им сейчас тут, на следствии, но это их совсем не интересует, наконец, это и не крамола для них, так почему же тогда человеку не верить, следить за ним и делать из него преступника? Более резко высказывались о недостатках в нашей общественной жизни и другие люди, я знал их как честных, порядочных, это были научные работники литераторы, — они тоже где-то тут? Тут, рядом, за ними тоже следят и записывают даже то, сколько минут сидят в туалете. Что у них, как сказал майор Гальский, тоже «в ж... микрофоны»?
Я смотрел на победные и сияющие лица следователей и чувствовал себя снова в бочке, которая сумасшедше катится с горы. Я был маленьким и беззащитным, и я думал, что именно таким меня вырвали из жизни. Видно, были более сильные около меня натуры, но их не трогали, а чтоб напугать, стереть с них самоуважение гражданина, затравить — они выбрали более слабого и на нем хотят продемонстрировать то, что тех ждет впереди.
— Что вы хотите от меня? Что вам надо? — закричал я. О, теперь я уже не мог сдержаться и весь кипел от негодования. — Такое впечатление, что сам Господь Бог ничто против вас! — Я смолк, мне не хватало слов. Я был для них, вот этих самоуверенных следователей, ничто, г..., как мне бросали в глаза, да разве только я? Про секретаря Львовского обкома партии, доктора наук, самого большого советского обрусителя-интернационалиста Галиции, Маланчука, выражались тоже не лучше. Ну хорошо, я не раз мог сказать, что у нас на Украине мало пропагандируют украинский язык, я мог бы себе нажить врагов не только в лице следователя, но и самого Маланчука. Тогда как обьяснить такое неуважительное отношение к нему? О, нет, я ничего не мог понять!..
«Когда садятся в тюрьму конюхи, то я знаю, почему они садятся. Когда же садятся поэтики... Позорят теперь славное имя тюрьмы!...»
■
По утрам всегда было немного легче. С улицы врывалась свежая струя воздуха, а может, мне просто так казалось, но ощущение чего-то светлого не покидало меня до десяти утра. «Падъем», «аправлятца», «баланда»... Я жил этими малозвучными словами, как живешь в театре непостижимым Григом. Я обо всем забывал, и лишь время от времени мне вспоминалось: что-то должно случиться. Что именно, не легко было постичь, но оно беспокоило, веселило, обрекало, — «что-то должно случиться», — я начинал тихо напевать забытые мелодии, которые казались мне чудесными и забавными, как красивая девушка. Я закрывал глаза, приваливался к стене и тихо читал стихи. Именно читал, иногда даже не мог уловить их смысла, их авторов, все перемешивалось, менялось, наконец, сливалось в груду, и тогда веселость вперемешку с какой-то смутной тревогой заполняла меня всего, и я начинал смеяться. Володя внимательно смотрел на меня, иногда его правый глаз удивленно дергался. Тогда мы садились на кровать или около тумбочки и начинали играть в «спички». Это была такая азартная игра, за ней мы проводили целые часы. То были счастливые часы забвения — забывалось все: и камера, напоминавшая собачью конуру у плохого хозяина, забывались идиотские вопросы следователей (с какой целью пил чай, с какой целью ехал на трамвае, с какой целью разменивал 20 копеек, а не 10), забывалось все, даже то, что «должно что-то случиться».
Такую игру могли придумать только в тюрьме, на свободе она была бы бесцветной, как мир дальтоника, но тут, в четырех стенах, она казалась гениальнее всех футбольных матчей, какие могли когда-либо видеть болельщики. Из двадцати пяти спичек четыре имели зарубки, от одной до четырех. Каждая зарубка означала пять очков. Все спички складывали в стоящую коробку (футляр), потом его внезапно поднимали и спички грудой оставались на тумбочке. Нужно было поднять каждую спичку отдельно, не задев остальных. Выигрывал тот, кто набирал большую сумму очков, то есть тот, кому удавалось вытащить все спички с зарубками.
Но игра в конце концов утомляла, мы ссорились с Володей из-за мелочи, садились подальше один от другого и подолгу не разговаривали, тая глухую обиду. Но не проходило и полчаса, как на меня начинало что-то надвигаться, оно ложилось на плечи, давило, наплывало на глаза, и я тогда ясно видел перед собою какое-то чудовище, напоминавшее спрута с омерзительными щупальцами, которые забирались под кожу, залезали внутрь, было слышно даже, как они там шевелятся. Тогда я ложился вверх лицом на верхний ярус своих нар и закрывал глаза. Но потом становилось еще страшнее: стены сползались вместе, сдвигались вниз, потолок наваливался на грудь, давил, и я срывался, как ошпаренный, вниз, и Володя снова удивленно хлопал на меня невидящим глазом.
— Что, боишься, давит на тебя милая стена? Ха! Заметь, касатик, что это не детский сад с толстозадыми воспитательницами. Тут «рай», только набитый бесхвостыми чертями — кагебешниками...
Наконец мне принесли из дому передачу. Это было 20 сентября. Много чего забылось, но этот день почему-то запомнился надолго. Может быть, потому, что передача не только растрогала меня, но и привела в негодование, напомнила про многое, что беспокоило меня на свободе. Не каждый знает, что я был когда-то нечестным с собою, с людьми. Это не для следователей, их такая нечестность совсем не интересует. Но теперь, в камере, мне было особенно тошно, когда это приходило в голову. Помню, во Львове не было в продаже не то что сливочного масла, но даже обычного подсолнечного. Я работал тогда в обкоме партии и вместе со всеми работниками мог легко купить масло в помещении обкомовского гаража, на улице Зеленой, 59. Всегда перед праздниками двигались мы оттуда домой с сумками, набитыми дефицитными продуктами. Чтобы не вызывать у прохожих подозрения, нас предпочитали развозить по домам на машинах. А особенно: на дежурной обкомовской машине ЛВБ 10-45. И кто бы мог подумать, что я с такой горечью буду принимать сейчас эти посылки, которые будут напоминать мне обкомовские сумки! Такая аналогия вкралась совсем неожиданно, а может, мне вбил ее в голову майор Гальский? «Ты, с... коммунист, ты выносил обкомовские секреты! Не даром тебя оттуда выгнали!» Я никуда не выносил и никому не продавал обкомовских секретов. Я был членом партии и строго придерживался устава. Меня лишь возмущали вот эти сумки, и иногда, перед близкими знакомыми, я не сдерживался и спрашивал себя и их: почему мы, коммунисты, пропагандируя скромность Ленина, не хотим в быту придерживаться этих прекрасных черт его характера? Он в трудные минуты отказывался от подарков, сахара, костюмов... Он просил передать их на содержание детских садов... А нас распихивала по домом обкомовская машина с сумками...
Володя, пошарив в посылке, нашел несколько луковиц и хитро подмигнул мне: теперь, контра, заживем. Я ничего не понял, но сразу же проникся его настроением. Мы решили стать огородниками. У нас не было надежной подготовки, но было неудержимое желание: во что бы то ни стало вывести новый сорт лука! В бумажные лодочки мы положили по луковице и разместили их в миске с водой. Это была неплохая забава — ежеминутно подходить к окну, поливать растение водой и следить, как оно начинает жить, выпуская бледно-зеленые перья. В камере появился новый узник, молодой и неопытный, как и я, которого не вызывали на допросы, которому не приписывали контры, но которого ждала обычная смерть, как и всех нас, грешных. Все же луковице было гораздо легче, чем мне, поскольку она не сознавала всего этого, а упрямо тянулась вверх.
Наше меню, желто-зеленая баланда, теперь получила соблазнительный вид. Накрошив в нее луковых перьев, мы изменяли не только ее цвет, но и вкус. Теперь даже остерегались называть такую роскошную пищу баландой. Это было целительное блюдо, полное калорий и жизни. На свободе лук лечит от семи болезней, а тут, конечно, он лечил от всех, какие только может припомнить человечество.
Но одну болезнь, мнительность, он не мог вылечить. Начальник изолятора чуть не получил эпилептический удар, как мне показалось, когда увидел её, молодую и жизнерадостную, на подоконнике. Каждое перышко луковицы напоминало ему острое холодное оружие. Он ощупывал их, пробовал на прочность; я следил за его торопливыми движениями, затаив дыхание: вот сейчас он возьмет ее и отнесет куда-нибудь, и мы опять останемся одиноки, и снова будем утешать себя игрой в «спички».
— Нда! — сказал он, убедившись, что мы вырастили все-таки не стальные ножи, а обычный лук. — Правилами внутреннего распорядка выведение лука в камере не предусмотрено...
Володя снова начал рассказывать про коней. Я лежал и, не шевелясь, следил за потолком, иногда я зажмуривал глаза, и тогда лампочка, которая рдела около самого носа, куда-то западала и пекла. Я переворачивался на другой бок, протирал лихорадочно глаза, но бред не исчезал, он надежно поселился во мне. Я видел перед собою подсолнечное поле, а может это был луг, где-то неподалеку текла река Сула, и на ее берегу паслись кони.
— Их було 25, — сказал Володя.
— Это были ваши кони? — заинтересованно спросил я у стенки.
— Да. Я пас их около реки, и они пили из нее воду.
— Это не ваши были кони, — оскорбленно возразил я, — у вас не могло их быть — 25. 25 — было у Кальнышевского[1], и он их пас в своей яме. Она была глубока, и туда никогда не заглядывало солнце. Там не было решеток и не было матового стекла, и солнца там не было. Эту яму проектировал инженер, который, конечно, имел высшее образование. Этот узник пас коней 25 лет, сидя там на голом камне и прося воды сверху — кони могли бы умереть от жажды. Они паслись около него, на берегу той реки, в которой никогда не было воды. Он был старым пастухом, и в 84 года, в конце концов, не так легко пасти коней, тем более, в полном мраке, когда непослушные кони могут куда-нибудь забежать... Как ему было тяжело!...
В 109 лет Кальнышевский впервые за 25 лет соловецкой ямы увидел свет, он еще увидел солнце, но уже никогда не увидел своих коней; кони разбежались, и он ослеп от света, о котором мечтал четверть века. Екатерина II умела любить мужчин, но она умела и ненавидеть их. Какая страшная ненависть невинных женщин! 25 лет в каменном мешке. Мой сгорбленный дедуня, как мог ты вытерпеть его, как мог ты выжить там со своими томимыми жаждой конями! Что, кроме баланды, еще поддерживало твое хилое тело? Что лечило твои немощные ноги и бессильный рот? И рассуди, что там Иисусовым мукам против твоих? Его распяли на кресте, и он спокойно умер. Он умирал на горе, он далеко видел перед собой, ему светило солнце и веял свежий ветер, ему легко было умирать даже в муках. Ты тоже мучился, но не умирал. Ты жил, а это была более страшная мука, чем Иисусова. Но Иисус был святым, его муки освящены верой и она дает пищу верующим тысячелетия. Его могло и не быть, его могли выдумать фанатики Иисуса, и его муки тоже. А ты — реальный мир и реальны твои муки. Ты жил на самом деле и знал, — ради чего жил. Они молятся перед сном образам и не подозревают того, что могли бы молиться не распятому мученику, а тебе — последнему кошевому Запорожской Сечи, и их вера была бы более справедливой, чем вера в потусторонний мир, в тот вымученный рай, насквозь нереальный... Ты верил в реальное, но его боятся и ему давно не молятся... Кальнышевский в каменной яме! Это страшнее распятия: живым закопан в землю человек...
Я никак не мог заснуть. Было уже далеко за полночь. Спал город, спала тюрьма, спал Володя, спали его кони: он врал, что имел их 25 и пас на берегу моей речки, он плохой узник, думал я. Стена сталкивала меня на пол, и я лихорадочно держался за нары, чтоб не упасть. Но, даже если бы и упасть, то лучше упасть на руки. Я повернулся к стене спиною и сразу похолодел: противоположная стена стояла впритык ко мне. Я судорожно хватался то за матрац, то за нары, я не знал, что делать, потолок медленно ложился мне на грудь и душил... Тогда я не выдержал.
— А ну спать! — зашипел от двери надзиратель. — Бубнишь тут мне в полночь, еще разбудишь всех!..
— Послушайте, дорогой, не осудите, — я лихорадочно сползал с нар, мне что-то преградило дорогу к двери, но я как безумный полз дальше.
— Все отдам, — шептал я почти в беспамятстве, не зная куда деть длинные руки. — Пустите в коридор. Меня душат движущиеся стены... Я не хочу даром, я заплачу вам! Пустите, миленький
Коридор мне сейчас казался чем-то огромным, просторным, светлым, и я фанатично выпрашивался туда. «Теперь все спят, никто не увидит, поверьте» — как безумный шептал я. Я просил еще и тогда, когда надзирателя уже не было около двери...
■
— Падло! — заревел не своим голосом майор Гальский. — Подлая твоя душонка!... Сука!... Мра-азь, в ...
Его кулак проскочил перед моими глазами, я еле успел отскочить, тогда он размахнулся второй раз, и я снова увидел, раньше почувствовал, что снова взмахнула занесенная рука около самой моей головы. А он замахивался и замахивался, сердясь, что никак не попадет в больное место: мне чудом удавалось в последний миг откинуть вбок лицо.
— Хрен! Не бойся, — хрипел он где-то сбоку или уже сзади. — Бить не буду. К...
И снова кулак ползал по моему уху, и снова я неистово отскакивал, минуя все углы комнаты, не находя спасения. А он, разгорячившись, как бык, раскрасневшийся, здоровенный, скакал, как огромный паук, около меня, поворачивась, как акробат В какой-то момент мне показалось, что он уже где-то надо мной, подо мной, отовсюду тыкал в меня кулаками.
— Не бойся, хрен, не бойся, дурак! — не переставал он орать, и я никак не мог понять: или ему правда не удается ударить меня, или он просто и не думал ударить, а пугает, подвергает психической обработке. Но стоило мне взглянуть на его лицо, перекошенное злобой, и слова «не бойся, не ударю» звучали для меня совсем неуспокоительно. Мне казалось, что ему не терпится как-нибудь «не промазать». Сейчас он напомнил мне того пьяного парня, который, сдирая с девушки одежду, не перестает, захлебываясь, обещать ей, что не притронется... лишь... просто... будет лучше... если она... будет голой...
Следователь сдерживал его, хватал на полдороге к моей голове руку майора Гальского и успокаивающе корил его, но он коварно вырывался и все начиналось сначала.
— Что, Драч? — кричал он. — Строите из себя героев, раздуваете авторитеты, а он несет какой-то бред. Драч... Такое г.., как и ты, как и все вы со своими Дзюбами и Светличными! Еще какой-то Холодный на орбите появился? Мы из него тут горячего сделаем! Кайся, сволочь, пятки будешь лизать, но уже будет поздно!.. Всю гниль с себя вылизывай!..
Он выбежал из комнаты следователя, а я присел на стул, и сразу у меня все поплыло перед глазами: и следователь, и прямоугольник стола, и стены. Затем они внезапно останавливались в каком-то удивительном для меня положении, а потом начинали двигаться в обратном направлении.
— Как он смеет? — прошептал я. — Разве можно позволять себе такие вещи с людьми?
— Вы не сердитесь на него. Майор Гальский хороший человек, — сказал спокойно следователь. — Просто сейчас много антисоветчиков завелось и у некоторых работников не выдерживают нервы.
«Если у кого-то не в порядке нервы, он может пойти и наколоть какой-нибудь вдове дров, может взять шефство над свинарями, но позволять себе такое с людьми...»
— В вашем дневнике записано, что вы как-то были у Ивана Светличного и разговаривали с ним о разном. Правда тут записано, что разговор касался только литературы и живописи, но навряд ли, чтобы вы, такой любопытный человек, обошлись лишь этим. Наверное, вы и политики позволили себе немного, что-нибудь доказывал он, безусловно, вы возражали... Мы понимаем, что вы ему ничего такого не говорили, но он не без этого... И вот вы как честный и добропорядочный человек и расскажите нам.
— Вы, например, работали над литературным процессом 20-х годов, вас, безусловно, интересовали, кроме Остапа Вишни, и другие писатели. Вот тут в вашем дневнике записано про Миколу Хвильового, про его участие в литературном процессе, про его отношение к Остапу Вишне. Вы, наверное, этими мыслями обменивались со Светличным. Что он советовал, расскажите...
— У него большая библиотека, какие книги вы из этой библиотеки читали, какие он давал вам домой? Может быть просил кому-то их передать? Вы, конечно, просматривая библиотеку, как и каждый образованный человек, обратили внимание, что там было немало редкостных книг, которые не мешало бы передать в библиотеку. Почему он этого не сделал? Может быть он хотел распространять их? Это, очевидно, так. И в этом не будет ничего подлого, если это подтвердить... А вот еще такое: все вы кричите (да и у вас забрали статью «По поводу процесса над Погружальским»), что сожгли библиотеку, сожгли очень ценные украинские старинные издания, так необходимые нашему народу, почему тогда Светличный, если уж так заботится о его просвещении, вместо сожженных книг не предложит своих? Это было бы намного полезнее, нежели давать кому-то читать, а тот — еще кому-нибудь... Такое, знаете, несерьезное занятие...
Голос следователя был мягкий и вкрадчивый, как у булгаковского кота. После бурного экспериментаторства майора Гальского такая перемена показалась мне теми умеренными пытками, когда человека вытаскивают из кипятка и несут голого на трескучий мороз, и там он, так и не придя в себя, теряет сознание снова. Он падает в глубоченную пропасть, ему все время чудятся призраки, которые сладко улыбаются, и соблазняют, как льстивая Ева запретным плодом, и он не в состоянии отказать им.
— Пишите, пишите, что может придумать только ваша следовательская фантазия. Пишите, что петлюровец, что я бандеровец, что я махновец, что я Чингис-хан. Только не трогайте моих друзей, они ни в чем не виноваты, они не давали мне ничего антисоветского, не создавали никаких тайных организаций, не готовили съездов...
Следователь старательно вел протокол, перевертывая листок за листком, потом откинувшись на спинку кресла, читал: «... находясь на квартире Ивана Светличного я не мог не видеть его огромной библиотеки, не мог не догадаться, что он наверное дает эти книги читать другим...»
Следователь был превосходным стилистом, ему мог бы позавидовать даже Фолкнер. Обычные вещи у него приобретали парадоксальное звучание. Из написанного выходило, что я ступив несколько шагов, одновременно совершил и государственный переворот. Я еще не совершил, но мог об этом случайно подумать. Я еще не подумал, но мог же я дойти до этой мысли... Он был очень удовлетворен своим протоколом и лишь просил меня расставить правильно знаки препинания.
Спустя некоторое время, чтобы совсем развеять мои сомнения, он подозвал к себе и чуть слышно, потихоньку, глянув на дверь, прошептал:
— Что нас может разделять с тобой? Я то же самое, что и ты. Только ты спишь тут, а я дома. Хочешь, я не вызову надзирателя, а сам отведу тебя в камеру?..
Это первый раз за время моего заключения мне не кричали «стоп», не щелкали пальцами, а рядом шел дружелюбный, улыбающийся человек и что-то рассказывал о воле. Но я не радовался этому: все мое естество захватил исступленный крик майора Гальского: «Что, честный? Да если сюда такие попадают, то обратно уже никогда такими не выходят!..»
■
Птица иногда так привыкает к клетке, что со временем не может прожить без нее. А ну попробуйте выпустить ее на свободу — и она погибнет. Человек — не птица, он творение высшего порядка, однако природа вложила в него много общего с птицей: он отчасти тоже не может обходиться без клетки — клетки-помещения, клетки-работы, клетки-еды, клетки-тюрьмы. Его гнетет все, а больше всего последнее: камера. Это почти физическое ощущение — чувство замкнутости стен камеры, которые всегда давят на твои плечи! Неожиданно ложатся четыре огромные стены, и хотя на самом деле груза никакого нет, но едва сдерживаешь себя, чтоб не крикнуть...
— Слушай, — сказал мне как-то Володя, — а не хочешь ли ты переписываться с одним из своих подельников?
— А разве это возможно?
— Конечно, — сказал он. — Это все очень просто. Если хочешь, я тебе, как старый тюремный волк, все устрою.
— Нет, знаешь, мне не с кем, да и о чем?
— Ты еще ничего не знаешь про туалет. Там всегда проверяют после тебя, чтоб не оставил какой-нибудь х... или не нацарапал ее на стене. Но я знаю такие места, которые не сидят ни у одного надзирателя в башке!
Он убеждал меня весь день и с таким неподкупным упорством, что оно меня неожиданно насторожило. После его нереальных коней — и вдруг такое реальное дело.
— Нет, знаешь, я не хочу.
Тогда он оскорбленно присел на кровать и какое-то время молчал.
— Если ты, чудило, боишься такого способа, то есть другой и тоже законный. Возьми в библиотеке книжку и на последней странице расставь точки над буквами и так сложишь любой текст.
Меня это очень развеселило.
— Но как же передать?
— А это раз плюнуть. Передадим через кого-нибудь записку, чтоб друг взял в библиотеке эту книжку, что ты брал, пусть она будет под номером 9, или таким, что оканчивается на 9... Темнота!..
Я подошел к окну и стал смотреть, как растет лук. Кажется, я взял кружку и полил его.
— Дай кружку, — сказал он. — Дай кружку и стань около волчка у двери.
— Зачем? — спросил я, не поняв его слов.
Он пристроил на груди, как бы для чтения, книгу. Тогда приложил к стене 66 камеры донце металлической кружки и дважды постучал в стенку средним пальцем. Когда оттуда тоже отозвались двумя отстуками, Володя обхватил ладонью пустоту кружки и закричал в нее: «Кто? Сколько? Откуда... С кем? Какое дело? Прием». Он поспешно обернул кружку пустотою к стенке и припал ухом к донышку. Я с тревогой следил за его «разговором». Но внезапно позади зашерудил волчок, и Володя, быстро спрятав под подушку кружку, взялся за книгу. Я зашагал по камере, время от времени нетерпеливо поглядывая то на Володю, то на глазок. «Неужели услышали», — подумал я. Но Володя лежал спокойно, как будто ничего и не случилось, и я немного успокоился. Однако, через минуту это спокойствие уже тяготило меня.
— У тебя есть кто-нибудь знакомый, кто работал бы в музее какого-то искусства? — спросил он, выглядывая из-за книги.
— В музее? А что?., что?..
— Да... раскололся до с... Кто-то с ним сидел, так передал вот.
Раскололся?.. Как, когда, в чем?.. Меня очень поразило это слово. И теперь, после допросов, чудовищного недоразумения, когда все время чего-то ждёшь, когда ты — весь настороже — тогда любая мелочь вырастает до огромных размеров и иногда просто ошеломляет. Слова Володи, скептичного и даже циничного, совсем сбили меня с толку... Я не мог найти себе места в камере: колесо закрутилось, закрутилось где-то совсем рядом, как будто кулак майора Гальского...
Я стал неожиданно, как следователь, придирчивым, и те слова, что я до сих пор легкомысленно пропускал, слова Володи, начали меня занимать: я почувствовал в них скрытый вопрос, и даже больше... Тогда мне пришла мысль, что Володя наседка, обычный стукач, он ленится изменить даже вопросы, которыми его снабдил следователь. Теперь я был между двух огней и какой-то из них должен был сжечь меня... Володя неожиданно ни с того, ни с сего раскричался. Это было на другой день, после переговоров через кружку.
— Ты, чудило,... твою мать! Да я сам бы вас, коммунистов, таких, как ты — на сухой ветке перевешал. Ты врал людям, а в это время лелеял в душе черные мечты...
Такие же приблизительно слова говорил мне майор Гальский. «Что это, — гадал я, — телепатическая передача из одной головы в другую?» Володя суетился около дверей, махал неуклюжими руками, а потом скрипел зубами и бил в грудь. Я закрыл глаза и совсем неожиданно дошел до нехитрой вещи: меня обрабатывает не Володя, а майор Гальский, не Володя, а именно майор Гальский.
— Что с тобой, Володя, — прошептал я и отступил к стене. — Как ты смеешь такое говорить?..
Он опомнился, смешался, пожал плечами.
— А ты испугался? — поспешил сказать он. — Испугался? А я пошутил. Взял — и пошутил. А ты — герой! Что же ты будешь делать на допросе, когда тебя раз-два и — к стенке, к стеночке?!..
Он не выдержал, все изменило ему: и движения, и сердце, и тогда, чтоб как-то загладить свой промах, он запел. Впоследствии я понял, что и тут он хитрит, выбирая песни определенного направления. Стоило ему сделать большую паузу, как глаза настороженно останавливались на мне.
«Гей, там далеко на Волыни Повстала армия УПА...»[2]
У меня в дневнике было упомянуто имя переводчика Юлия Даниеля. Я познакомился с ним в Москве совершенно случайно и мы разговаривали не больше пяти минут. Припоминаю (этот разговор был записан у меня в дневнике, который изъяли во время обыска), я рассказал ему модный тогда в Киеве анекдот о гороскопических предвидениях числа 12. В 1905 году была одна революция, через 12 лет в 1917— другая, плюс 12 — утверждение культа Сталина, плюс 12 — трагический 1941, плюс 12 — смерть Сталина и великого культа, плюс 12 и наш 1965 год... Выходит, что-то должно случиться... «Что в этой стране еще может быть, — ответил Даниель, — революция была, культ был...».
Следователь упорно акцентировал на мои записи в дневнике. Большинство из них ничего не значили, хоть он и выискивал «крамолу». А этот случай почему-то все время обходили. Это меня очень настораживало. Если выискивать «крамолу», то не лучше ли было ухватиться за этот анекдот?..
Как-то мы с Володей пошли на прогулку в туалет (это небольшая хитрость узника побыть в просторном туалете как можно дольше или хотя бы немножко освободиться от тесной, удушливой камеры). До сих пор нам всегда выдавали для служебного пользования чистые бумажки, а на этот раз, как ни удивительно, кусочки газеты.
— Слушай, — живо сказал он, вот на моем кусочке упоминается про какой-то процесс по вашей статье.
Первое, что мне бросилось в глаза, это фамилия Юлия Даниеля. Его судили... Какой Даниель?.. Из Москвы?.. Тот самый, что упоминается в моем дневнике?.. Но в заметке из Баку не указывалось, где именно проходил процесс: в ней лишь какой-то пенсионер горячо осуждал поведение нечестивца. Если это правда тот Даниель, тогда почему следователь не выясняет мои связи с ним. почему обходит молчанием?..
Я поднял голову и глаза-в-глаза встретился с настороженным взглядом Володи. Он сразу же отвел его в бок и бросился мыть под краном руки, но я уже начинал кое-что понимать...
■
Завхоз всегда приносил в камеру ветер веселья. Он исходил от его солдатских острот, а также от лезвия, тупого, как цыганский топор. Бриться таким, конечно, могли только отчаянные люди, поспорив с кем-нибудь на солидный залог. Сегодня он вошел, загадочно усмехаясь, высокий и радушный.
— Кому тут пахнет женитьбой? — спросил он, похлопав меня по плечу. А ну брей, пан, свою кобылу, а то невеста сбежит от тебя с падучей.
День был без одного — Юрьевым: лезвие называлось «Нева» и было новое, завхоз не следил за мной, когда я брился, завхоз совсем не переживал за мои вены и казался мне тем разумным снобом, который знал, что даже идиот не вздумает отправиться на тот свет, когда внизу ждет невеста, а может быть, даже и сама сударыня-свобода, в которую я не переставал верить. Завхоз сказал, что для полного порядка мне не хватает лишь «Красной Москвы», но контре это не положено, и вот я, миновав коридор, вступаю в светлую широкую, как улица (такие сравнения очень часто приходят после удушливой камеры), комнату. Посредине ее стоял стол буквой Т, покрытый синим сукном. Около него стояли незнакомые мне люди, солидные, хорошо одетые (такое впечатление, что я — посол и попал на прием к президенту),
— Это председатель комитета государственной безопасности Украинской ССР, — сказал кто-то слева и я увидел за столом бодрого пожилого человека, который дружески улыбался мне.
— Прошу садиться, — живо сказал он. — Что вы такое сделали, почему здесь?..
Я был тогда очень растерян, и, помнится, наговорил досадных глупостей.
— Мой друг. — сказал я тихо, — в мае 1965 года оставил мне статью «По поводу процесса над Погружальским», которую я не успел до ареста прочитать, так как был перегружен работой, связанной с защитой диссертации...
Я еще хотел что-то сказать, но меня поспешно стали перебивать отовсюду незнакомые люди:
— Он в обкоме партии работал... Он не предупредил нас... Он скрывал... у него были среди наших работников лично знакомые, и никому об этом не сказал!..
Эти голоса слились, и теперь в комнате поднялся гам, как будто по железной бочке лупили палкой. Вдруг все, как по команде, стихло и приятный, уравновешенный голос снова спросил:
— Нет ли у вас претензий к следователям?
Я никак не мог прийти в себя и от волнения делал все наоборот. Я что-то хотел пробормотать, но не успел, как меня уже цапнули за локоть и повели в камеру. У-у-у... идиот! — шептал я, забившись на койку. Как я ненавидел себя в это мгновение. Ведь была возможность все наконец выяснить, доказать людям, что я невиновен, что я... И он бы понял меня, он бы приказал им...
У меня в голове все перепуталось, я напоминал, наверное, ребенка, которому дали конфетку, но сразу же отобрали, сказав, что он ее украл. И тогда до меня неожиданно донесся чей-то тягучий, пронзительный плач: плакала женщина и плакала по-крестьянски, так плачут по покойнику в одном конце деревни, но в другом от этого крика становится жутко.
— Ты слышишь, Володя? — спросил его я, так как испугался мысли, что схожу с ума, — кто-то плачет...
— Да-а... она вчера тоже выла. Как будто ее кто режет...
■
После этого посещения все со мною стали говорить украинским языком, а следователь потел, составляя протокол.
— Я верно расставил запятые? — спрашивал он. — Если встретите где руссизмы — к черту режьте!..
Через минуту он сказал:
— Я считаю, что мы больше «Договор Богдана Хмельницкого с царем Алексеем Михайловичем от 1654 года» не будем вменять тебе в обвинение. Мы тут посоветовались и решили, что это не антисоветское произведение...
Удивительный мир людей... Никто не может постичь его: ни художник, ни Бог. Никто не может сказать, вот тут он стоял, этот маленький ребенок, и пошел дальше, на самопожертвование, гордо подняв голову. Лишь близорукий может отважиться на такое. Только он может не заметить, как человек не подходит к окружающему, как выпадает из него, как маяк на верху скалы. Милый и добрый Иван. Почему-то все привыкли к нему обращаться просто так, как к близкому и чуткому человеку. «Комфорт» его небольшого жилища... Стол, два стула... и все четыре стены, заставленные книжными полками. Все его богатство, богатство человека, который знает ему настоящую цену. Тут истина заложена веками и мудрыми смертными. Тут жизнь и наше завтра. Можно все вычитать, как по звездам. Можно все знать вперед. Слабый день и армия приспособленцев. Вещи и не больше. Пустые кирпичи, которые топят себя в водке. Никто не может постичь настоящего человека, ни его самопожертвования... ни художник, ни Бог...
Такой Светличный, весь погруженный в книги. Если бы он только знал, как не вписывается в них, как выпадает, наподобие инородного тела, из своих литературных хлопот! Что-то гонит его отсюда в село, в цветущую гречку и деревья, к неспокойным пчелиным ульям. Как-то даже не верится, что такого человека не любили бы пчелы. Среднего роста, сухощавый, внешне спокойный, от него веет какой-то нехитрой человеческой благожелательностью. В его натуре никогда не бывает демон, наоборот, тут осела уравновешенность, мудрая сосредоточенность, уверенность в правоте своего призвания гражданина...
Окруженный толпой незнакомых людей, которые следили за ним, как за мавзолеем, он вошел в комнату следователя и сел на стул. Держась непринужденно и спокойно, он и тут не вписывался в обстановку, не подходил к серым зловещим лицам работников КГБ, не подходил к зарешеченным окнам, и мне снова подумалось про пасеку и село.
Нас по очереди спрашивали, когда мы познакомились, что говорили друг другу, — вопросы были на удивление мелкими и незначительными. Следователи все время прощупывали нас, домогаясь чего-то большего, а чего собственно, наверное, не знали и сами. Они презрительно, не скрывая своего цинизма, бросали на Ивана Алексеевича ехидные взгляды, прибегая время от времени к семиэтажным остротам, которые можно услышать от юристов энного класса. Меня спрашивали, влиял ли на меня Светличный, а если влиял, то как именно и с какой целью.
— Когда мы познакомились — сказал я, — мы пили с ним вино.
— Это было 23 августа 1963 года, и пили мы «Каберне»...
Но Светличного грубо перебили:
— Будете отвечать, когда спросим!
— Светличный передал с одним парнем вам из Киева записку, в которой писал, что с ним вы можете поговорить обо всем. Как вы поняли содержание записки и что значит: «обо всем»?
— Да, — сказал я, — правда получал от Светличного такую записку. Но объяснить, как я понял, что именно имел в виду Иван Алексеевич, не могу. Наконец, он тут и можете его об этом спросить.
— Мы спросим и без вас. А сейчас вопрос касается только вас. Прошу отвечать, как поняли текст записки?
Об этом тексте у меня выспрашивали целый час. Я совсем обессилел от бессмысленных вопросов и наконец умолк.
— Я давал ему свои стихи, — сказал я — Кое-какие из них были со временем опубликованы. — «С какой целью вы давали ему читать свои стихи?» — «Он литературный критик, и я хотел знать его оценку» — «Вы могли дать кому-нибудь другому, почему именно ему дали?» — «Я много читал его критических статей, они понравились мне своей объективностью, бескомпромиссностью, качеством оценок...»
Я вспомнил про себя один из процессов над Шевченко в царской России. Тогда следователи задавали ему такие же точно вопросы: «С какой целью сочиняли стихи? С какой целью вы побуждали в Киеве Костомарова?.. Кто такие... и почему они в своих письмах называли вас...» Это было 118 лет назад, я понял, что до сих пор в судебной практике ничего не изменилось: ни характер вопросов, ни язык, каким спрашивали, ни сами люди.
Хитроумные наводящие вопросы закончились, и следователь зашел в тупик. Я подумал, что их совсем не интересует: где и как мы встретились, о чем говорили, они хотели выпытать, влиял ли на меня Светличный, не посеял ли сознательно во мне зерна крамолы.
Он сидел впереди меня и я обратил внимание на его новые белые шерстяные носки. Он как будто понял мой взгляд и неожиданно сказал:
— Это мне жена передала, мне теплее, чем тебе...
— Замолчите! — сердито крикнул Львовский прокурор. — Или вы хотите, чтоб мы прервали очную ставку и вывели вас вон отсюда?..
Теперь меня оставили в покое с вопросами и перешли к Светличному. «Вы знаете, я этого не помню, — сказал он, — у меня последнее время очень усилился склероз. Я даже, представьте себе, никак не мог запомнить последние места своей работы и должен был записать их себе на библиотечных карточках».
Иногда чувствовалось, что его вся эта бессмыслица начинает раздражать, и тогда он помогал следователям в составлении протокола. «Пишите, — говорил он, — как вам удобнее перед кодексом, мне все равно. Только пишите именно то, что касается лишь меня. Я не хочу, чтоб за мои действия отвечали другие...»
Под конец нам дали минутку свободно поговорить.
— Ты такой румяный, будто сегодня с воли, — сказал я ему.
Иван Алексеевич усмехнулся.
— Стаж у нас почти одинаковый...
Он вышел, оставив во мне какую-то тихую радость, уверенность в себе и в хотя бы элементарной справедливости. Я долго ходил под впечатлением его улыбающегося лица. Единственного, как мне казалось, человеческого и нормального лица за несколько месяцев заключения. Он был веселый, хотя его тоже потерла машина следствия. Он, очевидно, намного раньше постиг средневековую бессмыслицу нашего дела, созданного комедиантами в гражданском. Он знал, что фальсифицировать можно абсолютно все, можно за что угодно осудить, даже за то, что мы перешли улицу в дозволенном месте. Все зависело от волшебной палочки, которую кто-то наготове держал в руках. Эта волшебная палочка уже сделала свое черное дело в тридцатых годах. Она сейчас находится в тех же самых руках, у тех самых людей: ничего не изменилось, кроме цифр лет. Вот она взмахнет — и тогда потянутся вагоны Кальнышевских и Курбасов, Драй-Хмар и Хвильовых... А потом... потом можно будет всех реабилитировать, прицепить мертвому ярлычек «жертва того-то и того-то»... и даже признать их за знаменитых. Забавные годы. Дети играют в политику. Дети самоуверенные и спесивые, мстительные и жестокие...
Когда мы снова остались вдвоем со следователем, я спросил его:
— Как вам нравится Светличный? Вы же впервые его видите?
— О! С ним нужно еще много поработать! — сказал он, — может тогда из него и вышел бы литературный критик.
■
Как-то я особенно ощутил свою тюремную никчемность.
Володя, переставляя спички, решился наконец рассказать мне свое приключение. Его кони были пустяк по сравнению с его судьбой. Я ахнул услышав, что он «преступник двух республик»...
В начале пятидесятых годов Володю заподозрили в связях с бандеровцами, и осудили на пожизненную ссылку в Среднюю Азию (тогда, даже если не предъявляли этой связи, все равно давали 25 лет, или пожизненную...). Там он находился до XX съезда, а потом после великих сдвигов его дело пересмотрели и разрешили вернуться на Львовщину. Через некоторое время он с товарищами организовал группу, и они тайно начали печатать брошюры и листовки антисоветского содержания. Один раз его поймали с чемоданом собственной продукции и с револьвером в кармане органы КГБ. Он как раз тогда направлялся в Закарпатье.
Володя всячески отпирался. Говорил: это не мой чемодан с брошюрами и листовками, а револьвер ему подсунули работники КГБ. Тогда карман вместе с револьвером вырезали и экспертиза установила, что именно в этом кармане много времени Володя носил револьвер. Во время следствия выяснилось, что, живя в Средней Азии, он тоже совершил целый ряд преступлений, в частности, пропагандировал украинские националистические песни и идеи. За все это он и был признан «преступником двух республик» и осужден на 12 лет лишения свободы. Меру наказания отбывал в Душанбе, а теперь его вызвали как последнего свидетеля по делу Купъяка, бывшего руководителя бандеровской службы безопасности, который после войны поселился в Канаде и живет там до сих пор. Советский Союз много раз предъявлял ноты правительству Канады, чтоб те вернули Купъяка в Советский Союз, где его должны судить, как преступника военных лет...
Я с удивлением посмотрел на Володю: до сих пор мне он казался своим поведением вором или спекулянтом, за это, думал я, его, наверное, и судят. А он, как бы понимая свое преимущество над моей никчемной сущностью, развалился на койке, закинув ногу на ногу, и "пускал ветры” что совсем не подходило к его интеллигентной стати.
— Хочешь, я тебе скажу, сколько лет тебе влепят?
Он нарисовал круг, обвел его большим и разделил на семь частей (каждая часть обозначала год, то есть сем лет по санкции статьи). Посреди круга ставил кружку с водой, разбалтывал воду и кидал спичку. Когда вода успокаивалась, спичка выплывала из круговорота и била головкой в стенку против той части круга, на которой была написана цифра количества лет. Я должен был получить по этой ворожбе, три года.
— Клянусь своими и дедушкиными конями, что ты не получишь больше.
11 февраля нас перевели в другую, 70 камеру, тут было просторно, я старательно вымерил площадь. Ха-ха, сказал Володя, мы в раю, не хватает лишь женщин, да-а... К нам поселили еще одного узника, невысокого, тучного еврея, молчаливого и спокойного.
Несколько дней назад Володя сказал мне, что скоро, со дня на день, он оставит мою компанию навсегда, поскольку у него уже все ясно. Но как только к нам в камеру прибыло пополнение, он после очередного вызова сказал, что остается еще не меньше, чем на месяц, поскольку раскрыли новые, очень досадные для него факты. Он это говорил с каким-то внутренним нажимом, но я в этом не уловил никакой тревоги.
Наш «рай» казался мне Эрмитажем, без картин, правда, но с восемью метрами вдоль. Если ходить туда и назад и старательно считать шаги, то можно каждый день проходить по шесть километров — расстояние от ЦУМа до моего жилья и назад. Я развлекал себя этими шагами, я радовался, как ребенок, своему открытию, и, казалось, даже немного ожил. Шаги не всегда выходили одинаковой длины, и тогда я брал два за один. Я обманывал себя на этом развлечении, но и это не отвлекало меня от женского плача, что преследовал мои уши целыми днями. Почти неделю кто-то жалобно рыдал за стеною, и во мне все перевертывалось от этого, росло в груди какое-то жуткое беспокойство, я подходил к окну, возвращался к двери, считал и считал шаги, а плач не утихал.
— Такое впечатление, что мы не в тюрьме, а в джунглях, что мы не заключенные, а изолированные от всего света неразумные Тарзаны, которых обезьяны решили выжить из дебрей диким рыданьем...
Володя молча читал, все время у него смешно шевелилась нижняя губа, и он время от времени украдкой поглядывал на нового обитателя.
— Извините, — не выдержал он как-то, — а вас по какой статье, если не секрет?
— Тут никаких секретов нет, — быстро ответил Наум, но так больше ничего и не сказал. Володя недовольно сопел на койке, глотал слюну, старался еще начать разговор, но так ничего и не добился. На другой день он сказал, что уже все ясно, холодно попрощался со мною, кивнул Науму и двинулся к двери, ожидая вызова. Он долго простоял там с узелком, а потом как бы припомнив, так между прочим сказал, попросив об этом никому не говорить:
— Вспомнишь меня на добром слове, что получишь два года... Да, Дзюбу — писателя знаешь? Там он где-то, кажется, в Союзе выступал в вашу защиту. Там его освистали, а Ко... Ко... Козаченко сказал ему: нечестив не наш Союз писателей, Дзюба, а ваш!.. Был такой свист и смех... Ага, еще слышал. В Луцке таких, как вы, недавно судили. Народ возмущен был, кричали из зала: в тюрьму их, в тюрьму! А они повесили головы и отвечали: да мы уже и так сидим... Каялись!..
— Это нечестный человек, дрянной, — сказал Наум, как только Володя вышел из камеры, — я это сразу заметил, как только вошел, с первого взгляда. А потом, разве так прощаются люди, которые провели в камере вместе шесть месяцев?..
Его как будто подменили. Из неразговорчивого, скрытого человека он стал внезапно говорливым, он говорил не давая мне сказать слова, все советовал, как вести себя на суде, как отвечать на вопросы.
Я смотрел на него с изумлением. Уже давно было время спать, а мы шепотом говорили и говорили. Я думал о том, что совсем не умею различать хороших и плохих людей, что совсем не знаю человеческой психологии, что не знаю, от кого ждать доброты..
Тот плач, который меня мучил столько дней, который казался мне чем-то чудовищным и живучим, от которого я так упорно старался избавиться примитивным считанием шагов, стихами, жалким пением, внезапно выпал из моей головы во время этого разговора с Наумом, выпал, как выпадает с воза лишний камень, как внезапно обрывается магнитофонная лента, которую я успел за эти дни так возненавидеть...
■
Человек создан для того, чтобы про него писать, он ходит, работает, любит, спит блаженным сном и иногда даже ему что-то снится. Чтобы быть культурным и образованным человеком, человек должен много читать, много и все. Когда он читает что-то, что проповедует только утро, а забывает про день и ночь, человек становится однобоким, и его глаза косят, как у фолкнеровского негра, когда индейцы вели его закапывать в могилу под труп вождя.
Про такого человека пишут: он интересен, много знает, и его изображают, одного и того же, по-разному. Соцреалисты — по-своему, сюрреалисты — по-своему, имажинисты — по-своему, импрессионисты — по-своему... Но как бы они ни изображали человека, отрицательный он тип, как, например, вор, морфинист, насильник, или положительный — доярка и ее корова Манька, которые обе взяли соцобязательства надоить и доиться, учитель, который взял обязательство из двоечников сделать отличников и, на самом деле, ставит пятерки, академик, который очень любит детей и даже останавливает их на улице и дает им конфетки, спрашивает, как их звать, а когда они говорят вместо имени — фамилию, он пораженный, забыв отдать детям конфетки, убегает. Именно убегает, поскольку услышал фамилии людей, которых собственноручно обрек в тайных доносах когда-то на вечное заключение или просто на смерть, и теперь боится людской справедливости, и приглаживает седые волосики, да жмурит умные глаза. Человек всегда в них будет красивым и будет сидеть где-нибудь на облаках и с грустью посматривать на белый свет, как посматривал джойсовский герой Улисс, который сочинял за неполные сутки по несколько сотен страниц своим напором сознания и подсознания. Это, когда пишут настоящие писатели... Без них нам было бы грустно жить, неинтересно, свет потерял бы свои краски, утратил бы для нас смысл своего бытия, мы, наверное, не умели бы любить, если бы не писатели...
Однако, есть еще писатели другого сорта, которые пишут не меньше, чем настоящие, но не печатают своих произведений, и совсем не хотели бы, чтоб они были обнародованы. Эти произведения хранят под большими секретными замками и стерегут их не страшные циклопы, а простые смертные с оружием в руках. Если бы эти произведения были однажды опубликованы, то от них помрачнели бы все реалисты и модернисты, и даже до чего любивший фантазировать и выдумывать великий Гофман, и тот бы стыдливо опустил глаза, если бы прочитал несколько таких страничек...
И если первые поднимают своих негативных и позитивных героев на облака, то вторые (в этом наибольшая их изобразительная ценность) обязательно загоняют их под землю, они толкают их впереди себя в узких непроходимых лабиринтах и там оставляют на произвол судьбы. Можно себе только представить, какие это жуткие романы!... Правда, у них очень скромные названия, но в конце концов разве название что-нибудь значит для хорошего произведения? Роман обо мне, написанный моим следователем за шесть месяцев, назывался «Дело № 107», это была седьмая книга общей эпопеи в 19 томов. В ней с первой страницы становилось ясно: кто отрицательный, а кто положительный герой (необходимо обратить внимание, что такая классификация обязательна не только для литературы соцреализма, а и для них). Все, что могли сделать люди подлого за все свое существование, сделал я. Даже не в миниатюре. Я никогда не мог предположить, какой я враждебный элемент, как я враждебно мыслил, я даже, извините, про обыкновенную иголку думал не так, как следовало.
В этом объемистом романе почти в четыреста страниц отмечалось все, что я мог сделать...
Выясняется: любое знакомство, любая встреча, любое поздравление с праздником 1-го мая можно классифицировать как преступление, и даже, кто бы мог подумать, если вы при знакомстве стояли к дому спиной или держали в кармане руку, — это тоже рассматривается как преступный акт. А если вы еще качали головой (эпилепсия не берется во внимание), то это уже крамола...
Когда-то я попал на заседание литстудии Луцкого пединститута, и тут понравились мне стихотворения Анатолии П. Тогда я так и не успел познакомиться с ней и через своих приятелей попросил, чтобы она прислала мне свои стихи. Несколько из них с короткой моей аннотацией были напечатаны во Львовской газете «Ленiнська молодь». А как-то Анатолия была во Львове и зашла к моему приятелю в гости. Я не имел тогда времени, мы просто познакомились, и я дал ей свой адрес. Это все было старательно записано в деле. Когда Анатолию П. спрашивали: «Что вы делали на его квартире и с какой целью посещали его весной 1965года?»И она отвечала: «Я читала ему свои стихи». «А он что, говорил что-нибудь?» — «Нет, он кивал лишь головою...» Если бы я не кивал головой, может быть, эта незначительная историйка и не приобрела бы себе славы в деле...
Жизнь отчасти можно представить как механизм. Механизм, набитый рычагами и колесиками. Эти колесики — друзья. И если заменить одно колесико другим, таким же точно, то механизм будет двигаться дальше. Это колесики-близнецы, которые, как в конце концов убеждаешься, можно легко заменить, и механизм от их смены не остановится. Настоящий друг — подлинное колесико. Заменишь его, и остановится движение механизма.
Сандурский — колесо в моем механизме (пусть извинит меня за такое сравнение), замена которого не остановила механизма, да он даже начал двигаться лучше, очистился, одним словом. С ним у меня была давняя дружба, чуть ли не десятилетняя даже. Он учился в аспирантуре на кафедре философии Львовского университета, много читал, был эрудированным, много знал по эстетике, литературе. Я много в чем помог ему в жизни, и не стыжусь говорить это. Я даже верил этому человеку, как близкому, как такому, что поможет в горе... Но... Стоило мне попасть за нелепые решетки, как колесо не только выпало, но и поломалось, поломав мгновенно и сам механизм. Он оказался трусом, который ради корыстных целей может оболгать человека, если этого кто-нибудь хочет. Он спал в моей холостяцкой комнате (не имея где), а следователю сказал, что я приглашал его к себе и давал читать антисоветскую литературу. Он называл такие книги, какие я и теперь нигде не могу встретить, как ни спрашиваю у всех. Он, оплевав меня с ног до головы, помог этим следствию, и, заживо закопав меня, помог загнать в фальшивые лабиринты темного подземелья. И он это делал с таким пристрастием, что ему могли позавидовать сами следователи. В конце они его хвалили, нахвалиться не могли. «Вот умный человек, истинно советский человек». Если следователи мыслят советского человека только таким, что способен на все — и на дружбу, и на подлость, как Сандурский, то это очень примитивное мышление. Это приходило мне в голову, когда я читал «Дело № 107». Там были и показания Сандурского, его философское обобщение социальной опасности моих действий в протоколе от 15 октября 1965 года. Я думал тогда, что я когда-нибудь буду на свободе, что я обязательно встречусь с ним, как он посмеет смотреть мне в глаза?..
■
Наконец мне дали ознакомиться с моим обвинительным актом. «Идеологический диверсант... от отдельных действий антисоветского характера перешел к агитации за отделение Украинской ССР от СССР... получал антисоветскую литературу от Ивана Светличного из Киева... Имел преступные связи с Богданом и Михаилом Горынями... распространял в городе Львове антисоветскую националистическую литературу...»
— Но как вы смеете такое писать? — ничего не понимая, спросил я следователя. — Это же ни капли не соответствует действительности!..
— Да, — спокойно ответил следователь, — большинство, правда, не соответствует действительности, но суд впереди, он разберется...
— Если это так, как вы мне говорите, тогда на каком основании меня отдаете под суд?..
Следователь не знал, что ответить. Тут в кабинет вошел начальник следственного отдела. Он внимательно уставился на меня и ехидно проговорил:
— А ты что думал, даром мы тебя восемь месяцев государственным хлебом кормили? Невиновен... отпусти его, так он будет перед всеми жертвою произвола прикидываться. А получишь пару годков, тогда самому Богу не докажешь, что ты не верблюд.!..
Святая инквизиция... Средневековье выкинуло ее на высокий берег, неприступный и неприкосновенный. Выкинуты высокие резные столы, громоздкие кресла и черные мантии. Громоздкое вносило в человеческое естество страх, сознание ничтожности перед великим, черное означало светлые устремления судей. Изменялся мир, ничто теперь не напоминает нам рыцарские времена, всё неузнаваемо изменилось, и лишь не изменился суд. Остались те же громоздкие вещи, неизменный атрибут дремлющей, сонной Фемиды с завязанными глазами, и лишь кое-где исчезли черные мантии. Элегантные, шитые в перворазрядных ателье костюмы не придают судьям той суровости, какая должна бы быть, поэтому лица у судей должны быть всегда насупленными и безразличными. Кому подходит безучастность — можно и ее натянуть.
Судьи судят, судьи дремлют... Сегодня они судят противников короля, а завтра — короля. Они всегда судят только противников кого-нибудь. Судьи судят, судьи утомились судить, но должны, этого требует общество. Судьи — над миром. Они — неподражаемая марионетка, маленькое государство, игрушка в чьем-то мешке и игрушка справедливая. Кого бы ни судили, как бы ни судили, они всегда придерживаются принципов справедливости. Другое дело, что эта справедливость может не быть такою, как ее кто-то представляет... Но это их тоже не касается, поскольку они стоят гораздо выше самого понятия справедливости..
Судей не судят, осуждают лишь время и окружение, которое имело их на своих берегах. И судят то время и то окружение те же самые судьи, но они попали уже в другое измерение времени и в другое окружение. И судят на тех же принципах справедливости, какие были еще в средневековье...
Судьи судят, судьи дремлют... Чтобы зрители не ели их глазами и не мешали дремать, они делают суды закрытыми. Они дремлют и очень оскорбляются, когда обвиняемые или свидетели выводят их из этого летаргического состояния...
— Я протестую против закрытого заседания суда. Конституция СССР и 20 статья Уголовно-процессуального кодекса гарантируют, что суд такого характера обязательно должен быть открытым. Суд нарушает Конституцию и Кодекс, поэтому я считаю суд недействительным, отказываюсь свидетельствовать и делаю по этому поводу заявление.
Это был гром среди ясного неба. Он встрепенул сонливых судей, он взбесил дородного прокурора. Прокурор сорвался, как обозженный, с места и кинул заявление в лицо Вячеславу Черноволу.
— Вы враг! — крикнул он, у него от возмущения перехватило дыхание.
Судья не знал, куда деть свои длинные руки в белых манжетах, что съели не один килограмм крахмала.
— Вывести его! — крикнул он с места. — Немедленно вывести!
Вячеслав был спокойный и даже какой-то изящный в этом своем спокойствии. От этого спокойствия веяло мудростью, рассудительностью. Вячеслав был где-то далеко от зала суда, он очутился тут на минутку, чтоб посмотреть, что делается, он даже не хотел подробно разбираться ни в чем, не хотел копаться в породе, чтоб вытащить из нее крупинку золота, он знал, что порода пуста, как пусты все вот эти девятнадцать томов эпопеи, написанной старательно следователем; она сейчас возвышалась на столах, и за нею было хорошо дремать судьям. Вячеслав не обижался ни на кого: разве можно обижаться на обиженных Богом? Его живые серые глаза сияли каким-то лукавством, высокий лоб был ясным, как погожий час...
Вячеслав подошел к барьеру и положил на него букетик символических красных тюльпанов.
— Это вам от друзей и знакомых...
— Немедленно убрать цветы! — послышался чей-то визгливый голос, и растерянные охранники со всех ног кинулись туда, но так неосторожно вцепились в цветы, что они посыпались на пол. Вячеслава вывели, но не вывели тот дух, настроение, которое осталось после него
— Я тоже протестую против закрытого суда, — сказал Михаил Горынь, — и требую вести его открытым, как это предусмотрено 20 статьей Уголовно-процессуального кодекса о гласности судебного разбирательства!
Судьи судят... Их потревожили, и теперь они никак не могут вернуться в полусонное состояние.
В зал вошла Анатолия П. Она свидетельствовала в деле Михаила Горыня. Она спокойна, как будто пришла на свидание.
— Вы брали у Михайла Горыня антисоветские статьи?
— Нет, не брала...
— Но вы же взяли от него статью про русификацию украинских школ?
— Да, я брала, но разве это антисоветская статья?
— Как не антисоветская? Вы что, не читали ее?
— Читала. Но там написано все, как есть.
— Как есть?
— А так. Вот я была на практике в Крымской области, и там директор школы требовал преподавать украинский язык по-русски.
— Как?.. Да вы что — смеетесь над нами?..
— Вы смотрите, еще и не верят! Да спросите самого директора, он вам скажет...
Все рассмеялись, даже судьи растянули на минуту в усмешке губы, но сразу же испуганно погасили ее. Прокурор растерянно оглядывался кругом, прокурор давно уже не чувствовал себя таким растерянным и одураченным, прокурор вытирал лысину и сердито покашливал. Должна была разорваться бомба, но не разорвалась.
— Поезжайте, девушка, в Луцк, — сказал не менее одураченный судья, — и вот вам мой совет: не занимайтесь больше глупостями...
Судебный процесс напоминал колесо, в котором бегала белка. Оно крутилось чем дальше, тем быстрее, пока все не слилось: и белка, и само колесо. В глазах начало мелькать, входили свидетели, что-то говорили, выходили... Иногда белочка останавливалась, и перед глазами представал пустой зал, судьи и свидетели...
Опрашивали Ярослава К. Высокий, статный, с фигурой спортсмена, он держал себя непринужденно, иногда удивлялся тем мелочным вопросам, которые ему задавали.
— Вы знаете, что за ту фотокопию книги, которую вы сделали, вас надо судить?
— Судите, если считаете необходимым, — он сказал это безразлично, с таким безразличием берут в трамвае билет.
Прокурор все перепутал. Очевидно, он мало ознакомился с делами, и вопросы, которые должен был задавать кому-то, уже четвертый раз задавались мне.
— С какой целью вы поручили Ярославу К. сделать фотокопию книги?
— Какую фотокопию? — спросил я.
— Извините, — смущенно перебил прокурора судья, — вы не того спрашиваете, кого нужно!..
Прокурор закряхтел, как будто его снова на чем-то обвели. Вытирал лысину и в замешательстве поводил плечами.
Белочка подмигнула прокурору, он ощетинился на нее, она подмигнула снова, и колесо закрутилось...
Утром нас затолкали в машины — черные вороны — и повезли всех на Пекарскую, в помещение областного суда. Мирослава Зваричевская была в хорошем настроении и читала строки из стихотворений Шевченко, написанные 120 лет назад в тюрме:
«Згадайте, браiя моя...
Бодай те лихо не верталось!
Як вы гарнесенько i я
Из-за решотки визирали...»
— Тише, вы там, — гаркнула охрана, но этот крик потерялся среди смеха, который неожиданно охватил наш ворон.
— Слава... слава... слава... — кричала толпа, что запрудила всю Пекарскую (такое было все пять дней). Нам бросали цветы, они падали на металлическую крышу машины, сквозь щель в дверях, к нам. Когда мы шли в помещение суда, то шли по ковру из живых весенних цветов, нам жаль было их топтать, но мы не могли наклониться, — нас вели крепко, до боли стисув локти. Я вспоминаю одного типа, которому упал на фуражку цветок. Это был пузатый военный, он оглядывался вокруг себя, как затравленный заяц. Ему кто-то показал на цветок, и он стряхнул его с фуражки с такой ненавистью и страхом, как будто там была маленькая бомба.
— Михайло, держись! — крикнул из толпы Иван Дзюба Горыню, — держись!
Я лишь успел увидеть его лицо, увидел на какой-то миг, как Лина Костенко пробиралась сквозь строй охраны, ловко вложила в руку Мирославы Зваричевской плитку шокалада, Начальник изолятора как безумный метнулся к Мирославе и выхватил плитку назад.
— Черт его знает, может, она отравлена?..
Белочка остановилась и удивленно посмотрела на прокурора. Тот, надушенный и торжественный (лишь проклятый пот все портил), читал из груды бумаг:
— «... Товарищи судьи! Песня цифр все возрастающих успехов нашей промышленности звучит все могучее!.. Сотни тонн внепланового угля... чугун и сталь... шерсть и волокно... молоко и яйца...»
Белочка удивленно хлопнула глазами, прокурор недовольно косился на нее, сердито надувал щеки, пыхтел, а она подмигнула ему, у него задергалась бровь, и снова густо засверкал на лысине пот, он схватился за спасительный платок, потерял строчку, которую должен был читать, белка вскочила — и колесо снова закрутилось...
Лина Костенко... С ней тут тоже ничего не могли сделать, как и с ее поэзией. Они обе жили на этом нелепом процессе, они обе негодовали, как могут негодовать лишь честные люди, смелые и настоящие граждане. Ее предупреждали... пугали, уговаривали, намекали ей почти при первом знакомстве, и даже незнакомые говорили про ее большой талант, которому еще необходимо расцвести, и говорили, что ее место не тут, на Пекарской, а дома, в комнате, где покой и тишина. А она смеялась им в глаза, а она злилась, как могут злиться только поэты. Но она забыла сейчас про то, что она поэт. Другие, маленькие и большие графоманы, в это время пугливо замыкались в своей конуре-душе и клепали стихи, которые сулили им славу и премии, коньяк и «Волги». Она смотрела людям в глаза, она искала в них совести, и пусть они простят ей это...
Белочка остановилась, перестало мелькать колесо. Прокурор как раз делал экскурс в седую старину. Нет, скажем прямо, обратился не к такой уже и глубокой, а как раз ко времени Австро-Венгрии.
— Вот эти отщепенцы, товарищи судьи, не любят приятного великого русского языка. Я как-то был во Львовском университете, я часто туда захожу, в тот, значит, храм науки, там мне на одной кафедре друзья предложили стихотворение Маркияна Шашкевича, которого я, кстати, давно знал. В темной мгле Австро-Венгерской империи такая светлая натура — их земляк, извините, разве у таких отщепенцев может быть такой земляк, как Маркиян Шашкевич? И как тот, понимаете, тянулся своими взглядами к великому русскому языку. Вот послушайте, как он писал про него:
«Руська мати нас родила,
Руська мати нас кормила —
Чому ж мова iй не мила?»
Белочка удивленно уставилась на прокурора. Все рассмеялись, чем обидели оратора.
— Так это ж он не о русском языке писал, — сказала Мирослава Зваричевская, — а об украинском. Когда-то Украину и называли Русью...
Судьи опустили головы, начали перекладывать перед собою листы бумаги, а прокурор обратился к своему спасительному носовому платку, так как лысина густо покрылась горошинами пота. Он молодцевато дернул головой:
— Товарищи судьи, — сказал отрывисто прокурор, — я не могу дальше так вести речь. Наведите порядок!..
Судья встал, оперся на громаду стола и вперил свои сощуренные глаза в даль.
— Прошу к порядку...
Белочка подморгнула прокурору, и он нервно передвинул свою объемистую обвинительную речь.
— Когда-то во времена той же темной беспросветной Австро-Венгерской монархии такой гений, понимаете, какие редко бывают, как Иван Франко, понимаете, так тот за то, что любил и пропагандировал русскую культуру, не был допущен властями до преподавания в университете. А кто же теперь преподает у нас? Вот смотрите, перед вами бывший преподаватель этого же университета подсудимый Осадчий. Так этот горланит везде, что сгорела библиотека, что сгорело национальное богатство украинского народа...
Кто-то неожиданно хихикнул, белочка снова моргнула, и прокурор снова обиделся. Но он со свойственным ему упорством быстро опомнился.
— Так чему он мог научить студентов? Он тут много говорил про Остапа Вишню. А кто такой, понимаете, Остап Вишня? Я хорошо знаю тридцатые годы, и не вам, молокососам, копаться в некоторых неувязочках тридцатых годов!.. Кто такой, понимаете, Остап Вишня... Да одно то, что Остап Вишня писал отборным, чистым украинским языком, совращало его читателей, а славу Вишни, понимаете, искусственно раздували, — до разного там образа мышления, за это он получил под завязочку...
■
Эта смешная белочка со своим колесом не моя причуда, и я не придумал ее. Она была на самом деле, но, быть может, еще более комичная, чем я ее изобразил. Она вертелась в своем разноцветном колесе, демонстрируя, как все цвета сливаются во время движения в один — белый.
Смешно перебирая ножками и двигая острой мордочкой, она вертелась, показывая, как быстро летит время, а на быструю руку сколоченной сцене, на шумной ярмарке приезжие артисты из шумливого балагана ставили смешной спектакль судебного процесса. Тут был непервосортный эрудит — прокурор, с традиционной лысиной (знак человеческого ума) и с традиционным дождем пота на ней.
Тут были судьи, традиционно дремавшие, поскольку им давно уже надоело судить людей, но они традиционно должны были их судить, поскольку на то же они, Господи, и судьи. Тут были традиционные адвокаты, не защищавшие никого, поскольку их начальниками были сами судьи и прокуроры, а против начальства не попрешь, попробуй — попрут традиционно тебя. Зрителями были сами подсудимые, они стояли толпой и до слез смеялись — это был традиционный смех при традиционной комедии. Они так увлеклись комедией (артисты не были профессионалами, и поэтому их игра традиционно не была профессиональной, но все равно было очень смешно), что забыли остерегаться карманных воров, которые как раз и дожидались этого смеха до упада и теперь нахально обнимали зрителей и вытаскивали все, что те имели. У меня в кармане было пусто, нечего было красть, и поэтому у меня украли два года. У Михаила Горыня — шесть лет, у Богдана Горыня — три года, а проклятая белочка не переставала крутить свое традиционно разноцветное колесо — и от этого все цвета становились белым цветом, дальше традиционно прел шутник-прокурор, дремали на высоких креслах разопревшие судьи и жалкие адвокаты, держась за сердце, что-то беспрестанно бубнили, как раввины, себе под нос. Это была молитва: «Господи, пронеси»..
Меня обокрали примитивно, как обворовывают неопытных крестьян, впервые приехавших в большой город и рассматривающих все вокруг, как коза новые ворота. О своей пропаже они узнают позже, но от стыда и восторга перед такой «чистой» работой молча едут домой, не жалуясь и не сердясь ни на кого в душе...
Я тоже был тем крестьянином и не меньше его был поражен «чистой» работой. Поистине, процесс, возможно, не столько процесс, сколько прокурора и судей можно наградить Нобелевской премией. Им даже не нужно было ничего высасывать из пальца (фу! лезть пальцами в рот), они зажмуривали глаза и составляли за пять дней такие обвинительные заключения, что куда до них жалким судьям, влепившим Остапу Вишне под самую завязку за террористические акты (не за изнасилование Клары Цеткин, хотя это было бы более серьезное обвинение).
Михайло Косив, мой свидетель, сказал на процессе: «Я не читал у Осадчего статьи «По поводу процесса над Погружальским», и он не высказывал мыслей антисоветского националистического характера, так что недовольства советской действительностью не проявлял» (стр. 85 на обороте протокола судебного заседания).
Михаилу Косиву сказали уважаемые судьи, что пусть он не будет дважды умным: его выпустили из-под ареста (он просидел шесть месяцев), но его снова за милую душу могут посадить. А в приговоре вопреки утверждениям Косива было записано: «Подсудимый Осадчий давал Косиву читать статью ”По поводу процесса над Погружальским”».
Свидетель по моему делу Иван О. пять раз сказал на следствии, что не читал у меня на квартире статьи «По поводу процесса над Погружальским», это самое он убедительно сказал и на судебном заседании (стр. 91 протокола судебного заседания), а судьи с высокого берега справедливости занесли в приговор: «Подсудимый Осадчий давал О. читать статью ”По поводу процесса над Погружальским”».
Мой лучший друг Игорь Сандурский, на следствии говорил, что я давал ему читать статью «По поводу процесса над Погружальским». Перед судом он тоже говорил, что я давал ему читать, но когда прокурор, раздраженный белочкой и ее колесом, что все время вертелась перед его глазами, спросил, как она выглядела, эта статья, то Сандурский внезапно совсем растерялся, и сказал, что не может этого сказать прокурору, потому что в глаза не видел этой статьи и не читал ее, и что Осадчий «был скромным человеком и с интересом относился к украинской литературе» (стр. 69 протокола судебного заседания).
В приговоре судьи записали: «Подсудимый Осадчий давал читать статью "По поводу процесса над Погружальским” г-ну С.И...» А кто-то из судей, преждевременно задремавший, занес в протокол еще и такое: «Подсудимый Осадчий передавал Михаилу Масютку антисоветскую националистическую статью» «Речь Эйзенхауэра на открытии памятника Шевченко в Вашингтоне в 1964 году...». С Михаилом Масютком я никогда не был знаком, и во время следствия и во время суда при мне ни разу не вспоминали его фамилии...
Свирский в своей книге «История моей жизни» вспоминает, что когда был маленьким, очень любил врать, — он всегда хотел сделать взрослым приятную неожиданность: «Тетя Двойра, а на улице женщина только что родила. Такой маленький ребеночек, — он так страшно кричал...» Тетя Двойра бежала на улицу и разгневанно возвращалась назад: никакие женщины и не думали рожать на улице... А маленький герой сидел в это время в траве и горько плакал, сгорал от стыда за ложь... Он плакал и просил своего еврейского доброго Бога, чтобы тот помог ему больше не лгать, но тот никак не хотел помочь маленькому несчастному ребенку...
Я вспоминаю этого мальчика, его муки и думаю, просят ли когда-нибудь судьи и прокуроры свою богиню справедливости — Фемиду, чтоб она надоумила их на праведный путь?.. Или они уже настолько безнадежны, что она повернулась к ним спиной?..
У меня сложилось такое впечатление, что кого угодно можно засудить за что угодно на пожизненное заключение. Например: я нечаянно сел на клопа и раздавил его. Тут майор Гальский скажет: «Ты преступный презерватив и тебя н а д а изничтожить, поскольку ты злоумышленно раздавил честного советского клопа своей буржуазнонационалистической ж...» И этого аргумента достаточно будет, чтобы всыпали мне под самую завязку. Жаловаться куда-нибудь, подавать кассации, — о, пожалуйста! .. Это тебе гарантировано, как хороший кирпич в спину...
Несправедливый приговор Львовского областного суда я обжаловал в Верховном суде УССР. И что же там? Мне сняли «незаконно приписанные» преступные связи с Михаилом и Богданом Горынями, с Михаилом Масютком да Иваном Светличным, но мне не сняли своевольно приписанные судьями факты, которые отрицали свидетели. Меня, как говорят, оставили при своих арестантских интересах...
— Ты еще радуйся, — сказал мене «мой» следователь после процесса, — То, что ты получил, это меньше детского. Благодари Бога, что тебе не влепили больше... А два годочка пролетят, приедешь, мы еще рыбку с тобой на Свитязе половим...
■
Суд очищает человека, очищает от переживаний, недосыпаний и от веры в самую примитивную порядочность и справедливость. Становится неожиданно легко, весело, — тут совсем не значит ничего срок, 2-10 лет, тебе безразлично, как безразличен новый грех после исповеди.
И даже узкая, съеденная темнотой, камера гнетет не так, и не для тебя начинают звучать дорогие слова — «аправлятца», «падъем», «баланда». Ты уже чувствуешь себя уверенным хозяином, и тебя даже не беспокоит мысль, что тебя обокрали; ты снова похож на того крестьянина, которого обчистили, и он едет со страхом домой, но ему все время не дает бояться светлое сплетение увиденных высоких зданий.
Ко всему этому у меня еще прибавился утром «мой» добрый следователь. Я с благодарностью посмотрел на него, мне все время казалось, что он не на месте, случайный в этой фабрике человеческих душ, что его место где-то, возможно, в бюро добрых услуг, из таких людей бывают неплохие стюардессы. По крайней мере, сейчас я считаю эти профессии профессиями улыбки, вежливости.
Я преподавал в университете, я был журналистом, я писал стихи, и всегда мне казалось, что я разбираюсь в людях, что могу вникнуть сразу в их психологию, понять их, и понять не просто так, а как плохих и злых, добрых и недобрых. А тут я растерянно опускал не раз руки, я никак не мог отличить добро и зло, доброжелательность и обычнейшую человеческую подлость. Тут все мне напоминало гигантского хамелеона, все видоизменялось, как в калейдоскопе, закручивалось, и я бросал к черту попытки что-то определить и до чего-то дойти в догадках. Тут у меня впервые закралось сомнение в людской доброте. Слова, даже самые прекрасные, перестали для меня что-нибудь значить...
Кто бы мог подумать, что в то время, когда следователь успокаивал меня встречей с женою, она давно ждала меня этажом ниже, и тот же самый следователь нервно бросал в телефонную трубку, когда она просила ускорить свидание: «Подождите, у меня сейчас нет времени, я занят!» Я не знаю, какие важные государственные дела он решал, может быть, он тогда спокойно дремал на диване, или пил кофе, но жена ждала, ждала с десяти часов утра до пол-пятого дня. Жена была очень молода, двадцать пет, жена была беременна и должна была не сегодня-завтра родить. Следователь знал об этом и даже иногда беспокоился о ее состоянии: «Вы знаете, у вас такая славная жена»...
Она стояла бледная и бессильная, и через десять минут разговора со мною упала мне на грудь и начала сползать на пол. Я думал, что это она от переживания, что долго не увидит меня, но следователь был более дальнозоркий, чем я, он поспешно взял ее под руку и повел к выходу. Жена еще сама пошла, поскольку у нее не было даже на трамвай денег, дошла до мединститута, и через час после свидания родила...
Пускай, по мнению следователя, я преступник, безусловно, тогда ко мне можно относиться, как к преступнику. Но зачем подвергать таким нечеловеческим пыткам женщину? И не просто женщину, а мать! И не просто мать, а ту мать, которая должна родить именно сегодня!
Я, например, не могу верить писателю Алексею Полторацкому, редактору журнала «Всесвiт», не могу верить ни как человеку, ни как общественному деятелю, который больше всех ратует на страницах прессы за честность и прививает читателям любовь к гуманизму... Скажите, можно ли верить ему, тому самому, который в тридцатых годах писал про Остапа Вишню: «Классовый враг... певец кулаческого крестьянства ...консерватор языка... Зоологический националист ...» А в шестидесятых годах называл великого украинского юмориста «ближайшим своим приятелем, другом»? Когда же он был гражданином? Тогда, когда в крутую для Остапа Вишни минуту оболгал его вдоль и поперек, или теперь, когда Остап Вишня реабилитирован, когда ему вернули его честное писательское имя, когда его называют одним из наилучших юмористов Украины? Имеет ли право Полторацкий, великий «психоаналитик» своего времени, называть Вишню своим другом? Кто дал ему на это право? Гражданская совесть или советская власть? Нет, он его подло присвоил, совершив еще большее моральное преступление, чем в тридцатых годах!..
Эти мысли не давали мне покоя, мутили мою и без того взбаламученную душу, разрывали меня на куски, я не выдерживал, подходил к стене, закрывал в бессилье глаза и свирепо бил перед собой кулаками. Это было в минуты моего приготовления к первому в жизни этапу в лагерь строгого режима
Если тупо смотреть под ноги себе, то можно увидеть яму, можно увидеть в ней дно и на дне кайло. Можно этим кайлом долбить землю и пригоршнями выносить ее вверх. Можно ее там складывать и копать дальше. Если долго копать и не останавливаться, можно докопаться до воды. Можно упасть на нее лицом и долго пить, можно пить час, можно пить два. Можно вообще не отрывать рта от нее, и так доживешь до свободы. Можно пустить корни и стать деревом. Тогда начальник стукнет кулаком по стволу и скажет: «Пристроился сука-хохол?». Он, возможно, сказал бы еще что-нибудь, так как на удивление говорливый, но заключенные надоедают, переводят его на другой разговор.
— Начальник, это же фашизм — кормить одной селедкой два дня и не давать воды. За такое, падло, вас надо за я... вешать!
— А может он без я... Так за что ты его подвесишь? За свои?
— Сука, не подъе... ай, — говорит спокойно начальник. — А то заберу хлеб и будешь жрать одну селедку. А пить — так пописяй и напейся?
— Начальник, пусти поссать, купе затоплю, прогрессивки не получишь на праздник, гад!
— Поссы этому через стену, он пить хочет...
И тогда несется через весь вагон чей-то безумный визгливый женский голос:
— Начальник-импотент, я уже тебя три раза прошу пустить в туалет. Я уже больше не могу выдержать, я по-женскому.
— А что тебе туалет — гинеколог? — трясется в мелком смешке начальник и смотрит на конвойных. Те испуганно хлопают глазами, но, не определив по лицу начальника ничего, кроме удовлетворения, тоже начинают осторожно подхихикивать.
Михайло Горынь плавает в туче дыма и духоты, он подходит до крепкой стальной сетки и смотрит в проход. Там, где-то за вагоном, пробегают хатки и около них люди возятся на своих огородах, их несколько на один огородик, а дальше, на многокилометровом свекольном поле одна забытая во всем мире сгорбленная фигура женщины...
— Женщины, — как бы себе говорит Михаил. — Аня Садовская и Ярослава Менкуш... Им сто раз было тяжелее в тюрьме, чем нам. Однако держались прекрасно...
— Контра, атайди от сетки — глаз выколю, — кричит перед ним конвойный. — Не хотел быть ректором университета, так теперь жри свою селедку!..
Михаил медленно возвращается и садится около меня.
— Мне сейчас пришло в голову — почему наши писатели в своих произведениях так любят писать про воду — течет ручей, река... Наверное, не одного кормили такими селедками и не давали пить. За столетия это уже вошло каждому в кровь...
— Начальник, ты же не скотина, ты же человек, дай напиться, у меня в мозгах пересохло.
— Когда у тебя начнет пересыхать в ж..., тогда скажешь...
— Я себе не представляю, что бы кричал великий литературный следопыт Семен Шаховский, если бы сидел сейчас среди нас. Особенно, если бы его посадили среди тех, на кого писал в тридцатых годах доносы и помогал отправлять на тот свет. Я сказал ему об этом на суде Михаила Масютка, так он непередаваемо был сражен, тут же опустил голову и уже не поднимал ее до окончания процесса.
— Да пусти его в туалет, человек умирает. У него уже с конца капает.
— Стрелять таких надо!
— Я тебя застрелю, я тебе глаз выньму, пока ты меня раз!..
— А доцент Владимир Здоровега ваш?
— Да, он преподавал на факультете партийно-советскую прессу. Среди студентов славился как либерал-демократ, иногда даже позволял себе заигрывать на тему тридцатых годов. Ярым украинофилом был.
— Да, это видно было на процессе. Он, Семен Шаховский да еще с вашего факультета Павло Ящук, Кибальчик — аж из штанов вылезали, так доказывали идеологическую общность взглядов Масютка с материалами, которые вырвали из чьих-то рук. У Масютка никаких доказательств преступления не было. Так они научно приписали ему авторство, за что тот и получил шесть лет лагерей, а они получили гонорар, который будут удерживать с Масютка. Это похоже на грабеж. А потом, ты знаешь, в Киеве сняли эти доказательства с Масютка, как неаргументированные, а вы себе, Масютко, хоть и без преступления, а отсидите шесть лет. И как эти человечишки смогут теперь учить студентов и говорить про какую-то порядочность?..
Да что ты, Михаил, — говорю тихо, так как во рту пересохло и страшно хочется пить, — за триста двадцать рублей, за гонорар с Масютка можно что угодно сделать. Денежки, знаешь, они теплые!..
— Какое там варенье, в ж... тепло, — кричат из соседнего купе. — такая жарища, вонь бл..., один здесь кошмар, начальник, атайди и не ваняй перед решеткой.
— Слышь, чувак. — затарабанил вдруг в «нашу» стенку зек. — Передай той деве, у которой по-женскому, ксиву.
Конвойный отошел, его шаги были слышны на другом конце коридора. Сквозь сетку просунулись два пальца с запиской, — теперь она пойдет через все купе до женского. Оттуда, через минуту отпишут: «Хачу тебя иметь», — «Что, хачу, полезай сюда, брашка, здесь выбор, как в Грузии, хошь, кавказца подарим?» — «Ты кавказца подари начальнику, пусть вобьет в глаз гвоздь!»
В непрестанный гул зековского вагона врезается другой голос:
— Цише, цише, бандеровец, теперь ты у меня удерешь на тот свет!
— Що «цише»? — послышался от дверей чей-то гневный голос. — Ты иди себе «цишай» в свою Москву! Ты зачем на Украину пришел, шляг бы тебя трафил[3]?! Позабивали тюрьмы нашими людьми, гноите их!
— Слышь, чувак, ты чего орешь? Сколько?
— Що, «сколько»? И тут от вас не продохнешь. А ну вон, москали, из украинских тюрем!
Михаил до сих пор внимательно прислушивался к бунтарю, вдруг рассмеялся:
— Ты слышишь? — сказал он. — Как винниченковский «щирый».
Его ввели в наше купе разлохмаченного, с оголенной грудью. Не обращая на нас внимания, он забарабанил кулаком в сетку.
— Ты, москалю, не пхай другого за решетку, еще не известно, не попхают ли завтра тебя. Ты думаешь, что тебе вечно хозяйничать на нашей земле?
— Молчи, бандит! Истратило на тебя государство миллион, пока разыскивало! Адного ухлопали, так скажи спасибо, что ишо решетку получил, а не г... землю!
Я лежал на верхней полке в клубах дыма и смрада, мне было плохо, все плыло перед глазами. Шероховатый язык болезненно перекатывался по пересохшему небу В эту минуту почему-то страшно ненавидел рыбаков, рыбу, соль. Я видел, как дорогою в гору полз чумацкий обоз, нагруженный белой солью, и я начинал ненавидеть чумаков, их волов, рябых, как и сами чумаки. Я куда-то бежал и не мог отдышаться, у меня спирало дыхание, и я кашлял. Тогда я кинулся назад, и мне сразу стало легче, обдало воздухом, и уже не так подгибались ноги. Меня, наконец, вели конвойные, они сказали бежать, толкали, впихивая в какое-то купе, и я увидел, как в нем отошел глазок, и на меня смотрят чьи-то широко раскрытые глаза.
«Настал вечер, — подумал я. — И всех разводят в туалеты». Потом втолкнули какого-то зека, кажется, это был тот зек, что писал ксиву. «Валюша, — спросил и злобно выругался на конвойных, которые отпихивали его от сетки, — а тебя за что, за нее?» — «Нет, Ваня, с нею у меня все в порядке, я — за карман». — «А каво бы ты, Валюша, стреляла, когда бы на нас китайцы напали: в них или в мусор?» — «В мусоров, Ваня, а ты?« — «Я тоже, Валя» — «Маладец, Ваня, при первом же случае отдамся тебе, слышишь, не другому, только тебе...»
А потом ходил, заложив за спину руки, наш крикун, я слышал, как он назвал свою фамилию: Семенюк, Роман Семенюк. Он сказал, что сидит с восемнадцати лет, что его осудили ни за что, и ни за что он сидит уже восемнадцать лет. Потом он сказал, что недавно убежал из лагеря с Олийником. Они были на свободе три месяца, а потом их накрыли у Олейниковой сестры под Ровно. Сестре дали срок, что не донесла на них, на Олийника открыли новое дело, и, наверное, уже расстреляли. «На меня тоже хотели открыть новое дело, но не нашли старого, и теперь везут назад в Явас, чтобы добавить новый срок за побег».
Он сказал, что услышал запах свободы, и теперь ему будет легче сидеть, но он, должно быть, уже никогда не выйдет из-за решетки, он сказал, что никогда не знал, что такое женщина, как они целуют. Он всхлипнул и сказал, что они с Олийником первые заметили в лагере на циркулярке подгнившие столбы. Столбы стояли на рукаве, который вел к речке. И тогда они раздвинули те столбы и под водой проплыли больше километра. Он всхлипнул и сказал, что уже больше никогда не сможет столько проплыть под водой...
Потом снова кого-то провели коридором в туалет, и оттуда донеслась женская ругань: «Ты чаво, сука конвойная, подглядываешь, как я...?» — «А я не подглядываю...» — смущенно сопел конвойный, — я по кодексу стою». Тогда она расхохоталась и сказала: “Дай мне сюда свой варварский кодекс, я ж... падатру...»
■
— Быстрей, быстрей! Разобратца, взятца за руки! Быстрей!..
Меня толканули в плечи чьи-то мощные руки, и я полетел на железнодорожные рельсы. На меня навалились мои котомки, я лихорадочно вытаскивал их из-под чьих-то ног, которые мелькали у меня перед глазами, как вагоны скорого поезда, потом я ступил в сторону и замер: большущие овчарки рвались с поводков, оскалив черные пасти, и я против воли попятился, все еще вытягивая что-то, что никак не поддавалось слабым рукам.
— Два шага в сторону, два шага назад — будем без предупреждения стрелять!.. Взятца за руки, выше, выше, за локти, быстрей, быстрей!..
Мы бежали, спотыкались на рельсах, лихорадочно поднимаясь и снова падая. Рядом рвались на поводках, разъяренные свежим людским духом сторожевые псы, бежали автоматчики — дула были направлены прямо нам в глаза, и я против воли зажмуривался и тогда летел со своими котомками снова на рельсы...
Почему-то запомнились скорые поезда «Москва — Севастополь», «Харьков — Одесса», а в окнах мягких вагонов мордатые анемичные лица, они были безучастными и спали на толстых красных шеях. «Бл..., нажрали рожи на нашем мыле, такого пуля х.. возьмет, когда там сала в две руки. Его бы к... пагнать!» — «Быстрей, быстрей, не отставать, подтянутца!..» — «Арет, б..., как на фашистов не орал, а советский ведь, сука, человек...».
В маленький воронок на шестнадцать-двенадцать человек набили, как тюльку, не дав никому передохнуть, около тридцати зеков. Загремела дверь, на неё упали два замка, и у меня все поплыло перед глазами, мне сперло дыхание — еще в детстве я перенес тяжелую операцию горла, — подкосились ноги, и тогда я не выдержал и со всеми вместе начал кричать: «Везите, сколько можно стоять!» Мы кричали, но нашего голоса никто не слышал, стража замерла в багровой жаре, в человеческом поту, и тогда послышались снаружи спокойные голоса: нас кому-то передавали, те не хотели принимать, учинилась ссора, и где-то сбоку скулили сторожевые псы...
■
— Ты что, чувак, лапти разбросал? — меня кто-то тормошил, а я повалился и говорил, что с меня хватит. С меня хватит, говорил я, и больше никто никуда меня не затолкнет, я сяду тут и не встану, даже если придет сам Сталин. «Суки, — говорит зек, — эта е... баба Катерина настроила канфортов, а они и рады набивать в эти лачуги». — «А бабенку-то эту не трожь. Она баба русская, не узкая, широкая натура была с замашками на конскава. Она, мать Расеи, сколько тюрем понастроила, что нам ишшо на тысячу лет хватит...»
Тут надзиратель внимательно посмотрел на зека, зек вызывающе прошелся мимо него, потом вернулся назад, и тогда надзиратель сказал:
— Сопля, шестнадцать лет нету, а уже разглагольствует. Какому идиоту взбрело в голову сделать эту двадцатую статью? Садят соплячье за мелкое хулиганство, по шесть лет дают, набили ими тюрьмы, перевыполнение одно, а ни тебе прогрессивки нет, ни дохлого праздника, вкалывай за них тут дни и ночи...
Тогда рыжий матерый вор в законе, которого посадили уже тринадцатый раз, и который имеет общий срок заключения на 108 лет, тогда тот матерый сказал:
— Ты, батя, лафу не сунь, мы его перевоспитаем, может человека из него сделаем, а то проходит всю жизнь в
фраерах....
— Я бы тебе, падло, сказал шо-то, если бы ты завтра не сматывал отсюда. Ты бы у меня раком ходил, в рот те е...
— Да, я знаю, вы суки хорошие. Я всю Расею исколесил, и нигде нет таких зверских пересылок, как у вас здесь, в Харькове. Вы, падлы, хуже своих овчарок, вы бы живьем человека сожрали. На тебе мою глотку — соси, топор!
«Боже милостивый, — думал я, — куда я попал? Я — маленькое ничто. Я теплый интеллигентик, — думал я. Я думал, что среди этих людей ничего не значу. Я выдумал из себя ничто, но мне далеко до него, я что-то намного меньше, и обязательно затертое. А может быть, меня нет, есть только большие уши, которые все слышат, хоть я их и крепко зажимаю руками. Руки мои слабы, и я не могу зажать крепче...»
— Ни одной книжки, как дотянуть день? — ходил где-то под окнами Михаил Горынь. — Тебя никогда не учили на память с памяти?
Он сел рядом и стал читать стихи Самийленка, я повторял за ним, но сразу же забывал. — «Шо ты, падло, арешь?» стучали из-за стенки. «Проклятые уши, — подумал я, — Интересно, было ли слышно Остапу Вишне? А, может быть, он сам сидел в этой камере — 80? Смешил ли он кого-нибудь в этом хаосе?
— Скажите, — спросил я дежурного надзирателя, стараясь заглянуть в его колючие с красными прожилками глаза. — Это та Холодная Гора, где сидел Остап Вишня? — я сказал это шутя, но шутки не получилось.
— Да, эти вишни. Их здесь миллион окачурилось. Разве их всех запомнишь, если двадцать лет работы...
■
У Украины на заключенного — большие глаза. Она поспешно отводит их от арестанта, так как конвойный парализует ее розовое личико. Украина боится заключенного, остерегается конвойного, вот она уже за углом дома, вот она миновала дом, и больше ее нет: она позорно сбежала в свой быт, и там ей легко и беспечно среди мелочности ночных и дневных перемен. Украина лучше будет жить работой, чем арестантским бельем, ей ближе к сердцу такие, знаете, цветущие вишневые садочки и майские жуки над ними, оденьте хрущей[4] в полосатую одежду, побрейте им головы — и Украина, наверное, возненавидит деревья, вырубит вишни, так как они плодят полосатых хрущей, на том месте она посадит вербы, правда, они не будут родить сочных вишен, от них никакой выгоды, зато беспечнее и вольнее. Украина ко всему привыкает. Скажи тому вежливому хозяину, что он заключенный, и он не будет возражать, да, он заключенный, и только одно будет его мучить и кидать в жар недоразумение — это почему не разрешают и дальше копаться в огороде, пасти корову и ставить тын. Ему все равно — кем быть, ему лишь бы позволили полежать в теплоте черной ночи в своем садочке, да вот так, знаете, помиловаться при звездочках, что там где-то в небе, да вот так, знаете, взволноваться, услышав, как доносится из хлева коровье мычанье....
Россия же не ровня Украине. Она не только любит тюрьмы, а и с нешуточным уважением относится к заключенному. Увидав его на перроне вокзала, Россия забывает обо всем, и бежит стремглав толпой к колонне, и что-то подбадривающее кричит: она кидает хлеб, папиросы, она огорченно вывертывает карманы и с сердцем ругает себя, что они пусты. Россия для заключенного ничего не жалеет — ни пыток, ни хлеба. Вот она в длинной цыганской грязной юбке стоит рядом и всхлипывает: «Возьми, миленький, возьми, родненький, покушай свежего хлебушка... на тебе булочку, детям купила, а ты скушай себе на силушку... Судьба твоя абижена. ... Горькая твоя долюшка...» — «Ты мне извини, браток, што бросаю полпачки, я же не знал, что тебя встречу...»
Украина надзирателя, как и Украина хозяина, всегда однобока. Ей говорят кричать, и она кричит, и кричит гораздо больше, чем по инструкции. Ей говорят быть вежливой с заключенными, и она вежлива до приторности, она ведет тебя на прогулку и говорит: «пожалуйста», она ведет тебя в туалет и тоже говорит: «пожалуйста». Украина надзирателя, как и Украина хозяина, всегда во всем усердна.
Россия надзирателя не отступает от буквы закона: она кричит, ругается, замахивается кулаками и в то же время сует в толпу заключенных булку, сует папиросы и смотрит: не заметило ли начальство. Россия надзирателя улыбается тебе и с радостью бежит кидать на станции твое письмо в почтовый ящик. Россия надзирателя подходит к тебе и добродушно говорит: «Шо я на тебя орать-то буду? Ты же такой человек, как и я. Завтра ты выйдешь, встретимся где-то в столовке, и может ты мне сто грамм поставишь...»
Украина надзирателя боится надзирателя и смотрит на него, как на свое призвание. Россия же надзирателя не любит и смотрит на него скептично, как на любую работу, дающую кусок хлеба. Такая работа ее утомляет, ей тошно на такой работе, она подтрунивает над ней, но никогда не старается бросить ее. Такая Россия надзирателя на пересыльных пунктах, на железнодорожных станциях; она флегматична и любит покой, она не любит, когда ей нарушают этот покой: буйному Семенюку надели наручники, он ходит среди нас, как белая ворона, и ему по очереди несут чемодан и по очереди закладывают в рот самую мощую самокрутку...
■
Чефир... Есть слова, которые отталкивают, есть слова, которые притягивают к себе, как магнит. Это слово и не отталкивает и не притягивает — оно висит в воздухе над вами, как распятый Иисус на иконе, и вы с тайным успокоением поднимаете к нему глаза, волнуясь, как волновались, может, когда-то в колыбели, увидав вокруг себя удивительный мир цвета, звуков и смешных существ, которые зовутся людьми. После него заключенный, забившись в угол, наплюет на колючую проволоку и приказ начальника лагеря «не удирать», забывает все свои арестантские желания, врывается моментально к себе домой, целует родных и плачет от радости: неужели, черт бы побрал, смеется он, случилась оказия? Прозвучало «атбой», и он лежит, как дерево, так и не успев наговориться вволю с соседями (это так называемое состояние кейф), тогда пристально посматривают на него и спрашивают: «Что ты, фильмы крутил?»
Чефир... Скажи заключенному, когда он смакует его из прокопченной кружки, какие-нибудь глупые слова: «женщина», «коньяк», «синяя ночь», он с удивлением уставится на тебя, и ты услышишь такую ругань, конец которой надо искать на Красной площади...
Администрация запрещает кейфовать. Можешь пить черный кофе, а за чай шизо, пятнадцать дней цементного пола. Пачка чаю стоит два рубля и достают его только «проверенные» особы! Когда собьется компания заключенных, посередине будет колдовать хозяин пачки. Разжигают небольшой костер в углу камеры, на ложку вешают металлическую кружку, и, когда вода закипит, в неё всыпают спичечную коробку (единая лагерная единица) чаю: грузинского, индийского или цейлонского. Наилучший — цейлонский, старые лагерники определяют так быстро сорт чая, как дегустаторы вино... Кружку бережно, как даже мать не пеленает свое дитя, закутывают в ватник и дают чаю настояться. Через пять-десять минут (это ожидание напитка разве может сравниться с ожиданием запуска первого космонавта) осторожно развертывают кружку и произносят торжественные тосты («за Организацию Объединенных Наций», «за кобылий хвост», «за здоровье дореволюционного зека, батьки Сталина» и «чтоб они сдохли»...) и так, чтобы не пролилась ни одна капля, передают чефир из рук в руки — каждый выпивает два глотка (три глотка может выпить лишь тот, кто сегодня вышел из шизо, — но даже самые заядлые чефирщики не стараются ради лишнего глотка попасть туда).
Ничто так мгновенно не делает друзьями заключенных, как чефир. Когда уже пустая кружка задерживается в чьих-то руках, все начинают бойко выспрашивать друг друга: за что, откуда? Сколько?
— Что бы я мог вам подарить? — спрашивает меня эстонец Нееме. — Я очень люблю украинцев, это такие хорошие люди! Может быть, подарить вам мой портфель? Вы где работали? В университете? Тогда, к ученому лицу — только портфель, извините, что поношен.
— Мы будем спать сегодня вместе. Я, между прочим, на два года в тюрьму, во Владимир. Будьте здоровы на лагерной свободе!..
— Вы знаете, как спрятать лезвие? А деньги, а иголку? Без них пропадете!..
— Вы умеете выбирать работу? Если попадете в одиннадцатый, то храни вас Боже итти на раскройный или в машинный. Там — сквозняки в одном, а в другом грохот.
— Желудок не болен? Не бойтесь, выживете!
— Вы знаете, Эстонии уже тысяча лет? Было когда-то шестьдесят эстонцев, и Эстония выжила. Выживет Эстония и в лагерях.
— Про Даниеля слышали? На одиннадцатом в шизо вкалывает...
Мы взялись за руки и стали кружить по камере рядом с другими парами, мы о чем-то горячо говорили, и я никак не могу вспомнить, о чем, но уверен, это был разговор друзей, которые неожиданно встретились после долгой разлуки. Мы подходили к стене и там смеялись, небольшая кучка заключенных смеялась, а неимоверно подвижный вопреки своей тяжелой осанке зек несмолкая двигал своим беззубым ртом. Он говорил, превозмогая смех:
— Это, падло, вызвало меня, сука, значит и говорит: Ты е... в рот зек, ты хороший парень, б..., ты садись, падло, с тобой друзья первой страны гаварят, а не враги в кровь. Ты памаги, сука, раскрутить свое дело, а то хрен его знает, за што сидишь, шо хошь, падло, за это дадим, хошь, сука, волю, хошь, падло, дадим женщину?
— Бл..., какие вы мне, бл..., друзья, и на х... ваша первой страны воля и ваша е... женщина-передовичка? Ты мне, совпадло, пачку чая дай!....
И тогда полосатый закидывает на стену голову и смеется, он вытирает слезы и говорит, что «х... его разберет, какая она жизнь, ежели жить-то не с кем,» — он закидывает голову на стену и громко смеется, и тогда его рваные колючей проволокой, стеклом, лезвием грудь, живот движутся, как живые — они ползут за головою на стену, и зек смеется, зек выпил чефиру и показывает свой «до опупения» порезанный и весь в шрамах лоб. Зек говорит, он показывает на лоб и говорит:
— Здесь у меня было наколото «Раб Хрущова». Ани, бл.... срезали Хрущова со лба и с жизни... Бл..., дурак, знал бы, что из-за меня парня попрут с лафы, наколол бы, сука, другого.
— Ты веселый парень, тебе хорошо, в дурдом везут.
— X... с ними, пускай! Мне везде не плохо! Только, бл..., обидно, что это е... начальство выбрало именно меня. Шо я лучше всех? Ешо ребятки подумают, шо я споцился...»
Зек закидывает на стену голову и смеется, он принципиальный одиночка и смеется лишь для себя, и тогда порезанная шея напоминает надписи на стенах: «Ваши права отстаивает Организация Объединенных Наций», «Коля с Кинешмы два года», «Десять лет за п...», «Ваня из столицы»...
Заключенные рассказывают анекдоты, они забывают и рассказывают те же самые еще раз, и ходят по камере, ходят цементным проходом, зеки ходят, как кони, как волы, как-будто под их ногами месиво, они топчутся по нему с таким удовольствием, как этого не делал ни один конь или вол. Головы зеков вьются в дыму и сумраке где-то высоко, еще выше того, где полосатый закидывает голову, они месят туман и от этого он становится еще гуще, и тогда головы зеков останавливаются на месте, а короткие обезглавленные тела беспорядочно снуют по камере, и тогда полосатый закидывает голову еще выше и она там глухо бекает, а беззубый рот ощеривается, как нарисованная на черном щите впалая яма.
— Правила... Я, сука, безграмотный, я три класса отпи..., а читать все-таки научился. П-преступник! Р-радуйтесь А-амнистия. В-вышла, и-и, л-лагеря, а-аннулированы: ПРАВИЛА — АЛИВАРП: А-амнистия, л-ложь, и-и, в-вы, а-арестанты, р-радоваться, п-перестаньте.
Впалая яма застряла на стене, в ней таится густая темень, и зек беззвучно смеется:
— А все-таки я их здорово об...л! В дурдоме хотя вкалывать х... будешь! — И тогда над впалою ямой вырезается зеленый глазок надписи: «Зеки, не отчаивайтесь! Скоро будете дома. Жора из Могилева».
■
Есть парадокс красоты — неимоверно красивая женщина с непомерно вульгарным носом, ею можно любоваться в анфас, в профиль — невольно закрываешь глаза: на тебя смотрит какое-то неповторимое существо, черт бы ее побрал, думаешь ты. Есть парадокс красоты: березовые рощи, где стройные стволы охватывают тебя своим теплым цветом, и ты, как идиот, припадаешь к решеткам, чтобы соседи-зеки не напророчили тебе дурдом, — ты улыбаешься, и на лице твоем застывает маска благоговения. Есть картина: Иисус Христос на горе Голгофе. Иисус сидит, и вокруг синие сумерки. Конечно, это ночь, так как из-за туч видна луна. Ниже — дома, много домов, в них светится. Эти огни — выражение скорби. Иисус, охватив руками колени, страдает. Может быть, он не страдает, а просто отдыхает после распятия. И тоже парадокс — отдыхать после распятия, — и у тебя на лице тяжесть, тяжесть в очертаниях природы: березовые рощи, и вдруг громады дощатых заборов — лагеря Там, за дощатыми заборами, скрытые ряды колючей проволоки, девятнадцать рядов, девятнадцать лагерей. Березы и лагеря. Вернее, березы и колючая проволока. Говорят, еще парадокс: березы молоды, а в середине дуплисты. Ковырнешь, а там труха. Это что-то из той области, красивая женщина и бесплодна. Говорят, эти березы и не могут быть другими, не та почва. Копнешь на три-пять штыков и человеческая кость. И человеческие черепа. Березы на человеческих костях. Березы на такой почве — веками. Говорят, от Грозного...
— Ну, б..., окопались, — говорит зек. Он говорит про это не раз, этот зек. — Березку сначала пиляют, а потом валяют, а девушку наоборот: сначала валяют, а потом пиляют. Но эти б... заборы все портят, скоты!
— Пидеры, ани што, загонят за эти райские врата, и жри глазами одно пионерское небо. Я сюда уже третий раз и завсегда б... чувство: будто я заяц и меня под слона загоняют. Такое настроение иногда жуткое, никак привыкнуть не могу: ну, думаю, падлы!
— Тут адин батя есть, железный пидер, эта сволочь, начальник, два года ночью мозги полоскал. Теперь приехал и апять он. X... его знает, как наново его восприниму.
— Тебе что, ты за политику, тебе не так ум спи... ли! А я за бабу сел на червонец, а теперь, б..., столько не нюхать этого дела!
— Слышь, чувак, а здесь налево можно?
— Да-да!.. Здесь все можно, здесь на каждом шагу е... пидеры: как получишь на пятнадцать суток эту е... бабу-шизо, то так тебя за... т, шо тебе французский бардак, еле ноги волочишь, как клоп, фу, жуть какая!
— Слышь, сынок, а как ты нащот старикашек, вытяну я десять пет?
— А тебя за что, старый хрен?
— Да знаешь, сынок, война... такое время было... немцы, а жрать нечего, а под пулей и не то сделаешь...
— Фашист, б..., значит, продался? Так на тебе два бати-лидеры будут ездить. Лошадей нет, всех партийцы сожрали. Так на стариках начальство на работу ездит.
— Так шо, я не вытяну, сынок?
— Вытянешь, старый хрен, еще свою бабу жарить будешь...
Он забивается в угол, у него трясутся колени, он шепелявит какие-то слова, испуганно бегают маленькие глазки по возбужденным растрепанным зекам: зек тут свой, зека боятся все, а зек — начальства. Тут такое место, что все кого-нибудь боятся. Дед думает, что он старик, и ненавидит тех, кто поел в лагере всех коней. Им что, на них никто не будет ездить на работу, дел всхлипывает, и тогда зек задирает штанину и начинает изо всей силы раздирать волосатые шрамы на ноге. Нога обливается кровью, дед всхлипывает, и никак не пропадает у человека раздвоение: ему кажется, что он наконец-то избавился маеты и через полчаса будет крепко спать в бараке, где теплая и вкусная баланда, где есть свой угол, в который можно забиться и ни с кем не говорить (еще продадут за пачку чая).
Есть и другие ощущения, ощущение утраты родного дома и мысль, что через полчаса тебя загонят в барак, откуда нет возврата. Что такое лагерь? Теплая хата или утрата навсегда ее?
Есть ощутимое волнение в душе, есть беспокойство, есть неприятная слабость в ногах, тогда садишься на лавку, а зек говорит:
— Я сюда уже третий раз, и всегда такое, б..., чувство, будто я заяц, а меня под слона загоняют...
Дед испуганно ворочает маленькими глазами: идиот, сколько прожил, и ни разу не видел слона. Слон встает перед ним большущим домом, и зек двигает на груди анемичными руками.
— Гаварят, когда-то здесь была широкая железная дорога, но эти заборы с двух сторон, б..., так сдавили ее, шо ана стала узкой...
Тогда чувствуешь, как давят отовсюду высокие серые заборы, чувствуешь, как сходятся в вагоны стены, потом всё суживается еще больше, слышу, как дедовы анемичные руки двигаются неприятно на груди, и тогда я вижу ворота — мы вылетаем из них, как из катапульты, — чувствуем впереди простор, облегчение, сзади кто-то толкается, напирает, я оглядываюсь и вижу закрытые ворота, я вижу засовы и замки, я вижу вверху надпись: «На свободу с чистой совестью». Черным и синим. Явас.
■
Мне сказали: «Тут вы будете спать, вот ваша тумбочка, постель в каптерке.» — Мне подумалось: коптят, закопченная постель.
— Откуда, земляк? Сколько?
Я говорю:
— Два, — я говорю, — из Львова.
От меня еще не успели отойти, как я услышал:
— Два года? Он шо, дурака валяет? Политический — и два года? Практикант, наверно, знаем таких!
Нас ведут в каптерку. Бегут зеки. Геврич шепотом, — надзиратель сзади, — он шепотом.
— Давай свитер, белье, берет, там все отберут!
Я вытаскиваю свое барахло. Ярослав поспешно прячет под полу хебе.
— Атайди, сука! — кричит надзиратель, — шизо палучишь!
— Обувь давай, — говорит Геврич.
Я натягиваю пилотку с козырьком. Она надвигается на глаза.
— Бывший бериевец, — говорит кто-то.
Тот, с бородкою, слегка медлительный, подал еще одну пилотку.
— Он чувствует себя тут, как дома. Но дома ему нечего делать.
Михайло Сорока жмет мне руку. Он флегматичный, улыбающийся.
— Как там. на воле? — спрашивает, — Что нового?
Новостей никаких, но ему все равно интересно.
— Практикант, — говорит он, — это сексот, но вы привыкайте ко всему.
Меня поражает атмосфера лагеря, их несколько, этих атмосфер: атмосфера философской задумчивости (можно писать на полотне высокие мудрые чела, а ниже — мудрые очи), атмосфера покоя (лагерные голуби и те редко летают, а если и летают, то никуда не спешат), атмосфера изысканной интеллигентности (если и ругается кто-то, то главным образом «щурики», надзиратели да бывшие бытовики), атмосфера чистоты (вокруг цветы, прометённые деревянные тротуары, деревья, это признак не только чистоты территории, но и духовности), атмосфера индивидуальности (каждый имеет свой мир и в нем живет, и требует к себе, как к творцу, взаимного уважения), а вот атмосфера перепугу, верноподданничества (начальству), подлости (чисто человеческой), самонивелирования, замкнутости и пренебрежительного одиночества.
Человека в жизни что-то радует, это так называемое кино, культпоходы бригадою в музей, это театр, жена, дети, друзья, ресторан. Это так называемый замкнутый круг быта. В лагере он тоже существует, но, уже идеализированный, он далек от обычного материализма, поскольку основан не на бытии, а на сознании. Это так называемая реализация человеческой фантазии, людского представления о вещах. Человек живет над вещами, пока неожиданно не начинает видеть их над собой. Вот это «неожиданное» и есть мир, в котором может жить один человек. Вселенная другого — катастрофа, потопа нет, но есть катастрофа. Тот, кто сумел утвердить в себе этот мир, тот переживет все беды лагерного заключения, сбережет здоровье духа и мысли.
Например, я иду. Около тротуара — коты. Вот зек склонился над одним из них, — пусть это будет серый кот, — и щекочет его травинкой. Он щекочет его час, другой, третий. Потом отбой. Он ложится спать и мысленно щекочет кота дальше... Другой отпустил бороду, на фоне бороды умные глаза, — он идет, а ну-ка спросите его: вот об этой бороде!..
Во дворе зеки. Встречаете одного, что все время ходит с завернутым голенищем. Издалека смешно, вблизи — смуглый мужчина с тонкими полосками усиков. Он поглаживает их, лукаво усмехается. Такой знает на память всего Шекспира, и не будет возражать вам, если скажете, что Шекспир — пустое место. Он лишь лукаво усмехнется и пойдет дальше. И тогда увидете, как вы смешны на фоне его сапог, его завернутой халявы. Это Русин, Иван Русин, инженер из Киева. Он получил за статью «По поводу процесса над Погружальским» (нашли во время обыска) год лагерного заключения, всем говорит, что получил пять. Ему стыдно перед двадцатипятилетниками. Он знает, что когда изобрели письмо, Сократ страшно возмущался, Сократ сказал, что это гибель цивилизации и человеческого разума — переносить мысли на бумагу. Он уважал Сократа: если бы мир пошел за Сократом, теперь не сажали бы на несколько лет за статью «По поводу процесса над Погружальским». Но он выше всего этого. Он знает, что если бы не было письма, даже болтовни, людей все равно сажали бы на несколько лет.
Он отходит, и вы невольно видите, как вы смешны на фоне его халяв...
Лосев из Нежина, украинец с длинными козацкими усами, в свободную минуту кормит голубей. Голуби воркуют на крыше уборной, голуби не боятся зеков, они сидят, дремлют и настойчиво выжидают, когда Лосев из Нежина будет кормить их клейким хлебом из зековских пайков. Лосев из Нежина и спал бы на уборной среди голубей, но за это — шизо, и поэтому он спит в душном бараке, на твердой койке и свистит во сне, скликая на землю голубей и пугая заключенных. Через несколько дней Лосева выпустят; он отбыл свои 24 прокрустовых года, и вот его выпускают, с этой радости он накупил черного кофе и три дня будет поить им заключенных машинного цеха...
Иван Алексеевич Герега прожил такую длинную жизнь, что знает ее не хуже ясновидцев. Правда, наперед он не может предугадать каких-то существенных изменений, но уверенно знает одно: за цветы еще не сажали. Он советует мне (он тоже из Львова), называет сорта цветов, водит меня по своему участку. Его уважают не по газетному, а по лагерному, даже начальство: Гереге скучно среди зеков и колючей проволоки, и он прячет глаза в цветы; его минует шизо, и повар на свой риск отваживается на добавку. Герега вырастил подсолнух — это единственная греза Украины, и он рад этому, как изобретению, но скрывает даже от самого себя. Михайло Коцюбинский привез впервые из Италии гвоздики, Иван Герега впервые вывел в мордовских лагерях украинский подсолнух. Он, как какая-то важная особа, высоко закинул исполинскую шляпу (шестьдесят сантиметров в диаметре) на толстой шее и повис над бараками с колючим ограждением. Когда мимо проходит латвийский поэт Кнут Скуениекс, Герега не выдерживает и загораживает ему дорогу:
— Как вам нравится мой подсолнух?
Тогда Кнут осматривает, будто впервые, подсолнух и говорит:
— Вы знаете, ничего. Но вашему произведению не хватает реализма, вырастите на нем еще веревку с петлей...
■
Скифские рисунки на скалах... Эти рисунки — чьи-то школярские упражнения: кони, воины, копья, волы. Но есть еще такое — летают птицы, большие птицы на куске скалы. Птицы маленькие, а видят их непомерно большими. Какая-то школярская тайна, ее невозможно постичь мозгом учителя. Учителя отступают назад, шаг, другой, наконец, выходят из пещеры и смущенно усмехаются. А потом забрасывают за шкафы учительские конспекты и ложатся вверх лицом на кровать. Учителя лежат день, другой, они не хотят больше учить тех пакостных учеников, что набили на маленькой скале большую птицу. «Но, будь они неладны, эти ученики...» Учителя хворают.. Они хворают день, второй и, может быть, умрут, так и не отгадав тайны: большое на малом... А лотом они побежат по склону вниз и замахают руками. Если прислушаться, можно услышать крик. То крик удивления. Больные кричат..
Я всегда подходил к Михаилу Михайловичу сзади: я хотел первым поздороваться с ним. Это была и его хитрость
— здороваться первым. Но он внезапно выныривал откуда-то сбоку, — это тоже надо уметь. Он любил склон над стадионом и беседку на нем. Там росли цветы Гереги, а еще
— березка. Березка была лагерная. Я был тогда смешным и склонным к аналогиям. Я ясно видел склон и на нем учителей, которые так и не раскрыли тайну школярской птицы.
«Михайло Михайлович, — думал я, — Иногда мы восторгаемся чем-то и не знаем даже, почему». Я обходил его сзади и здоровался первым. Он удивленно поднимал глаза и хитро жмурил их.
— Как поживает ваш сверлильно-долбильный станок? Уже обставили шипорезный Даниеля?
«Михайло Михайлович,» — думал я. У него очень ясные глаза, их первыми видишь на лице. А потом, когда он идет по снегу, никогда не скользит. За двадцать восем лагерных зим он научился ходить ровно и правильно ставить ноги. Он скептик. И больше — скептик-йог. Он усовершенствовал в себе все, даже ум. Он заморозил его выше обычной серой будничности. Скажите ему, что завтра в девять откроют ворота и всех — к чертовой матери!
— Да, да, — скажет он, — разумеется! — и хитро прижмурит глаза.
Он ни во что не верит, этот атеист, который над всем стоит, опираясь на папку скептицизма. Можно его таким увидеть и побежать от него, как учителя по склону.
«Михайло Михайлович», — думал я. Его невозможно разгадать. Лишь упадешь на койку, закроешь глаза и — ярко: большая птица на маленькой скале. Йоги... Учение не лагерное, но в лагере без него не выживешь. Десять лет йоговских упражнений, десять лет отчуждения: цветы живут местами, ум — там, а тело на другом берегу. Можно их сместить в одно. Это тоже йоги. Йоги и десятки выхваченных от смерти лет. Есть неудержимое желание выжить и выйти на волю. Двадцать восемь лет лагерей и тюрем.
«Михайло Михайлович», — думал я. Пять пет польской дефензивы.[5] А потом — другое, невыразимо родное. Итого — двадцать восемь. Я имел два года и иногда чуть не сходил с ума. Я был учителем, бежал по склону: как? Столько прожить на баланде? Я ужасался сроку. Где-то тут была большая птица и маленькая скала. Я ясно видел это, стоило мне закрыть вечером глаза.
А потом еще судьба. Жена — Екатерина Зарицкая, девятнадцать лет лагерей. Сейчас она во Владимирской тюрьме. Она тоже выжила. К ним время от времени приезжает сын. Он художник, вырос без родителей.
«Михайло Михайлович», — думал я. Он на месяц забывает о своих йогах, когда получает от сына весть. Он ходит и всем улыбается. Он забывает о своем скептицизме и становится разговорчивым, даже слишком. Он рассказывает о своих встречах с поэтом Олесем, он читает его стихи, это было в Праге, в старинном кабачке. Там они пили плзенское пиво, и там теперь установлена мемориальная доска над столиком, где сидел великий Олесь.
Теперь иногда Сороку вызывают в Киев или Львов. Они натягивают на него черный смокинг и ведут в театр. Он смотрит Корнейчуковы «Страницы дневника». Его ведут в институт кибернетики, где седоволосые профессора жмут ему руку и знакомят с наукою. Тогда Михаил Михайлович смеется
— Они жмут руку, — говорит он, — и не знают, что это рука зека. Они забыли бы про свои науки, если бы дознались, что это за «канадец».
Его водили по Львову элегантно одетые мужчины. Он все вспоминал и ему было больно. Это было не знакомство с прекрасной жизнью, а издевательство: ему бросали в глаза, что он может не увидеть всего этого, а может и... Его выбор. Это страшно — двадцать лет не ходить тротуаром и не дышать человеческими запахами. Он состарился, отвык, и все это сейчас утомляет. Радость старит его.
«Не молодеет светлым лицом», — думал я.
А когда он медленно успокаивается, отходит назад за свою маленькую скалу, он снова опирается на палку скептицизма. Тогда он снова заходит сбоку и здоровается первым. Тогда он снова хитро жмурит глаза. Тогда он рассказывает, что его уже раз расстреливали. Несколько месяцев он ждал исполнения приговора и представлял себе изрешеченные грудь и стены: вояки не всегда попадают в тело. И еще вспоминал сына Богдана. А потом ему хотелось, чтоб все изменилось, чтоб день начиналося не с утра, а с вечера, это на одно мгновение, тогда можно было бы увидеть свою смерть и знать наперед, чего ждать, так легче жить. Ему представлялось, как целыми ночами пришивает на пиджак сына оторванные пуговицы.
«Михайло Михайлович,» — думал я. Он знает несколько иностранных языков, он прекрасно знает современную литературу и даже имеет своих любимых писателей.
— Их можно посчитать на пальцах одной руки, — говорит он и поднимает тогда вверх руку. — Мир не стоит этой руки, — говорит он. Он показывает ее каждому и говорит, что вечный круговорот мира не стоит одной неизменной руки, которая держит ложку баланды. Даже творец мира стоит растерянный и пожимает плечами. Этот Эйнштейн говорит: «В мире все так сложно, что я изобрел теорию относительности и не в состоянии сказать, что это такое»...
■
Я попал в машинный. Меня предупреждали против него, но зек не решает тут своей судьбы. Простоять целую смену за сверлильным. Выбивали пазы для кресел. Мне кричали: «Дадим стране больше качественных дырок для задних ножек!» Грохот был неимоверный. И в ушах грохотало, как грохочет, когда рядом проходит поезд. Норма: триста двадцать задних ножек, пятьсот шестьдесят передних. Нормы не получалось. Мастер кричал:
— Давай дырки, или получишь шизо!
Шизо тоже не было.
— Ты счастливый, — говорил «большой писатель с мировым именем» Даниель, как иронизировал мастер. Даниель обрезает царги на шипорезном, рядом.
— Ты счастливый, с тобой можно сачковать.
Мы идем. Прокрадываемся в сушильню. Залезаем на верх деталей, которые заканчиваются под самым потолком.
— Ты знаешь, — говорит он, — я люблю свой шипорезный, — царгу вперед, царгу назад — рифма. Десять царг — десять рифм. Производственные рифмы, — ты послушай...
Ему можно позавидовать. Ко мне рифмы не идут.
— Ты бросай свой сверлильный, получишь за это, как я, шизо, а потом прозводственно-рифмующий шипорезный.
Надзиратель вылезает из-за возка:
— Шо, Даниель, опять греем антисоветскую задницу? Ану, кончай доить козу! Слазь!
Уже обед и мы идем в столовую. Очередь немилосердна. На стене объявление: «Кто нашел ложку, прошу передать в третий сборочный. Раб Задорожный».
Пока получишь щи, можно прочитать Дрозда. Достаточно пройтись глазами по нескольким абзацам, как возбуждается аппетит. Подходит Кнут:
— Что, молодую столовскую прозу изучаешь?
— Она высококалорийна, — говорю.
— Тогда не забудь кинуть эти калории в «щи», смотришь — и потолстеешь.
Кто-то ругается, но это уже не касается Дрозда. То есть, повара.
— Апять, суки, гнилую капусту в...
— Имейте в виду, — говорит ингуш Али Хашагульгов, — у зека не должна упасть на землю ни одна крошка хлеба!
И он держит свой хлеб над миской, как ребенок.
Кто-то крошил петрушку — зелень облагораживает постные, как кирза, «щи». Кто-то доливает подсолнечное масло или комбижир. Райская жизнь.
— Мы идем в Гайд-парк, — говорит Шухевич.
Высокий, сутуловатый, в очках — Шухевич. Его отец был одним из руководителей движения УПА. За отца Юрий с четырнадцати лет сидит в лагерях строгого режима, уже девятнадцатый год. Отец говорил ему: — Мы проиграли движение. — Отец говорил ему: — Ты расти, еще не известно, что выпадает на твою долю.
— Мы идем в Гайд-парк, — говорит Шухевич.
Это небольшая поляна между вторым и третьим сборочными цехами. Там есть тополя, березы, высокая трава и фанерные помосты, на которых загорают «позорные тела зеков». Это лето на диво выдалось чудесным, и наши животы блаженствуют. Надзиратели бегают с одного края в другой, надзиратели кричат во время обеденного перерыва:
— Штаны не снимать, загорать только до пояса!
Когда прогудит гудок, надзиратели кричат:
— По рабочим местами, мандавошки! Ты шо, Шухевич, на шизо прешь? Не насиделся ишо?
Юрко небрежно закидывает «хебе» на плечи, он идет вперевалку, ему некуда спешить.
— Если бы ты был порядочным человеком, ты бы давно загорал в Крыму и партачил баб, а так ваняешь здесь!
Надзиратель прав, если бы Юрко отрекся от своего отца, он давно бы был в Крыму.
— Отойди, негодник, — говорит Юрко, — Отойди, а то припишу тебя в мавзолее!..
«Девять грамм». Девять грамм — это Василь Якубяк. Девять грамм — это пуля, которая ждет его вместо свободы. Это тогда, когда он отбудет свои двадцать пять. Редкостная предупредительность к людям. Усердию может позавидовать собес. Такие люди никогда ничего не имеют, кроме своих рук. Они все раздают. Василь Якубяк. Он машет издалека рукой.
— Сегодня Петра и Павла, — говорит он.
Павло Рожко — за Павла. За Петра — мордатый зек.
Человек десять. Кто-то открывает небольшой бидончик с лачком — это единственный алкоголь, которым можно разжиться в лагере. Желаем здоровья. Лачок крепкий, селедки, на которые в будни не можешь смотреть, теперь за Божьи грибы.
— У Михайла Зеленчука крепче, — говорит кто-то. — У него чище.
Берут пол-литра спиртового лаку, доливают пол-литра воды, потом наливают что-то на вату и сбивают. Вата очищает спирт от лака. Если дать отстояться еще две недели, и процедить сквозь вату, будет Зеленчукова.
Зеки веселы, поют тихо, балагурят. Надзиратель заметит — шизо. Мастера лавируют, их угощают. Бывает, напиваются и ходят по крыше, как под четырьмя ветрами.
— Мастер, что делать? Заготовка передней ножки вышла?
— Сколько до конца? Три часа? Бей клопов!
Но тогда следует опасаться надзирателя. Шизо. На работе трудно заметить, что ты под градусом — всех шатает. Мука — пройти через вахту. Шмон, тебя ощупывают, а ты не дыши.
— А, сука, нализался. Атайди, б..., в сторону!.. Шизо...
Бараки, проволочные ограждения, на которых торчат
постные лица часовых и горделивые автоматы, — все до невозможности опостылело. Человеку хочется простора. Возле третьего сборочного, около путей — гора колод. Можно забраться туда и видеть все то, что держит тебя в ежовых рукавицах. Впереди речка Яваска, зеленый берег и молодежь. Женщины купаются. Тело купальщиц. И зек перестает дышать... Зек задыхается в папиросном дыму.
— Кончай, сука, е... глазами вольных!
Но зек не слышит, зек на речке, он жмурит глаза и курит папиросу за папиросой. Зек извелся бы совсем, если бы не надзиратель. Он швыряет в зека доской, и тогда зек недовольно ругается и слезает с другой стороны «объекта».
— Палавой гангстер! Падло! — кричит вслед надзиратель.
— Дурень, — сопит Иван Станислав, — я совсем не смотреть туда пазил, просто покурил минуту на свежем воздухе.
Зек зеку не ровня. Зеки хлопают глазами и подсмеиваются над ним. А это аспирант московского института лесного хозяйства толкает перед собой возок с деталями. Досиживает четвертый год. Он толкает возок и думает о теории относительности Эйнштейна. Он не знает, читал ли Эйнштейн Библию. В Библии его теория относительности была открыта много тысяч лет тому назад: «И будет минута вечностью и вечность минутой». Так в Библии. Мы ничто. Где-то в других галактиках есть свое скрытое движение. Наша земля, наши заботы, наши войны, наши лагеря, наша мгновенная погибель. Мы устанавливаем законы. Законы — это унижение природы. Толкнитесь с ними в физику высоких скоростей. Там вы сами будете смеяться над своими законами, в которые слепо верили до сих пор. Тут вы ничего нового не откроете. Со своими устаревшими законами. Тут вы лишь открываете свою никчемность. Только случай, слепой случай, не предусмотренный ни одним законом, может помочь вам что-то открыть в физике высоких скоростей. Так называемый здравый смысл не подходит для понимания атомной физики, процессов, которые совершаются на высоких скоростях. Новая эра в физике. Современное общественное развитие — это тоже высокие скорости атомных процессов. И нечего в нем городить рамки и противоестественные законы. С ними тут ничего, кроме анахронизма, не откроешь. Необходимо все щупать...
Есть еще Мессинг, Есть еще секрет ясновидения. Есть мир и антимир. И их нулевая граница. Мир — это развитие человека от зародыша до смерти. Антимир — это наоборот: развитие от смерти до зародыша. Мы мучимся, терзаем себя, убиваем один другого ради какой-то цели, попираем все, чтоб только достичь ее, и в то же время этот период, который еще должны пройти, уже давно отображен в антимире, и там уже давно известен конец нашей цели. Если бы все были ясновидцами, как Мессинг, и увидели бы, что нас ждет впереди, — опустили бы руки и стали ждать или кинулись бы туда, к первобытному человеку. Но заключенный всю эту бессмыслицу упрощает, заключенный думает, что если бы все были ясновидцами, то, наверное, никогда не было бы зеков, тюрем и родных советских лагерей...
■
Зек — понятие не абстрактное. Зек — понятие сугубо конкретное. Конкретное от койки до уборной. Посредине — работа, баланда, библиотека, политзанятия. Потом — мастер, надзиратель, началыник отряда, воспитатели от республиканских органов КГБ. Все это закидывает тебя в свой омут, и человек, бедный зек, мечется в нем, держась то за ложку, то за метлу, то за станок, то за спасительную ругань. Все начинает казаться тебе тошнотворным катафалком, и тогда человек хватается за пачек или чефир. Но опять таки все это скоротечно, преходяще, оно тоже стирается этим катафалком, великим и непостижимым. А потом — сторожевые вышки, сторожевые псы, которые тоже истомились по миру, как заключенные. И тогда человек вдруг начинает чувствовать бессмысленность своего существования. Кажется, как будто ничего не случилось, можно, в конце концов, выжить, но никак не можешь найти себе места. Разговоры, они тоже временны и не спасают.
Пишешь стихи. Пиши. Они серы, и от этого все вокруг становится еще серее. И тогда не сдерживаешься больше от соблазнов цвета, становишься дальтоником, и тогда красное для тебя — черное. Черно. Пропасть. Горько.
Там, за колючей проволокой, Гнилой Яр. Слышно его зловонное дыхание. Попадает в нос. Куда не ткнись. Горько. Как будто ты гниешь сам. За что? За какую вину? Тупость и сила. Один — другого. Сила, сила двуличных. Сотрут, низведут в тот Гнилой Яр за колючим ограждением. Там, дальше, могильник. Могилы под номерами. Проволока, проволока. Мертвый узник! Ты не ешь баланды и не даешь отчизне даже четверть нормы. Кресла, диваны, шкафы... А-а... Проклятье! Злоба! За что? За какую вину? Кого-то убил?
Обокрал? Обокрали тебя, теперь убивают. Ага! Чистые, козий хвост, глаза воспитателей:
— Как ты смеешь, падло?..
— Что?..
— Стрелять вас нада!..
— Что?..
Там, за сборочным, тупик. Кусочек простора около колючей проволоки. Когда-то зеки лезли на нее, они долезали до верха и оттуда издевались над миром. Мир был серьезный и стрелял. Стрелял в глаза, рот, грудь. Тогда зек грохался по ту сторону ограждений. Наконец! Волокут за ноги. Голова об камни. Кто-то кричит: «Партийные звери, человек еще жив!» Рядом собака хватает. Запоздавший. Несчастный. Натаскали на человеческое мясо, но не дают впиться в него. Горькая собачья доля. «Что вы делаете, фашисты, человек еще жив!» — «Вон, падло, пристрелю!» — «Да... вы же... везде благородия...»
Потом зек вешался. Безверие. Его находили около умывальника. Как будто умывался. А на самом деле — серая веревка и серое лицо. Волочат. За ноги. «Шош, гад, не арешь: он ещо жив?» Тот прыщ Швед. Говорят — украинец. Хотел дослужиться до генерала. Особенно любил стрелять в упор. Отведет в лес и — в упор: «На тебе, падло, твою е... Украину!» Этим Швед скрашивал себе серые лагерные будни. Дальтоник тоже. Тоже не различал ни одного цвета, кроме красного. Кровь. Кровь. Поэтому испугались его усердного садизма — сняли с работы. Кажется, при Хрущове. Ходил и всюду оплевывал его президентскую лысину...
Зек придумал тысячу тайников для кусочка стального лезвия. Зек резал, как бумагу, себе вены. Ничего. Зека спасали, и тогда зек серел еще больше. Тогда зек думал о сободе. Но не о свободе хлеба. Цианистый калий. Золото, тьфу! Трубка на крыс.
Зек тихонько встает ночью с койки и идет в уборную. Конечно, знал — за чем. И вдруг бежит назад. Не выдержал. Из туалета торчат чьи-то ноги и рядом кровь. Тупое лезвие.
Зима. Надзиратель протирает заспанные глаза:
— Зек, падло, устраивает хохмы, не дает поспать, нахал, б...! Месяцами прячет кусок стекла, а потом не высыпаешься.
Зима. Ярость. Наползает на тебя. Серость. Обыск. Смрад, от которого тошнит. Отдайте бумаги. Потом кто-то говорит: «Плюнь!»
— Ты куда, падло, плюешь? Шизо хочешь заработать?
— Тьфу, — зек идет навстречу.
Зал, как столовая. Столовая, как зал. Баланда, очереди и представители с воли. Писатель, художник, деятель науки. Сытые, довольные, наглаженные. Но теряются: командировка, понимаете... два шестьдесят на. Встают из-за. Говорят про. Зек — не идиот. Он широко раскрывает глаза, уставившись в лавку. Прирос. Зек нахально спит. Зек выставил на сцену зад. Шахматы. Мат. «Я, знаете, в «чертики,» мне легче» Где-то на сцене. Кажется, уже перевыполнили план. Кажется, уже все цветет, и нет больше пустырей. Где были пустыри, там дома. Расстраиваемся. Пятилетка. Каждый раз ближе. Деревья для висельников.
— Я благодарю представителя за встречу! — зек пробирается к сцене. Кое-где шахматы. «Чертик.» Я знаете, лучше в «чертики». Сцена. Зек тянет туда свое хилое здоровье. Зек протягивает букет.
— Я хочу подарить вам цветы, что густо выросли на родной земле.
Зек протягивает букет, запакованный в газету. Зеку благодарно жмут руку. Тогда зек развертывает букет в руках представителя власти. «Ах!» Вместо цветов — плетенка колючей проволоки. Колючий букет. Швыряют на сцену. Кто-то заталкивает под стол. Кто-то куда-то кинулся и так застыл.
— Да здравствует свободная Эстония! — кричит зек. И тогда все узнают, что зек — эстонец. Подбадривающий свист. Бунт. Кто-то кидается «чертиками». Помрачневшие надзиратели. Представитель:
— Мне бы лишь командировку заплатили...
Растерянность. Эстонца тянут в шизо. Зек вырвался.
Такое, знаете. Начальник кладет руку на. Надо бы заключенному в лоб. Жаль, «лачку» нет. Оказия! Зек имеет чем сгладить серость на день-другой-третий. Зек и на четвертый день будет рассказывать про это приключение. Такое, знаете. Когда-то за такой букет — пуля в лоб!
Тогда зек бежит в библиотеку. Зек читает. Потом забивается в свой угол. Там чья-то тень. Зек говорит: «Это я». Он узнал, что советскую собаку калорийнее кормят, чем советского зека, на собаку — 42 рубля каждый месяц, на зека — 13 рублей 80 копеек.
Зек Артунянц, молодой еще, отбывает пятый год Он пишет: «В связи с тем, что собак лучше кормят, чем заключенных, прошу перевести меня на положение собаки... Обязуюсь ходить в наморднике и даже лаять... Убедительно прошу не отказывать мне в этой последней моей человеческой просьбе». Собаки злы на зека Артунянца. Зеку пишут: «В связи с тем, что ваше заявление выполнено в антисоветском духе, по существу рассматриваться не будет». Теперь зек зол на собак...
— Я уже давно пристал бы к тому берегу, — говорит зек Евграфов. — Но еще есть надежда.
Что за надежда, кроме зека Евграфова, никто не знает. Он все знает. Можете у него спросить что-нибудь о Монте-Карло. Не знает лишь, сколько стоила до войны четвертушка водки.
Зек купил аккордеон. Но музыка не подходит зеку — столько наслышался в жизни плохого. Не дается пальцам красивая мелодия. «Но я надеюсь», — говорит он. Что за надежда, кроме зека Евграфова, никто не знает. Получил за китайцев десять лет. Тогда пустился в поэзию. Зек — поэт. Поэт из тех, что каждый день пишут по заявлению: «Прошу пересмотреть мое дело...» В разные инстанции. Около трех тысяч заявлений. Над зеком смеются, зек зеку не ровня. Тогда зек Евграфов говорит: «Должен же я как-то бороться. А что, знаете еще какой-нибудь способ?...»
Я тоже. Зек Осадчий будет бороться. Он не хуже зека Евграфова. И у него, наконец, лучший стиль.
Каллиграфический, тактичный: «Прошу вас....» Зек Осадчий напишет 6 тысяч заявлений. И ему отвечают: «Прошу сообщить з/к Осадчему, что его заявление рассмотрено прокуратурой УССР и найдено, что он осужден правильно...» Тогда зек идет тротуаром. С крыши барака ему машут руками зек Евграфов и последний прокуратор Иудеи. Вот они стали рядом и всматриваются в речку Яваску. Прокуратор Иудеи потирает нетерпеливо руки. Там купаются. Одни женщины. Толстые, как канализационные трубы. Последний прокуратор Иудеи говорит: «Эх, врезать бы ту толстушку!...»
И тогда человек спасает себя. Он хватается за цветы, подсолнечники, Гайд-парки. Потом — библиотека. Зек сидит все свободные часы за столиком и читает. Подойти к нему, он перестанет читать. Он отложит книгу и неожиданно начнет рассказывать свои мудрые сентенции. У зека пять классов, но с зеком иногда не совладать и профессорам. Зек мудрый, хотя и не седой. У зека нет времени поседеть, поскольку у него бритая голова.
Зек писатель Синявский. Можно подкараулить — что-то записывает, у него сведенные назад плечи, и он косит глазами на обе стороны. Надзирателю не подойти к нему неожиданно. Апостольская борода над книгой. Зек Синявский, зек Кнут, зек Караванский — библиоманы. Зек Караванский пишет заявления. Заявление на журналиста, что нацарапал на него фельетон. Заявление на министра высшего и среднего образования УССР за русификацию украинских вузов. Заявление на судью, который неправильно лишил его воли. Тот журналист имеет гонорар за свой потный труд. Зек Караванский получит за свои заявления три года закрытой тюрьмы во Владимире. Приезжает комиссия. «Кто, как и откуда?» Ко-мис-си-я. Пересмотрели в библиотеке книги. «Ха-ха! Достоевского читают? Толстого, Чехова, Флобера? Зеки, которые приехали сюда мучиться, ани хотят получать эстетическое наслаждение от хароших книг?» Комиссия забрала эти книги. Забрала и другие.
Зек читает Собка, зек читает Козаченка, Корнейчука, Дмитерка, Збанацкого. Зек не выдерживает, бежит в туалет и плюется: «Гады, — кричит он, — педерасты! Поотрывайте свои прокаженные руки!,.» Зек не воспитан и не читает критики. Зек напрасно плюется. «Я, падла, неграмотный и то лучше пишу! Штабисты!» Зек поэтому никогда ничего не напишет. Он так и доживет свое без гонораров и «Волг». Читай зек родную советскую критику!
Но зек не потерян, зек имеет связь с волей. Зеку идут бандероли с книгами. Это неслыханно! За всю историю лагерей зекам начали итти бандероли, письма. Идут Панасу Заливахе, Александру Мартыненко, Ярославу Гевричу, Михаилу Масютку, Михаилу Горыню, Юлию Даниелю. Из Киева, Львова, Одессы, Луцка, Харькова, Москвы. Это неслыханно — десятки бандеролей и писем! Администрация: «Шо это такое, шо это за люди присылают? Кто ани?» — «А знакомый». — «А што, как знакомый, так ему позволено нам на шею с...»
Параграфа про невыдачу нет. Есть, чтоб выдавать. Но это же демонстрация поддержки. Зеку выдавай бандероли, так зек «воспрянет духом».
— А шо ему здесь курорт, и он курортная личность?
Тогда зеку раз выдают, а пять нет. Когда получит бандероль, то она проверена с «ног до головы». «А может, крамола какая? А может, деньги пересылают тайным путем?»
Но бандероли демонстративно прибывают от Ивана и Надежды Светличных, Ивана Дзюбы, Вячеслава Черновола, Людмилы Шереметьевой, Галины Севрук, Галины и Вениамина Кушниров... После этого три точки. Иначе для зека этот список бесконечный. А во Львове, Киеве, в Москве получают назад: «Выдаче на подлежит, не положено, адресат отказался» (не адресат, а последняя почта Явас).
Письма квалифицируются. Как такие, что «поднимают дух зека», и такие, что «ничего не гаварят». Остальные приходят за несколько дней. Первые через месяц-два. Или и совсем нет. К зеку письма должны быть скупые, и главное — про погоду. Хорошее письмо, если его получат, событие общее. Если не интимное, читают все. Особенно хороши бы ли письма от Валерия Шевчука и Василия Стуса. А также от Даниелевой жены — Ларисы Богораз. В них — гражданская жизнь, литературные новости. Письма Валерия Шевчука были, как небольшие новеллы. Ими зачитывались...
Такое письмо: «Судебная повестка П — Б 1784. Народный суд Ленинского района города Львова вызывает вас на 10.30 час. 4 августа 1966 г. в деле ответчика о выселении. Секретарь. Подпись.» Такое письмо зек Осадчий получил за два дня. В нем про выселение жены из львовской квартиры. Зек волнуется, зек ходит как полоумный. Зек переживает. Тогда мусор: «Ну что ж ты, падло, теперь не прыгаешь?»
Зеку разрешают тоже писать письма. Зек не совсем обреченное существо. Два письма в месяц. У зека, как и в советской литературе, свой цензор. Зек пишет, что ему тяжело, что плохо кормят. Цензору « это не угодно», цензор запрещает такую переписку. Зек должен писать: «Дорогая мама (сестра, жена). Письмо ваше получил. Живу хорошо. Моей работой администрация довольна. Принимаю участие в общественно-полезной работе лагеря. Прикладываю все силы, чтобы администрация как можно скорее поставила вопрос об условно-досрочном освобождении. Целую. Ваш...» зек возмущается:
— Разве ж это письмо? Это ж г...
— А что ты, сука, романы сюда приехал сочинять! Иди — пописяй!
В лагере десятки молодых и уже пожилых писателей. Они тоже хотят жить литературной жизнью. Даниель:
— Мы можем составить сборник наших лагерных поэтов. Разных национальностей. Мы должны показать миру, что тут сидят совсем не бандиты и антисоветчики. Тут есть одаренные люди, талантливые, и мир должен о них знать. Сборник будет на всех языках лагерных поэтов. Грузина Заури Кабали. Ингуша Али Хашагульгова. Латыша Кнута Скуениекса. Эстонца Вальдура... Сборник красиво оформят наши художники. Панас Заливаха и другие. Мир должен знать, что тут сидят не бандиты...
Кнут Скуениекс:
— С сегодняшнего дня мы будем праздновать даты великих писателей и художников мира. Мы не хотим жить зековской жизнью: баландой, бараком и ножками от
кресел....
Был «вечер» — днем за чашкой чая. Воскресенье. Франко. 27 августа 1966 года. Воскресенье. Шота Руставели. Начало сентября 1966 года. Художник Христиан Рауд. Эстонец. И т.д. Чей писатель, тот готовит вечер. Переводятся на разные языки произведения писателя. Их читают. Желающих слушать достаточно. Желающих выступать — тоже.
Вспоминаю вечер Яна Райниса. Читают. Переводы — на украинский, вайнарский, грузинский, эстонский, русский. Чашка кофе. Мусор: «Шо за сборище?» Видит книжки, перелистывает: «Ян Райнис?» — читает, — «Шо за заграница? Националист, предатель?..» Снова мусор. Перелистывают. Кто-то: «Никакой крамолы, все издания — советские». — «Ты мне не тяпкай, сам не без глаз! Разойдись!» Все: «Не пойдем!» Тянут из-за стола крайнего. Все: «Оставьте, мы не позволим. Мы пьем кофе и отмечаем писателя, которого чтит ЮНЕСКО». Два надзирателя и около двадцати зеков. Мусор: «Жаль, что нас не больше. Вы бы понюхали, б...! Даниель, я вас хорошо знаю, вы будете отвечать за нарушение лагерного режима.» Даниель, высокий и скуластый: «Хорошо, там, где нужно будет! Когда нужно будет! Я отвечу!..»
■
Жить можно. Тут можно, как нигде. Если было когда-нибудь самое демократическое государство, так это был только лагерь. Думай, как хочешь. Говори, как хочешь. Проповедуй хоть разум воробья. Наказанного не наказывают. Кнут Скуениекс. В Латвии нет своих лагерей — вынуждены арендовать у мордвы. Посредники — русские. Кнут гладит свою рыжую бородку. Кнут успокаивающе поднимает руку: «Куда спешить?» У него вечно из башмаков торчат онучи. Он вытягивает из кармана сухарь: «Посластите губы». Кнут сушит их на батарее в цеху и смеется, когда кто-то не может разгрызть их зубами.
— Вы не зубаты, — говорит он. — С вами мне тяжело будет говорить кое-о-чем.
Его судьба смешна. Окончил Московский литературный институт имени Горького. Работал в Рижской молодежной газете. Писал стихи. А потом получил семь лет за антисоветскую националистическую пропаганду. Латвийскую. Смешно. Кнуту смешно. Он смеется над словом пропаганда. Боятся не пропаганды, боятся художника. Художник отрицает зло. Художник жаждет нового добра. Художника не понимают. И именно это непонимание порождает ярлык. Наклеили и — поезжай на «курорт». Гайд-парк и баланда. Хорошо, если выживешь...
Кнут поглаживает рыжую бородку. Это не скепсис. Человек — борец. Писатель — его проявление. Писать о том, как трамвай идет по рельсам взад-вперед и не раз в год, в гололед, сходит с них. Должен существовать другой мир, мир индивидуально созданный, который что-то несет, проповедует. Собственноручно созданная модель мира. Тебя не понимают, не понимают твоей модели, боятся ее! Тебя как можно скорее хотят где-нибудь спрятать и замучить, потому что ты несешь «анафему». Потому что ты противопоставляешь «идеальной» старой модели — новую, более идеальную.
Что такое художник? Художник — это не красиво передать, изобразить природу, заход солнца и человек на его фоне. Это — ремесленник. Художник — когда ведет сквозь природу, сквозь заход солнца человека на их фоне. Он диктатор, он уверен в своей правоте. Художник должен убегать из жизни для того, чтобы ее узнать. Должен убегать из жизни, мелочного быта, потому что быт разносит художника на куски. Художник должен, как Демосфен выколоть себе глаза, чтоб в конце концов заглянуть в середину сути, чтоб познать ее, чтоб познать истину жизни.
Нужно стоять выше всего, выше бурь и быта. Тогда увидишь горизонт того, что, может и будет твоим новым миром.
У нас боятся таких художников. Их понимают, как небезопасных, а они социально необходимы. Спустя десять-двадцать лет таких художников выносят на площадь и восторгаются ими, как героями. Кафка, Джойс, Голдинг, Достоевский... При жизни их не понимали, так как были они тем чудаком Диогеном, который уединяясь от мира, залезал в бочку и там создавал свои высокие субстанции. Но они не только отвергли старую модель мира, они создали новую, за которую теперь хватаются, как утопающий за соломинку. Имеется в виду не социальная модель, а духовная, та духовная, которой начинают жить люди несколько столетий спустя.
Кнут поглаживает рыжую бородку и говорит, что украинский Калинец — это тоже своя новая модель мира. Он создал ее на удивление спокойной и глубокой. В него можно войти и — выйти взволнованным. Можно его не понимать, но смятение не покинет тебя. Ты начинаешь чего-то доискиваться. Найдешь — счастье твое. Нет — ты отвергаешь со своей высоты питекантропа его новый мир, ты накладываешь на поэта тавро: «антик». Ты выкидываешь его из общества, а твои внуки внезапно хватаются за этот новый мир, и ты разводишь руками. Искусство должны творить художники и сами в нем хозяйничать. Когда в искусство приходит другой хозяин — догма, искусство гибнет. Искусство не терпит вмешательства невежд, искусство — дело ювелиров, не ремесленников.
«Когда входишь в литературу — чисти ботинки» — Вишня. Кнут: «Искусство творит свободный разум. Закрепощенный разум — это закрепощенный дух. Закрепощенный дух может создать лишь гениальную модель закрепощенных будней, может изобразить их рамки и решетки. Но он никогда не создаст последовательной модели мира. Модели, до понимания которой люди дойдут потом». «Поэт,... Дорогою свободы... Иди, куда ведет тебя свободный ум» — Пушкин. XIX столетие. Индия — тысячи лет тому назад. Брахмабинда: разум — причина уз и освобождения людей. Тот, кто жаждет освобождения, должен постоянно избавлять разум от предметов восприятия.
Рафалович показывает на небо и говорит, что его можно так интересно читать, как фантастику. Марс желтый, но не потому, что больна печень. Венера зеленая, но тоже не от злости. Она добра, как ленивый кот. Созвездие рыбы, но на нем нечего делать рыбакам. Кнут поглаживает в темноте рыжую бородку:
— Ну, что ж, мальчики, кому месяц, кому Венеру, а мне пора клеить фанеру.
Общество лениво и не хочет думать. Оно не понимало Герцена. Новый мир «Колокола» был для него оскорблением и бессмысленным вызовом. Дуэль? Ха-Ха! Теперь и сам царь сказал бы, что «Колокол» нужная вещь, потому что это еще сто лет назад говорил Герцен. Если сейчас появится новый «Колокол» Кнута, Кнут будет резать семь лет фанеру. Когда-нибудь скажут, что Кнут не только резал фанеру обществу, но и создал ему новую, намного интереснейшую модель. Это — песня о сохранении материи.
А пока Кнут создает новую модель, Кнут вынужден далеко от Латвии клеить фанеру и ругаться с поварами из-за того, что снова кормят гнилой капустой. Кнут должен для своей модели выжить. А чтобы выжить, хитрый Кнут выдумал себе Эвридику. Он срывается по ночам, бежит во двор. Ему кажется, что там стоит она, прекрасная и несравненная. Не та Эвридика, которую искал по всему свету мифический Орфей с кифарой в руках. Эта Эвридика новая. Она ищет своего Орфея. А он затерялся в мире и клеит фанеру. Кнут, обманутый, возвращается в барак. Кнут растерян. Кнут может не выжить. Тогда Кнут хочет перехитрить себя, хитрого. Он пишет необычную поэму про Эвридику, которая ищет Орфея. Вот она идет:
Да, я слышу тебя пред собой, Эвридика!
Везде и всегда пред собой, Эвридика!
Во веки веков — ЭВРИДИКА!
Моя речь, мои глаза, моя кифара — Эвридика!
Твой взгляд был началом,
Твой взгляд будет концом...
ЭВРИ-И-ДИ-И-КА-А...
■
Ночь и тусклый свет. Второй ярус, а с него — длинные ноги Кнута. Из-за дверей черное пятно надзирателя. Можно видеть его злые глаза. Надзиратель ждет, надзирателю надоело ждать. А Кнут всех обманет, Кнута не найдет никакая Эвридика. Просто Кнут хочет примитивно выжить.
■
Волк у ингушей женского рода. Волк — это родина, ее символ, ее знамя. Когда ингушей вывезли во время войны в Северный Казахстан, волков тоже в Вайнарских горах не стало. Волки не могли жить без ингушей, которых лишили отчизны. Волки не хотели стать знаменем для чужеземцев. Волки исчезли в горах. Они не пошли за ингушами на север. Лютый мороз, метели — остались горцы лежать на дорогах
— холодные, безвольные мертвецы. Горцы не привыкли к морозам, мороз уничтожал их, их теплую родину оставили волки, там был новый хозяин, и горцы вымирали, как мухи. Али этого не видел, ему лишь говорил отец: «Али, — говорил отец, — Али...» Больше отец не говорил ничего. Он лишь безмолвно смотрел впереди себя: «Нет волков, Али, нет!....»
А бабка с вечно раскрытым ртом? Она ступала в хату, а с нею и немой мрак. У бабки уже больше десяти лет не закрывается рот. Он зияет широкою ямой и не кричит. «Али, говорит отец. — У нас нет больше волков. Нет волков, Али».
— «Если бы у нас пересажали столько интеллигенции, как у вас на Украине только в 1965 году, то у нас не было бы уже ничего», — говорит Али. Али говорит, что их вся интеллигенция пошла не в тридцатом, немного позже...
В шестидесятом им разрешили вернуться в горы на родину. Горцы забивались в свои холодные норы и не хотели ехать. Горцы боялись, что их снова обманут, они не хотели ехать. Тогда стали ходить между ними ингуши, которые хотели иметь своих волков: «Поезжайте, горцы, — говорили они, — вас ждут волки». — «Нет у нас волков, Али, — говорил отец, — нет, Али!» Агитаторов ловили, и они куда-то навсегда пропадали. Но горцы почему-то уже поверили, горцы возвращались к себе в горы, на родину, и тогда, говорят, в горах появились волки. К ингушам пришли волки. «Нет у нас волков, — говорит старик, — нет, Али». Уже студентом Грозненского пединститута Али слышал: «Нет у нас волков, Али, нет».
Потом Али арестовали еще с одним учителем, который был старше его вдвое. За антисоветскую националистическую (ингушескую) деятельность. Али сказали, что он еще в тринадцать лет был антисоветским: написал националистическое стихотворение. Им хотели приписать организацию из двух человек. Главным хотели сделать пожилого учителя, потому что он мог влиять на молодого. «Он на меня не влиял, — сказал Али, — я на него влиял». Им дали по четыре года. «Нет у нас волков, Али, нет».
— Нас не принимают в вузы, — говорит Али, — нас боятся учить, боятся, чтоб мы что-нибудь не поняли. Народ не понимает, он боится, когда нет интеллигенции. В нашем языке нет многих слов: свобода, труд, нет слова «интеллигенция». Нас двести пятьдесят тысяч. Двухсотпятидесятитысячное стадо горцев. Оно, кажется, у Кафки ходило без голов. Горцы: когда наш народ исчезнет, высоко в горах навечно застынет скелет волка. Исполинского волка. Это будет последний волк мира. Злорадные горцы.
— Нет у нас волков, Али, нет. — Если бы я знал, что завтра умрет мой язык, я умер бы сегодня. Я не имел зла ни против какого народа, но нам много причинили горя. Я могу показать рукой на тех, кто совершил это преступление. Они ходят рядом с вами, вы их видите, у них улыбающиеся лица. Они совсем не страдают от того, что загубили тысячи.
— Нет у нас волков, Али, нет. — Мне было девятнадцать, когда забрали. Я был гордый, кроме гордости у меня ничего больше не было. Я совсем не знал, как держаться. Но позже ко мне подошел следователь и сказал: «Ты ведешь себя, сопляк, как шпион!»
— Вы имеете в виду — стойко?..
Тот старый поэт икс, всю жизнь он провел в тюрьмах, в изгнании, вдали от родных гор. Тот старый икс вернулся домой слабым, как и его народ. Он так и не написал что-либо значительное для своего народа. Он умирал и говорил: «Я так хотел вам что-то сказать, горцы, я должен был столько вам сказать, горцы». Он умер, так и не сказав больше ничего, кроме этих слов. «У нас нет волков, Али, нет...»
Али черный, как его горы, он весь мокрый. Али толкает деталь за деталью на рейсмус. Али шлифует. «Вы видите эти жилы? Может ли в них течь кровь горца? Пусть она течет у себя в горах. Ей нечего делать в океане. В чужом океане». — «Зек, подойдите!» — Зек подходит. В его лице достоинство. И мудрые глаза. Этот зек с гор. «Почему вы, заключенный, не здороваетесь?» — на него две призмы красных глаз. В них синие прожилки. Это, должно быть, с перепою. Это какая-то хищная маска. Маска жира и человеческой злобы.
Бегут. Спотыкаются. «Ваш бродь... ваш бродь... Хах, хах... иггг-ий... тов... товар... хах... хах... товарищ... иг-ги... товариш начальник Дубровлага полковник Громов...» Споткнулся — упал... Не шевелится, в глазах мольба. В глазах страх: страх: хех... хех... «В бур!.» — «За что, начальник, ттавар?... — «На вас!.. Вот ваша, заключенный, как фамилия?» — «Нет у нас волков, Али, нет» — «Вы видите эти жилы? Может ли в них течь кровь горца? Пусть она течет в горах. Ей нечего делать в океане. В чужом океане!» — «Моя? Али Хашагульгов!» — «Не Али, а заключенный Хашагульгов! Вам пять суток шизо!» — «За что, начальник?» — «Нада на другой раз здароватца с начальством!» — «Но у нас в горах приветствовать человека, значит желать ему здоровья. А я не хочу желать вам здоровья!..».
■
Наипреступнейший народ в мире — украинцы. Они самые подлые. Подойдите и посмотрите им в глаза — они подлы. В них что-то такое живет, чего стоит опасаться. Украинцев опасаются. Попробуйте не опасаться их, они сделают с вами такое, что потом сам черт не разберется. Потому что они самые заядлые в мире самостийники[6]. Это у них есть. Они очень живучи. Наступите им на хвост, они оставят его и убегут. А потом им хвост вырастет второй раз. В лагере они чувствуют себя, как дома. Украинец вывесит на березу сушить онучи. На березе нельзя сушить онучи. Они к ней не подходят. Никакой тебе красоты. Но попробуйте ему об этом сказать! Подойдет и покажет свои злодейские глаза. Ох, эти украинцы! Их тут больше всего, и поэтому они такие наглые. Они, знаете, такие невоспитанные.
Но если бы только эта беда. А то еще заядлые националисты, «щирые»; где только есть возможность, там и лезут со своим языком. Зек-русский, зек-литовец — все, знаете, ни встать, ни сесть, а что-нибудь да скажут по-украински. Если бы только зеки, а то мусор и тот говорит: гаразд, погано, лихо, добре... Через несколько лет лагерь вообще может перейти на украинский язык. Кнут говорит. Даниель говорит. Потом этот финн тоже. А знаете, даже на той Украине ни разу не был. Это уже не национализм, а явный шовинизм.
И вообще, знаете, эти украинцы никогда не были националистами, они — шовинисты и даже не скрывают этого. Но их приходится сажать за национализм, поскольку у нас еще до шовинизма не дошли. Статьи такой, знаете, нет. А когда будет, тогда, наверняка, исчезнет это слово — национализм. А то они, знаете, уже давно маскируются под него, очень уж оно выгодно для них, и вообще, чего они хотят? Хотят, что б Украина была независимой. Хорошо, сделай им «самостийную», — так они за несколько лет ассимилируют все языки, а кто не покорится, тех они всех попересажают в Мордовские лагеря... Хорошо, что народ это понимает и не допускает. А кто против воли народа прет, так тех в каталажку Пусть там себе создают, а то распоясались. Так народ свой позорить в мире! А знаете, тут присматриваются к одному, к другому, к третьему, а оно ж собака, так и несет от него...
И хитрые все такие. Вот говорят ему итти на политзанятия, чтоб перевоспитывался, стал, наконец, человеком, кто ж ему зла желает? А он по-за бараком и на стадион, в футболик поиграть. Ну ж, анафемская вера. Или упадет животом вверх в Гайд-парке! Там силенок натягивает от солнца. А, небось, станок простаивает, и задние ножки для кресел нефугованные стоят. Ты его за это в шизо, а оно отлежится там пятнадцать дней, идет, еще и румянец на щеках. Где ты у беса взял в том шизо румянец, если спишь на цементе?
И никак не могут привыкнуть к порядку. Есть совет коллектива, есть секция внутреннего порядка, культурно-воспитательная, санитарно-гигиеническая, спортивная. Гоняет, как полоумный в футбол, а чтобы в секцию поступил, да гонял от ее имени, так черта лысого. Начальник его вызывает к себе. Разговаривает, как человек с человеком, как равный с равным. Просит его, чтоб перевоспитался, чтоб осудил свои старые поступки. И что? Имел бы за это досрочное освобождение, имел бы после полугода посылку раз на четыре месяца, четыре письма писал бы на месяц. Ларек семь рублей вместо пяти. Да и начальники бы уважали. А — нет. Не может, проклятое семя, упрется, как бык, и молчит. А небось, где не нужно, то так кричит, что оглохнуть можно. А есть же ж такие, что песок из него сыплется, а еще девки не нюхал, не держался за то, за что порядочный человек может подержаться. Вышел бы, женился б — на Донбасс! В шахте мог бы работать, или в Казахстан — комбайнером. А нет — не покается. А если и покается, то можно ли его выпустить, когда покаялся лживо. А живучее ж какое. Вот сидит двадцать пять за свои делишки и выживает. Другой бы раз десять умер, а оно живет. И если бы просто жило, а то еще и на что-то надеется.
■
Это был такой приятный дедок, такой тихий и все около стенки ходил. Как идет кто-нибудь, отступит с дороги, еще и первым поздоровается. Это был такой хороший дед, что во все секции записывался. Я его хорошо помню, такого смирного. Раз он мне рассказывал, что тоже был когда-то упрямый, а потом перевоспитался и покаялся. Мог бы получать посыпки из дому, но ему никто не присылал, потому что никого не осталось из родни. Мог бы и написать четыре письма в месяс, но тоже не было кому. Мог бы и в ларьке отовариваться на семь рублей, но он уже по старости не работал и не имел денег. Начальство его очень уважало. Пересматривали даже его дело Он уже говорил мне, что скоро выйдет на волю. Я тоже с ним радовался. Да, да, — говорил я, — вы скоро увидите свободу. А он однажды взял да и умер. Мне его так было жаль. Такой смирный был дедок, приятный и так разбирался в жизни. И сразу умер, как только покаялся. Это меня так удивило. Пока не каялся — жил, покаялся — умер. Что-то тут было не чисто. Наверное, он не своей смертью умер. Я так и знал, что тут что-то не так, потому что, когда его хоронили, то даже никто не вышел деда проводить. Я один шел вдалеке, чтобы кто-нибудь начаянно не увидел, а тогда иди дознавайся, что тебе завтра встругают?..
■
Смех в раю! Можно увидеть Даниеля, как сидит около зека, и зек что-то ему рассказывает. Можно обратить внимание, как слушает, как кивает головой. Как подергивает губами. Только прячет глаза. Можно выдать свою радость и смутить зека. Смех в раю. Даниель видит перед собою кабинет, какую-то маленькую комнату. Видит окно и ищет на нем чужие лица. Даниель слушает зека и думает: смех в раю. Искать в трамвае типажи, когда они сидят рядом и говорят. Можно уразуметь по их трем словам целые романы. Зек скупой, но он рассказывает всем телом. Зек откровенный и не знает, что его всего обкрадывают. Юлий берет от него все, что может взять тот, кто любит в своих произведениях людей. Подметить, при каких словах у зека дрожат губы. Почему зек не хочет воли, почему он об этом всем говорит, когда на самом деле мечтает о ней по ночам. Почему зек такой упрямый и так легко дает себя обокрасть?
Зек тянет из чашки, зек просит рассказывать стихи. Зачем зеку стихи, когда он даже хорошо не умеет читать. Зек опирается о притолоку и слушает. Он дремлет и слушает. Стоит перестать, как он обиженно поворачивает голову. Зачем зеку стихи, если он дремлет? Зеки дают себя обокрасть. Образы, характеры. Это не лагерь преступников, а какая-то клетка с типажами. Пиши скупыми словами, и встает мир, который взволнует, который притянет и оттолкнет от себя. Достоевщина. Глубокая и правдивая. Но у зека Даниеля нет времени на размышления. Он разделся до пояса и вгоняет в шипорезный царгу. Даниель зарабатывает на баланду. Даниель должен давать норму. Если не выполнит — крик. Даниелю пахнет шизо.
К нему особое отношение. Проход в цеху. Между станками. Двоим не пройти. Один должен отступить в бок. Начальник Кравченко. Он закинул вверх самоуверенное безучастное лицо и не спеша идет проходом. Если бы он пошел налево, перед ним расступились бы станки и штабеля деталей. Начальник властный. А навстречу по этому проходу — Даниель. Три шага, два. Кто-то: «Даниель, не наступи на г...» Кравченко остановился. Он удивленно вскинул бесцветные глаза, ступил в сторону. «Ты шо, падло, в шизо захотел?» Это уже в спину Даниелю. Смех в раю. Нога за ногу. Зека стреляй, но он не пойдет быстрее — зек идет на работу. «Можно читать плакаты, — говорит Юлий, — «Собаковожатые! Будьте отличниками боевой и политической подготовки!» Еще при выходе из рабочей зоны: «Воспитание нового человека — самое главное, самое важное при переходе от социализма к коммунизму». «Даниель, пачему не даешь норму?» Даниель молчит. «Пачему не выполняешь норму?» — краснеет лицом, дрожат руки. — «Даниель!..»
— Я уже говорил неделю назад, что не буду с вами говорить до тех пор, пока вы не будете ко мне обращаться по-человечески: на «вы».
Нога за ногу. Зека стреляй, но зек не пойдет быстрее, зек идет на работу. Можно проследить за скучными лицами вольных, они ходят не далеко, за колючими ограждениями. Их лица печальны и ничего не выражают. Лицо вольного — это абстракция, которую стыдно расшифровывать. Лицо зека — это нерв на поверхности. Легонько тронуть его — поворачивается. Медленно, как и положено зеку. А через полчаса крик. Смех в раю. Можно умереть со смеху. «Даниель, что водишься с пазорными зеками? Ты ж благородный человек. Ты ж писатель. Зачем ты лезешь в душу ворам?» Повисло с левого плеча хебе. «Мне так нравится». Выходит.
Зек Даниель веселый. Он умылся и идет в столовую. Его зовут Вахта. Потом мусор: «Узнаешь?» Портрет Даниеля, написанный Романом Дужинским. «Смотри», — говорит мусор и режет на мелкие кусочки ножом. У Даниеля дрожат губы. Даниель спрятал руки в карманы, чтоб не выдать себя. Он идет по зоне, а ему кричат: «Даниель, куда лезешь на рожон?» Да, да...
Через час.
— Такое чувство, как будто резали меня, я чувствовал каждой клеткой. Я чуть не кричал, я еле сдержался, чтоб не кинуться на мусор. Я просто удивляюсь, как я смог овладеть собой, это был не я.
Он не мог работать целую смену. Он сидел в сушилке. Он говорил:
— Такое чувство, как будто тебя четвертуют, а голову все время забывают, как бы умышленно, отнять...
Даниель! Получал ли ты еще какой-нибудь гонорар за свои произведения, кроме хебе, что сейчас носишь? — «У меня течет еврейско-русская кровь, и подо мною чужая земля». — Да, да... Смех в раю. Вчерашняя истина сегодня стала пустяком, который не стоит миски баланды. Она бы умерла с голоду. «Даниель, почему не работаете, а читаете газету?» — «Нет заготовок». — «Так что тогда газету читать? А ну марш к мастеру за другой работой!» — Нога за ногу. Зека стреляй, но зек не пойдет быстрее, зек идет на работу. Вдруг лозунг: «Социалистическая демократия — высшая форма демократии». А затем: «На свободу с чистой совестью!»
— Кнут, счастье латышского народа в дружбе с великим русским народом... Извини меня за половину моей крови, пожалуйста...
Вечер. На второй сборочный он приходит позднее. Полумрак, каморки. Курящие зеки. В просвете окна — красное небо севера. В этой красоте есть что-то от мыслей сумасшедшего. «Юлик, а по сто грамм?» — Юлий поворачивает голову. — «Да, да...», — Лак — это душа благородного зека. Чефир — его выражение. Зек ищет себя в вещах. А потом не может от них избавиться. И тогда в каморку. — «Юлик, есть по сто лачку.» — Пазорные зеки! — мусор вечером спит.
Утомляются даже деревья. Зек выпьет и начинает говорить. Тогда Даниель молчит. Он делает вид, что следит за просветом на красном небе. «Ты счастливый, Юлик, Ты борешься с мусором стихами. А я же, б..., тупой, я только матом могу бороться. Я никак на стих не пойду. Ты просто, Юлька, сволочь, тебя мусор боитца!»
— Заключенный Даниель, чем это вы мажетесь?
— Это от мошки, крем «Тайга».
— А ну дайте, проверю.
Мошка кусает немилосердно. Бедная зековская доля.
— Заключенный, атдайте, слышите!
Отдать — значит, больше не видеть. Даниель становится на столик. Бежат мусоры и офицер.
— Дай посмотрю, если «Тайга» — отдам!
Юлик ступил на пол. Его сбили с ног. Кто-то в ярости бил по голове ногами. Кто-то бухал чем-то тяжелым. «На тебе, падло, ’вы’, на тебе, падло, за заступничество, это тебе инфаркт Михаила Сороки, это тебе на лечение, это тебе твое геройство!»
Даниель не кричал и не оборонялся, он лишь закрывал от ударов лицо. Его отпустили, он, как идиот, шел и усмехался.
— Они боятся, что я нажалуюсь, и им влетит. Они думают, что я буду жаловаться. — Он держал свою пораненную руку на груди.
— Они боятся, эти трусы. В них проснулся зверь, и они не могли с ним справиться. Но это было бы смешно, если бы я кому-то пожаловался. Мне больно, и я буду носить эту боль в себе. Я не хочу ее убить какой-нибудь мизерной местью. Боль тогда умрет, как умирает любовь к женщине, когда ее застаешь неожиданно в кровати с другим. Эта боль нужна мне не меньше, чем чудные зеки, что просят читать стихи и дремлют, когда им читаешь. Смех в раю. Я когда-то выйду на свободу, я не хочу выйти порожняком, я хочу перейти кому-нибудь дорогу, как с ведрами. Делаешь кого-нибудь насчастливым, когда переходишь с пустыми?
■
Иногда нары перекашиваются, перекашивается второй ярус, и зек сползает на пол. Он спит дальше, подложив под голову грязную руку. И лишь потом поднимает голову и смотрит слепо прямо перед собой. Он что-то говорит. Если прислушаться, то уже не услышишь ничего. Это фата-моргана на стене. Зек никуда не сползает, он дальше спит на койке, на своем перекошенном втором ярусе. Но его что-то беспокоит на красном фоне неба. Он подползает к краю нар и смотрит на потолок. Тускло светит лампочка. Цвета утраты. Где я?
Зек поводит кулаком по виску. Он поднимается на слабых ногах и смотрит, как они дрожат. Колени подгибаются назад, и зек деревенеет — как могут колени подгибаться назад? Почему их ничего не держит? Тогда он видит, что ноги безжизненны, что их можно скручивать в тонкие жгутики и вязать в узлы. Зек завтра не выйдет на работу, и тогда зек умрет. — Я не хочу умирать, — шепчет зек, — я выживу, выздоровею. Просто эти проклятые коленки — хороши предатели.
Семеро зеков раскладывают из газет костер посреди камеры и наливают в миску воды. И вдруг зек лезет к лампочке, зек грызет лампочку. Темно! Лишь слышен хруст.
— Я умру в этой темноте, — шепчет зек. Ярус не перекошен, и тогда зек начинает плакать. Через решетки красное небо оседает на бараки. Трое зеков вырезают из ног мясо и кладут в миску. Горят газеты, и корчится от язвы желудка обреченный зек. — «Ты все равно умрешь, завтра тебя закопают, как труп. Дай мяса, а? Тебе же все одно, как будут хоронить: с мясом или без него.» — «А мне дадите немного?»
— «Чтобы ты выжил?» — И тогда кривоногий зек падает на пол и ползет к огню: — «Я тоже хочу мяса». — Зека бьют по зубам. Зек поворачивает голову к небу и глухо воет.
Тогда зека начинают бить. Зека бьют по голове, так как у зека больше ничего не болит. А потом крик: — «Я знаю, за что мы бьем зека — зек съел мою ложку». — И тогда зек тянет зека под дверь. Зек эпилептик, зека начинает трясти. Слышно, как бессильно бьется его голова. Зек — эпилептик.
— «Что ты сделал с ним?» — кричат зеку. Зек улыбается, зек держит в руках ложку: — «Видите, она еще не успела перевариться! Я это знал», — и сразу начинает выть, подходит к окну и воет.
Гаснет огонь на полу — и это уже от утраты. Зек чувствует утрату внезапно, как предчувствуют за три дня наперед щекотание петли на шее. Тогда видит — снаружи мусор. Он бежит в каком-то направлении и тянет за собой санки с газетами. Зек закусил до крови губы: «Нужно убить мусора, — поворачивается зек, — у мусора есть газеты». — «Мусора нельзя убивать, за мусора — вышка». — Так что, нам не есть нашего мяса?» — И пораженный умолкает: на них, прямо на них мчат двое просверленных в стенке глаз — то глаза маленького, ввинченного в угол зверька, который сопротивляется. То глаза маленького зверька — зека Даниеля. Маленького, меньше, чем ржавая параша.
■
Чай замерзает за полчаса. Маленькая печь, казалось, не грела, а морозила. Александр Мартыненко срывался с нар и подходил к двери. Он гремел в неё и ругался, как могут ругаться только зеки, доведенные до отчаяния. «Гады, вы что, хотите, чтоб мы одубели?» — Тогда и я слезал с голых нар. Мы гремели, как могут греметь только зеки, которые хотят чуть-чуть согреться. Подходил заспанный мусор: — «Што-о, чаво арешь?» — «У него язва, — кричал я, — ему нужен врач, ему плохо!» — «Будя, будя». — Надзиратель отходил, и тогда становилось еще тошнее. Александр катался по нарам. Это нечеловеческая мука — приступ язвы на морозе.
Иногда приподнимался и невидящими глазами смотрел перед собой. Тогда сковывал ужас. Ночь. Мука. Холод. Язва.
Еще счастье, что нет на голове волос. Волосы бы примерзли к нарам. Волосы, примерзшие к нарам. Мы срываемся и снова гремим в дверь. Мы хотим дожить до утра. — «Гады, дайте матрац!» — «Будя, будя...» — бормочет надзиратель. Слышим, как отдаются в пустом коридоре неторопливые шаги. Потом — это уже утром — оперуполномоченный Киевского КГБ. — » Вы знаете, почему мы вас перевели с лагерного режима на тюремный?» — Мартыненко приподнимает воспаленные бессонницей глаза. — «Как нам стало известно, вы совсем не покаялись. Вы получили свои три года, и, вероятно, вам тут до того понравилось, что хотите остаться навсегда?»
Мартыненко откинулся на спинку кресла. Опер уставился на него прищуренными глазами. Опер:
— Вы можете отказываться, но нам известно, что вы и дальше придерживаетесь своих националистических взглядов и высказываете их в своем окружении.
Тогда Мартыненко:
— Я не знаю, что вам известно. Я знаю, что вы всемогучи, как манекены на витринах. Однако мне все это до лампочки. Вы скажите, почему нас замораживают в камере? Почему мне запретили давать лекарства? У меня язва желудка, вы знаете, всемогущие, что такое язва?
— Спокойно, спокойно, все выяснится...
Пока выяснялось, нам выдали два матраца: на одном спим, другим укрываемся. Мартыненко говорит, что так можно жить. Что «националисты» не такие уж и обреченные люди. Он чуть выглядывает из-под матраца, можно видеть его нос и слушать «Евгения Онегина». Он читает его на память целую ночь. Он читает по три варианта одного раздела. Я, пораженный, засыпаю. «Но вреден север для меня»... — Пушкин. Мартыненко тоже талант — иметь такую память! Всех украинских поэтов на память и всего Лермонтова. Спи, памятливый Александр.
Опер из Львова, капитан Марусенко, выбритое, симпатичное, лицо, улыбается:
— Что, немного мерзнем? Я познакомился с вашим делом. Там много неувязок, много напутано, и вообще, составлено юридически без мотивировок.
— Тогда за что меня держат? А почему вы Новиченка с собой не прихватили? Он на съезде писателей Украины выступил с такой речью, за которую я получил бы не меньше семи лет. Как-то вы интересно делите судьбу людей.
— Да, знаете, всяко бывает. Но не думайте, что те писатели такие уж и смелые. Один сделал, а остальные из кустов поглядывают, как там завтра покажет.
Он хороший человиек, этот опер, — думаю.
— Но не бойтесь, — говорю я, — тот Новиченко после своих форсов, которыми он перечеркнул целое поколение украинских писателей, может себе позволить и такое развлечение. Это такое себе, знаете, на старости лет кокетничанье с молодыми читательницами...
Капитан Марусенко подсунул лист бумаги: «Подпишите!» Читаю: «Придерживается прежних националистических убеждений и высказывает их...» Подписано начальником Дубровлага и еще кем-то. Говорю: — «Фабрика работает». «Ну если уж так хотите, я могу это зачеркнуть». Опер перечеркивает, где говорится про мои взгляды. Дописывает: «Осадчего пригласили сюда по его собственному желанию». Дает снова подписать. Пишу: «Точно такая же фабрикация, как все мое «Дело № 107»...
■
Зека трудно чем-нибудь удивить. Скажите ему с утра, что в Америке — мировая революция, он скажет: «Ну хорошо, я пошел...» Скажите зеку, что кто-то проглотил две партии шахматных фигур и запил двумя ложками. Зек поднимет глаза: — «А ложки деревянные?»... Скажите ему, что в фанерном кто-то упал в кипяток, в котором мочили колоды. Он скажет: — «Наконец, поставят перегородку». — Зека трудно чем-нибудь удивить: зек стоит и знает себе цену. Зек скептик и сам любит пошутить. Но скажите зеку, что кто-то где-то слышал про амнистию, и тут у зека начнут дрожать руки. Зек не отпустит вас, покуда не узнает про амнистию все. Кто-то сказал: — «В честь пятидесятилетия будет амнистия». — Это как будто кто-то вычитал в «Ноес Дойчлянд». Что как будто кто-то передал через родных, а тот занимает ответственную должность.
И тогда зек забывает про все: зеку не работается, зек не ест, зек тихий и очень сердечный. Даже зеки-скряги вытаскивают из тайников припрятанные сто грамм из «бачка». Зек тянет вас в клетушку:
— Слушай, а что там слышно про амнистию? Тут говорят. А я знаю? Ты пей. Слушай, а пятьдесят лет должны чем-то отметить.
Есть скептики. Эти: — «Дуй на кота в мешке». — Тогда ему: — «Ты, позорный зек, заткнись. Ты уже в свою жизнь не веришь. Это же не что-нибудь. Это же пятьдесят лет!» — Тогда скептик начинает сомневаться, и начинает сомневаться сбитый с панталыку верующий. Неразбериха. Неспроста говорят про амнистию, очевидно, будет. — «Вот парашу пустили — дочка Сталина, Аллилуева, удрала. Еще никто не знает, а зек знает. Так параша, скажи, параша?» — Где-то кто-то кому-то сказал правду. За нее — нож.
Выходит: зеку амнистия, зеку запахло свободой. Зек еле ходит. Нога за ногу. Совсем разнежился. Разузнали про число, когда будут передавать: 19 мая. Все затихло в ожидании. Уже не спрашивают, потому что — 19. Утром к брехунцам. Последние известия. Шесть ноль-ноль. Диктор: «Председатель Госбезопасности при Совете Министров СССР товарищ Семичастный освобождается от занимаемой должности».
■
Для зека нет большей радости, чем та, что приносит ему свидание с родными. Зек тогда старательно выбривает впалые щеки и чистит зубы. Зек идет в портновскую мастерскую и гладит хебе. Потом зек просит у Ивана Гереги цветы. Зек тогда садится и думает, где зашить деньги. Ему подсказывают, советуют, так как — это чай, черный кофе, сахар. Зека тогда все уважают, а зек переживает, как новорожденный. Это уже традиция. И вдруг: не к зеку приехали, а к зекам. Кто-то: «Приехал Иван Светличный из Киева». Суета. Бегают и расспрашивают все про него. Слышали и так, но дай что-нибудь почитать, говорят, талантлив, мужественный, говорят, зажали его в собачью будку, нигде не работает и живет на одних сухарях. Это же хуже, чем лагерь! «Я его уже видел, такой в шапке, около перехода стоял и смотрел».
У зеков переполох: впервые за пятьдесят лет приезжает к зекам украинский литератор. И приезжает — не как Тарас Мигаль когда-то приезжал.
Идут на работу. Нога за ногу. Зека стреляй, но зек не пойдет быстрее, к зекам приехали. Светличный стоит за проволочным ограждением. Мы подошли с Даниелем. Начали перекрикиваться. Мусор: — «Атайди, сука, шизо палучишь». — Минута. Пошли. Светличный стоит за проволочным ограждением. Ему кричат: «Алексеевич, переходите к нам, у нас лучше!» — «Пошел бы, да не пускают*» И тогда зек говорит: «Кричишь, а перед глазами не видишь колючую проволоку» Кнут: «Это ты с радости сломал старую модель мира.» Потом зек совсем растерялся: приезжает еще киевский художник Вениамин Кушнир. Это уже вызов. Кушнира забрали на вахту, обыскали и сказали: — «Немедленно убирайся вон в свой Киев!» — Не успел убраться вон Вениамин, как приезжает Надежда Светличная. Зек забыл про параши, про амнистию, зек живет свободой...
Вот наконец цветы в руках, и зек идет на вахту. К зеку приехала жена. Зека обыскивают и обыскивают его цветы. — «Вы, Осадчий, хорошо себя ведите!» Увидеть дорогого человека, забыть обо всем. Кажется, больше перед глазами нет и проволочных ограждений. Кнут: — «Это ты с радости сломал старую модель мира».
Зек живет новостями, он впитывает их, как губка воду, и сразу же забывает про них. Он их вспоминает через неделю, когда радость уляжется, и встанет на свой фундамент старый мир. Жена молчала б, и только — лишь бы смотреть. Зека радуют слова, зек не привык к тишине. Жена:
— У нас на географическом в университете случилась комедия. На истории КПСС спросили у преподавателя студенты про аресты 65 года во Львове. Преподаватель: — «Их посадили и правильно сделали, они хотели отделить Украину от СССР». Потом перешли к лекции о территориально-административном делении СССР. Дошли до пункта: «каждая республика может согласно 17 статьи Конституции СССР отделиться»... Смех. Студенты смеются, а преподаватель растерянно хлопает глазами — он ничего не понимает... Я вспомнил этот рассказ потом.
Заходит представитель КГБ Украины Геращенко: — «Что же ваш муж так упрямо не хочет возвращаться домой? Мы его выгоняем к сыну и жене, а он — не хочет», — На зека — удивленные глаза. Зек: — «О, это только маленькое
помилование. Признание так называемой своей вины». Зек никогда не был покладистым, он всегда выдумывает себе беду. Представитель: — «Стоит ему написать, и он дома». — Жена: — «Ничего, я подожду».
Ждать жене и ждать зеку. Кому тяжелее? Зека поддерживает идея духа, жену — зеково возвращение. Представитель с порога: — «Сказать на вахте, чтоб позволили вашему мужу передать передачу?» — Зек учтивый, зек и голодный учтивый. Он только боится быть смешным с ней и опускает голову. Он так и говорит: они подлые. Стоит кому-нибудь написать о помиловании, как пересмотрят зеково дело и за признание они добавят срок. До сих пор зек все протестовал, а теперь зек может сидеть с чистою совестью. Они любят поиграть на примитивных чувствах женщины. У женщины много от инстинкта обезьяны, она иногда многого не понимает, она досаждает зеку. Зек и голодный учтивый, он опускает голову.
Этот Сукноваленко еще не лезет на колючую проволоку, но от этого ему не легче. Представитель рассчитывал на инстинкт обезьяны. Он сказал его жене, что Сукноваленко выпустят, если напишет о помиловании. Зек опускает голову. «Почему?» Зек виноват? Зек получил шесть лет за то, что написал предложения, как исправить позорное состояние сельского хозяйства. Зек может его улучшать в лагере, тут еще больше упадка. Жена прервала свидание и оставила Сукноваленко. Он еще не лезет на колючее ограждение, но от этого зеку не легче: жена отреклась от него и уже три года не отвечает на письма.
«Так сказать на вахте, чтоб разрешили передачу?» Не смейте зека унижать! Он даже голый учтивый! У зека очень умные глаза и сидят они очень глубоко. Должны с ним считаться. Зек одергивает поношенное хебе, зек гордо ступает с вахты: он обойдется без посылки, баланда — тоже радость, если к ней творчески подойти...
■
Кладбищенский склеп или склеп на кладбище, слева от малой дороги. Дорожка подходит к траве и останавливается, дорожка возвращается назад. И тогда в склепе шевеленье. Спугнутая тишина. Тут такая темень, что нельзя отличить ее от тишины. Мертвец встал из гроба. —«Проклятая жизнь,— говорит мертвец. — Столько лежать и вдруг подумать о чем-нибудь». — Можно сесть на гроб и оглядываться вокруг. Знает землекоп: дорога подходит к траве и там должна повернуть назад, потому что слева склеп. Тогда закинуть руки за голову. Затаить дыхание. Сдерживать дыхание и злиться на землекопа. В груди завихрение. Слышно, как уходит тревога. Мертвец возится около гроба — кто-то выгнал из гроба мертвеца. Тогда мертвец начинает бегать по склепу. Он думает: что же это? Слышно, как где-то поворачивает дорога. Кто виноват: землекоп или трава? Кто-то возится около гроба. Кто? Это я, думает мертвец. И поспешно отходит. Он чувствует тревогу: чистое полотно, пятно сбоку и хлеб. И тогда он забивается назад, в гроб, накидывает поспешно крышку и замирает: в треснувшую крышку лезет палец луча. Вот он уперся в пол и пополз по нему. Солнечный змееныш.
Тогда приоткрывается крышка и оттуда выглядывают расплющенные глазенки: мертвец забыл про них. Смешное явление творца: две голубые полосы, что никуда не ведут. Пятно, ничего не говорящее. Но стоит поцарапать верх, как низ куда-то сползает. Тогда склеп... Зек ползет на коленках и ловит солнечного гаденыша. Он падает на него, и тогда зек понимает: зек слабый и в действительности убегает от стены. Показать его на фоне колокольни без колоколов. Пусть стоит маленьким апостолом сбоку и обозначает колокол. Пусть по нему чем-нибудь колотят, или он сам колотит. Колокольня тогда — тот же склеп, где не отличишь тишины от тьмы. Мир один, его лишь понимают по-разному. Создать ему новую модель. Пусть будет предтечей предупреждающе поднятая до груди рука. Тогда Кнут будет сползать куда-то вбок, если колокольню отрезать от него двумя голубыми полосами, которые никуда не ведут. Но навязчиво стоят перед глазами.
Прогнать где-то позади коня. Зек услышит топот и поспешно бросится влево. Он вспомнит уздечку и холм. Мой конь, подумает зек. Он побежит к коню, а на коне всадник — Георгий Победоносец с копьем. Такого не сбросишь с коня, чтоб убежать на коне. Зек поворачивает голову и тогда видит склеп. Кто там возится около гроба? Это я, думает мертвец. Сказать Василию Пидгородецкому, что он — смертник? Что две полосы, голубые, как неразрывность тьмы и тишины, отрезали его от коня? Полосы, что никуда на ведут, но держатся поля и травы? Тогда — поймать солнечного змееныша. Пусть не ползает по склепу. Упасть на него. И тогда зек видит, что в действительности убегает от стены. Показать, что она черна, чернее тишины. Показать, что на ней маленькое зарешеченное оконце. Пусть под стеною маленькое лицо — лицо, необходимое зеку. Пусть зек думает, что это он за стеною, что за окном, то вне.
Тогда — радующий образ: ясные очи Михаила Сороки. Не пишите меня в хебе, я не вечный заключенный. Он делает два шага вперед и лестницей сходит вниз. Пусть там будет речка. Но если присмотреться: две голубые полосы отсекли его от нее. Полосы, что никуда не ведут. Кто там все время возится около гроба? Это я, думает мертвец. И тогда зек Сорока видит маленькое окно с решеткой. Оно сзади, оно спереди, оно сбоку. Зек поднимает голову вверх и видит дорогу, которая уперлась в траву и поворачивает назад. Тогда зеку не нужно рисовать рук — он закрыл ими лицо...
«Вы молоды, Панас Заливаха. Ваша молодость погубит вас, как погубила многих. Ваши картины в свое время — к стенке. Я не разрешаю вам больше рисовать». — Цензор, опер. Написать их маленькими, чтоб ловили солнечного гаденыша? Чтоб почувствовали, как отступают от стенки? «Я на этот раз вам еще прощаю, я просто брошу вашу мазню под печку... А может и не надо эту картину резать, может, ее, место в Третьяковке...» Мусор, с ногами — вместо рук? Загнать вагонетку в котельню, забиться в угол, чтоб мастер кричал: — «Падлец! Заливаха!» — Вырезать на линолеуме белую женщину, которая носит черную одежду? Могут дать шизо, но это подождет. Кто там возится около гроба? Это я, думает мертвец. Зек смотрит на картину и садится. Картину нельзя смотреть стоя. Нужно сесть и сидеть так, чтобы две голубые полосы упирались в склеп. Тогда ясно чувствуешь в себе дивное волнение, а потом солнечный змееныш. Нужно его поймать, думает мертвец. Просто сесть на полу и будет видно. Нужно только не вспугнуть его, чтоб не сбежал. Можно обойти его от стены и гнать ко гробу, где может быть какой-нибудь небольшой тупик, и там поймать. А если итти прямо от гроба и на него? Нет, тогда можно нечаянно наступить. Кто там возится около гроба? Это я, подумал мертвец. Солнечный змееныш, он дремлет, но где та проклятая щелка, через которую он пробился. Кабы его подкараулить, то можно было бы схватить там. Откуда входят, туда и идут выходить. Он не минет тогда его рук, тот солнечный змееныш. Но кто там что-то бормочет? Это я, подумал мертвец. Я совсем истомлен и ни на что не гожусь. Я даже не могу все как следует обдумать. Этот солнечный змееныш. — Я должен отдохнуть, я уже успел утомиться, отвечал себе мертвец. Он оперся о гроб и влез в него. Как только спина коснулась дна. крышка упала. Мертвец подозрительно поднял голову: грохот что-то напоминал. Не может быть, подумал мертвец. Он коснулся рукой и нажал. Почувствовал, как где-то рядом колышется воздух. Это за гробом, за крышкой, подумал мертвец. Нужно лишь освободиться от крышки. И тогда мертвец узнает о своей обреченности: я не доглядел где-то: наверное там, где дорога уперлась в траву и стала поворачивать назад, за это время я успел опоздать, этого было достаточно, чтоб солнечный змееныш выскочил, и крышка закрылась... И тогда мертвец изо всей сипы надавил на веки глаз.
■
Зек перестает быть зеком, когда потеряет голову. Безголовый зек не может есть баланды, не может работать — такого зека стоит отнести на кладбище. Безногий или безрукий зек не перестает быть преступником. Пустите безногого зека домой, он не перестанет быть преступником, он выйдет на балкон и начнет делать оттуда государственные перевороты. Нет. Зек должен отсиживать свои годы и думать о кладбище. Старпер должен довериться кладбищу. Старый п... Когда приходит весна — всем становится легче: старперы не засиживаются в секциях, не нагревают вонь. Мусор проходит мимо секции и делает вид, что ничего не замечает, когда ракетчики ругаются, дерутся или тянут на двор матрацы. «У-у, гниль, реактивщики, выползают на передовую».
Старпер. Старый п... Семьдесят и больше лет. Спит с раскрытыми глазами: боится, что кто-то задушит. Когда ругается, закрывает их, чтоб придать голосу силы. Иногда, когда очень припечет солнце, зек покидает матрац и ползет, как жук. Он теряет ориентацию и очень удивляется, когда видит, что после долгих скитаний снова попадает на свой матрац. Зек убежал бы на волю, но этот проклятый матрац.
А то уже — распускаются березы. И тогда каждая из них
— смешной аист, обвешанный банками. Когда натечет сок, зеки спиваются. Мусор не запрещает такой алкоголь. Но сок не сладкий. Лучше, чем вода — березы внутри трухлявые — пить можно. Особенно Анатолий Шевчук любит. Мудрит. Когда-то принес свежий огурец. Откуда? С Иващенко вскопали за фанерным цехом маленькую грядочку и посадили редиску. Хозяин. И еще брат Валерий привезет «Золотое руно», тогда рай. Каждый: курит ли, нет ли, затягивается пахучей самокруткой.
Явасские будни. Явасский кош. От года до шести. Преимущественно «По поводу процесса над Погружальским». Из Львова, Киева, Ивано-Франковска, Луцка, Житомира... инженеры, учителя, преподаватели вузов, научные сотрудники, литераторы, рабочие, врачи... Явасский кош. Без гетмана, но каждый со сроком.
Заметьте. Все зеки тянутся к украинцам, — их тут больше всего, и все преимущественно интеллигенты.
Интеллигентов любят, если они не «суки». Можно увидеть в Явасском коше китайца, грузина, армянина, татарина, литовца, эстонца, еврея... В лагере без счета плакатов, которые призывают к дружбе. Плакаты помогают дружить зекам разных национальностей. Зеки поддерживают друг друга в беде и никогда не желают добра своим врагам. Общая доля. Общая обреченность и жажда выжить. Любой ценой. Почти пятнадцать национальностей. Как на свободе. Можно взяться за руки и пойти на черный кофе. Зеков пятнадцать национальностей, почти столько же национальностей мусоров-начальников. Они не только читают призывы к дружбе, а и старательно изображают их на щитах.
Ленинградская группа марксистов. Шесть на одиннадцатом. Ронкин, Смолкин, Йоффе, Гаенко... Были инженерами и научными сотрудниками Технологического института. Издавали журнал «Колокол». Последователи Герцена, чистые марксисты. Составили свою программу: идеальное применение теории Маркса на практике. Выступили против бюрократической верхушки. Имеют от двух до десяти. Заместитель начальника второго лагерного отделения капитан Йоффе потирает лоб: никак не может понять молодых ленинградских евреев. «Слушайте, — говорил он, — вы не имели хорошего заработка? Вы не имели что кушать?» — Тогда он подходил ближе и говорил: — «Слушайте, вот я — простой еврей, если бы не советская власть, так был бы я когда-нибудь заместителем начальника?..»
■
Этот шальной человек — смахнуть со лба пот. Не отвести взгляд, когда глаза стоят выше зала. Закинуть назад гриву волос — маленький художник, бродяга или профессор. Опереться на стол — успокаивает, когда нет оснований волноваться. Стоять против людей и говорить им: «Нет!» Не тот вид, когда за честность, это не анахронизм чувств. Сказать: «Нет!» Смотреть в глаза — пусть отводят, если вне зала маловато высокого смысла. Когда вне зала и в зале — тождество. Тождество живота и мозга. Обратный вираж. Откинуть маску и сказать: — «Нет!» Пусть бесятся. Пусть больше едят — еда успокаивает нервы. Стой около меня, не бойся, годы не помеха, мы выживем, хоть позади, впереди, у, за — стены. Духовная пища — духовная мука. За этим виражем две капли пота. Пусть прокурор извиняет: «Нет! Судьи, позади, у, из-под — извините!» «Нет!»
Приятель-адвокат, не злитесь, будете и дальше получать свою зарплату, хоть и потянулись как-то к правде и чести. На вас накричали, вас напугали улицей. Быть вам благодарным за защиту, помнить про мой долг все шесть лет? Свидетели, немного напуганные, немного — взять на себя чужую беду — лишнее. Беда человека — не беда общества. Однако беда общества — человеческая беда. Не надо. У меня есть самолюбие, самолюбие при мне, маленьком.
«Нет!» — у судей новая забота — упрямство обвиняемого, «Нет!» Вскинута вверх голова. Пронзительные, воспаленные болезнью глаза. Демон. Шевченко и мать, что бьется в закрытые ворота тюрьмы. И мать. Как иногда тяжело стоять долго с величаво закинутой вверх головой. И вдруг — маленький милый человек. Можете говорить с ним про птичек и радоваться человеческой наивности. Человек — демон и человек — невинность. Непротивление злу и непокорность заключенного, который стоит рядом и ждет потехи. Таких ненавидят. Судьи, прокуроры, следователи и... таким мстят. Получите, Михаил Масютко, шизо. Выглядывайте из-за решеток и радуйтесь Божьему миру, который за вами на стене.
Вспоминаю: у Михайла язва. Несколько грамм сахару из пайка каждого. Передать ему в шизо. Мусор: — «А ну, покажи!» — Сахар сыплется под ноги. Заключенный с красным лицом. Масютко: — «Ничего выживем и без глюкозы. Глюкозу спортсменам — пусть гоняют мяч. Там нужны силы». — Силы — зачем они заключенному? Чтоб не мог спать? Я ни в чем не виноват, и я кричу: — «Нет!».
Шесть лет лагеря за «Нет!»? И тогда поднимается прокурор, И тогда поднимается судья. И тогда поднимается мусор: — «Нет!». — «Нет!» — Зек Масютко вскидывает голову: — «Нет!» — Он видит, он в глубоком котловане. Что «нет!» летит и отскакивает от стенки, что «нет!» сворачивает в сторону, что «нет!» возвращается назад — грозным эхо. «Нет!» — мчит прямо на него. Он пятится и вдруг чувствует себя на стене, впереди и сзади, он распластался на ней — руки, ноги, голова. А перед ним мчит, или нет, подскакивает, или мчит расколотое, громоздкое, что обязательно сотрет — «нет!».
■
Осталось два месяца. Два месяца — и на свободу. Эти дни проводишь в каком-то оцепенении: два месяца и Львов, Львов, жена, сын. Зеку тогда плохо спится, все в зеке перевернулось, и зек начинает постыдно размякать, как воск. Обратитесь к нему, что-то скажите ему, и он услышит за третьим разом, — зек уединяется и уходит в другой мир — мир свободы.
Меня вызвали и сказали, чтоб собирал свои шмотки. Так рано? Я еще не отбыл своего. Зеку никто ничего не объясняет, зеку говорят: собираться в дорогу. Кто-то догадался: заканчивается срок, пересмотрят в Киеве дело и добавят еще. Два года для политического — это очень мало, но и больше пяти не дадут. Успокаивающая эрудиция.
Прощанье с друзьями. Чувствуешь себя неловко, оставляя кого-то в лагере. Такое чувство, как будто ты виноват, что выходишь на волю. Этот Василий Михайлович Левкович. Подбежал и протягивает кулек с конфетами. На пять рублей. Зек мог бы на них жить месяц. Но зек щедрый, зек никогда не думает о себе. Эти чуткие люди со своими двадцатью пятью годами лагерей... А потом лозунг: «На свободу с чистой совестью!»
Узкоколейка. Потьма. Та же камера. Но, однако, с новыми зеками. Воры в законе. Фраера. В первый день, как пошел на прогулку, прошлися по чемодану. Базарят. Недовольны: зек везет одни книги. Дальше: отдельное купе и дальняя дорога. Рузаевка. Харьков. Воспринимаешь только названия. Все куда-то плывет стороной. Двадцать дней железной дороги. Можно свихнуться от одиночества: один политический заключенный на весь вагон. Всем интересно. Зеки: — «Чувак, не спеши, кагда идешь в туалет, дай посмотреть на тебя. Антиресные вы, политические. Кукурузовод Хрущов сказал, что нет политических, а ани, вишь, катаютца по железной...»
Конвой — молодежь. Может быть, им по двадцать: — «Ты шо, на самом деле — политический?» —Двадцать минут стоит, смотрит. Впервые, что ли? — «А тебя за шо? Переворот хотел сделать?» — «Да, хотел, министром канализации стать». — «Ну я и знал, что вас просто так не садят». — И опять смотрит. Стоит около сетки и покашливает.
Эти политические молчаливы, не балуют разговорами... Наконец — Харьков. Знакомый коридор, чувствуется тот запах... «Всю Расею исколесил, а таких зверских пересылок не встречал». Овчарки, Того, «в законе», припоминаешь. Толстопузый надзиратель. «Ети мне вишни...»Такой не узнает: одни безучастные глазки на массивном камне лица. Завели к майору. — «Я ни по какому вопросу. Просто посмотрел вашу карточку и обратил внимание на вашу молодость. А потом — эти два года. Что можно совершить за эти два года? « — Я рассказываю. Он внимательно слушает и покачивает головой. Я видел улыбку, хитрую улыбку на его лице. — «Да, — сказал он, — испортили вам только жизнь, — я все понимаю. Но видите этот мундир, — он помял в пальцах гимнастерку, — да против его чести никогда не попрешь, запомните это... Да, но я верю, что в Советском Союзе вы найдете правду». — Мне особенно запало в памяти «найдете». И то, что он сказал это как-то слишком протяжно. Он вызвал надзирателя: — «Дайте Осадчему (кажется, он сказал «товарищу Осадчему») лучшую камеру на третьем этаже и выдайте постель». — На пересылках никогда не выдают постельного белья, но мне выдали.
Камера была сухой. Я сидел и читал, на пересылках не разрешают выдавать книги, но этот майор... удивительный мир людей... Их никогда не поймешь, и лишь по частям постигаешь, не подозревая, что одновременно фальсифицируешь их мир. Примитивно.
Махмед. Не помню фамилии, но знаю, казах. Был преподавателем диалектического и исторического материализма в Алма-Ате. На пятом году своей работы решил оставить университет. Он написал заявление, что его взгляды расходятся с программным толкованием предмета, который читал. Он начал искать истины в материализме, он не успокаивался и обращался к авторитетам. К авторитетам в Алма-Ате и дальше, в Москве. Там ему сказали после вежливого приема, что у Махмеда нет глубокой теоретической подготовки. Есть эрудиция, есть знания, но нет принципиального понимания глубины материализма. Махмед приехал домой, а через несколько дней его командировали на семь лет в Явасский лагерь дойти до этой глубины. И Махмед, совсем неожиданно для себя, успокоился. Он стал флегматичным зеком, его оставило творческое беспокойство, и только когда дают на ужин гнилую капусту, Махмед весь возбуждается и ругает поваров, отбрасывая основы диалектического и исторического материализма.
Или еще одна удивительная человеческая причуда. Как-то рассказывали, что крестьянин из Ивано-Франковска еще во время войны закопал у себя под конюшней танк. Около двадцати лет старательно смазывал его, чистил от грязи и ржавчины, никак не мог удержаться от искушения: работает танк или нет? Как-то не выдержал и среди ночи завел. Лишь на какое-то мгновение, но этого было достаточно, чтобы от крестьянина отобрали его танк. Крестьянина теперь тоже, конечно, ждет Явас. Такая удивительная привязанность к вещам, которую невозможно понять...
Мастер сделал на тюремном окне со двора деревянный козырек. Он мог его поставить как обычно, чтоб прикрывать нутро тюремного окна. Но он сделал иначе. Он поставил его с определенным умыслом, как ставят в комнате смеха кривые зеркала. Это можно было проследить, когда подходило солнце к вечеру. Стоило мне взглянуть на закат, как я чувствовал поразительный трепет в теле — на штукатурке отчетливо плавали замысловатые решетки, красные, как рассеченное бедро животного. Я завороженно следил за багровым месивом решеток, я ясно видел, как с них капает на пол густая красная кровь. Куда ей стекать? — подумал зек, и горечь охватила его. Решетки плачут. И тогда зек отвернулся в угол и успокоился от смеха. Зек просыпался от смеха и в полночь, когда давно уже зашло солнце.
■
Киев. Столица ветров, каштанового зелья и чудом уцелевшего Владимира с крестом на своей горе. Смотрит на Днепр, который уже не течет. Хорошо, что с крестом: покой и раздумье. Крест на раздумьи причастия. От грехов, которые лишились его. Ловить рыбу на крючек и отпускать назад в речку, пусть плавает. После крючка? Выжить после миллионов причастий? Все! Слышно, как дрожат кончики пальцев. И голубь: — «Как, приятель?» — «А, хорошо!» — «Получите письмо и новость — «Спасибо, уважаемый. Там что, утро?»
А утром — кабинет следователя. Можно сесть в кресло, закинуть ногу на ногу и не двигаться с места. Можно дремать с открытыми глазами. Зека вызывают, зек садится. Зека ни о чем не спрашивают, ведь зек не имеет своего мнения. Золотая анемия. И зек дремлет с открытыми глазами. Майор Литвин закладывает руки за спину. Поворачивает голову. Я не дремлю, я просто молчу, мне нечего говорить. Полчаса. Час. Зек нахально зевает. Не закрывая глаз. Потом вытягивает махорку и сворачивает самокрутку в два пальца. Крошки махорки на хебе. Зек старательно собирает их назад на газету. Зек — трогательный хозяин. Майор Литвин подходит ближе: — «Вы сидели в тюрьме.» Зек затягивается самокруткой и исчезает в дыму. Теперь из него проступают равнодушные глаза: зек призрак, нужно призрак сразить. — «Пожалуйста» — говорит зек. Литвин: — «Я с вами не шучу. Вы сидели в тюрьме. Вы собираете с колен крошки, а это тюрьма. Тюремные университеты Двухгодичные. После пяти собирают немного иначе. После пяти — как из нашей практики — немного другой и разум. Навыки — те-те...» — Зек сосет самокрутку. Хе-хе, приятель. Зеку говорят: — «Через несколько дней у вас заканчивается срок, и, естественно, вы страшно хотите домой. Успокойтесь, вам не пахнет домом. На вас заведено новое депо, и вас ждет новый срок». — Тогда зек исчезает в дыму. — «Вы написали заявление в Президиум Верховного Совета УССР, в котором возводите поклеп на майора Гальского». — «Он пытался меня ударить». — «Ха-ха. А вы знаете, что майор Гальский наилучший наш работник?»
Входит дородный. Старший следователь КГБ Украины. Гарбуз.[7] Потом такое воспоминание: хорошая фамилия — майор Гарбуз. — «Вы писали в своем заявлении, как будто в 1965 году репрессировали украинскую интеллигенцию. Разве вы интеллигенция? Интеллигенция — это Гончар, майор Литвин, майор Гальский... Разве нас кто-нибудь репрессировал?» — Зек затянулся цигаркой: через два года еще собирают с колен махорку, а после пяти?.. — «А вы сидели в тюрьме?»
Зеку пахнет сроком, пахнет, как этот дым. Зек ко всему привык и только не может привыкнуть к парашам на амнистию. Следователь в прокуратуре. Низенький и немножко, хе-хе, с пазцом. «Ходыть гарбуз по городу, пытается свого роду. Чи вы живы, чи здоровы, все родичи гарбузовы?..»[8]. Симпатичные ямочки на щеках. Около таких дамочки — ах, ах — увиваются. Следователь: — «Пожалуйста, посмотрите, это ваши стихи?» — «Да, мои». — «Можете прочитать их в перепечатке на машинке. Как передавали их на волю? Кому?» — Зек собирает с колен махорку. Вы сидели в тюрьме. — «Это мои стихи, мне приятно их читать напечатанными». — А кому передавал зек рукопись, то следователь должен знать без зека. — «Вы знаете, что ваши стихи использовал Вячеслав Черновол в своем письме к Шелесту?» — Откуда зек может знать такие тонкости вольной жизни. Зек собирает с колен махорку: «Вы сидели в тюрьме? Вы знакомы с Черноволом?» — «Да, это, знаете, человек...» И тогда зек затягивается самокруткой...
Этот стремительный вторник. Если изображать его, то писать частями. Каждую часть отдельно. Отдельно нос, глаза, губы, усы, руки. «Извините, мы поторопились», — говорят глаза. — «Мы еще встретимся», — говорят уши. — «Неотложные дела, понимаете», — нос. А еще — все они остроумны. Нос остроумнейший, да и глаза тоже не уступят своего. А стоит оскорбить чем-то губы, как они надуваются, и тогда усы молодцевато и воинственно топорщатся: — «Не оскорбляйте брата...» Вячеслав с женою по пояс в горных цветах. Тот стремительный вторник. — «Извините, — говорят глаза, — мы не так хороши, но зато, как мы смеемся?» — нос. О, тот нос... И русые волосы пятятся... — «Тоже почтеннейший гость, этот нос». «Обвиняемый Черновол, с какой целью вы использовали стихотворение Осадчего «Мемориальная доска на кресте» в своем заявлении? Что вы имели в виду? Как вы поняли это стихотворение? Не подразумевали ли вы следователей Осадчего?»
Черновол: — «Нет. Я думал, что Осадчий ведет речь про западно-немецких империалистов». — «А чем вы можете доказать?» — «А у нас не ставят на могилах крестов, а тумбы со звездочками. Крест ставят только за границей...» — «Ох, какой остроумный этот нос», — шепчут глаза. «Подсудимый Черновол, как вы успели за такое короткое время написать пять томов крамолы?» — Нос: — «Это, знаете, мое хобби». — Прокурор, (просмотрев энциклопедию), после перерыва судебного заседания: — «Я вам не Ивано-Франковский прокурор, которого обвели на «ватре»[9], я знаю, что хобби — это любимое занятие. Веки лукаво опускаются на глаза. И посмеиваются. Черноволова рука: — «Авторитетная научная экспертиза в составе весьма ученых Здоровеги, Маховского, Ящука, Кибальчика... глубоко проанализировав графическое расположение текста документов, которые ходили по рукам, а также некоторых художественных произведений, написанных Михаилом Масютком, пришла к единоправдивому, не подлежащему опровержению, выводу: как в одних, так и в других рукописях каждое предложение начинается с большой буквы и заканчивается точкой. Отсюда: безусловно, после такого единства, которое ими совместно было проявлено, выходит — все произведения, что ходили по рукам, писал Михаил Масютко...»
Ох, эти кокетливые губы, кто знает, что изображают из себя, большие барыни. И волосы оскорбленно пятятся со лба. И тогда удивленно подскакивают вверх брови: — «Что-то говорит нам прокурор...» Последнее слово. Черновол встает и говорит:
— Ленин писал, что в нашей стране каждая кухарка может управлять государством. Я хотел удостовериться в этом. Что из этого вышло, — граждане судьи сейчас уведомят нас.
Тогда усы подергиваются вкрадчивой усмешкой: так смеялись казаки — «вин сьому выпивши осьмуху».[10] И тогда пенсионер, которого обязал собез непременно присутствовать на судебном заседании, не удержался. Пенсионер из зала суда сначала кричал: — «Пазор, пазор, до ручки дошли, Черновол!» — А под конец, после последнего слова: — «Нет, что ни гаварите, этому Черноволу только в Совете Министров работать». — «Вы што гаварите. и не стыдно?» — из зала: «Нет, я сам все увидел, этому Черноволу только в аппарате Совета Министров работать!»
Этот стремительный вторник. Если изображать его, то следует класть на полотно кажую часть отдельно. Отдельно нос, губы, усы, брови, руки... Там они будут существовать совершенно разумно, как демоны, и в каждой из них узнаете Вячеслава Черновола...
Зека отпускают домой. Можно бы продохнуть — наконец. Зек тянет за собой дистрофический чемодан, набитый книгами, и идет к выходу. Зек чувствует, как за ним хлопает дверь, как забегают наперед чьи-то поспешные взгляды, которые не имеют своего назначения, а существуют лишь для оправданий заключенного.
Припомнить — Явас, узкоколейка: — «Эти заборы, это ани так сдавили широкую железную дорогу, шо ана стала узкой...» — Слышно, как что-то упирается в плечи и вытискивает в дверь. «Дай Бог здоровья!» — как будто бы вкрадчиво, и как будто бы не голос. Определенно — шаги. Чьи? — Это мои, — думает зек. — Они сзади и спереди меня. Сбоку и сверху. Парадная дверь, если не проскочить, затолкнет своей громадиной назад. Тогда не выпустят больше, и никто не поверит, что затолкнула назад дверь. Посадят снова. Скажут: «Нахально оставил камеру». И так далее.
Зек поспешно ступает на тротуар и сразу чувствует себя неуверенно: тротуар куда-то уплывает из-под ног. За два года мир стал величавым и пополнел, как женщина, он наклоняется, и трамвай бежит, и дома раскачиваются. Это свобода, думает зек. Но он склонен молчать. Он думает про склеп на кладбище, думает о беспризорном кладбище, которое вытеснили за город дома. Зек делает шаг, другой. Зек привык ходить, он больше ходил, чем стоял, но под зеком снова ползет тротуар: там, позади, лагерь, впереди — друзья, везде люди, но почему так уплывает из-под ног неустойчивый, обычный каменный тротуар?..
Львов. Март — май 1968
Сейчас, когда русскоязычный читатель открывает «Бельмо», автор его, Михайло Григорьевич Осадчий вновь находится за решеткой. Январский вихрь 1972 года подхватил и унес его вместе со многими другими лучшими представителями украинской интеллигенции — писателями, поэтами, художниками, учеными. В течение двух-трех дней, 12-14 января, вместе с Осадчим были схвачены Василь Стус и Иван Светличный, Славко Черновол и Леонид Плющ, Олесь Сергиенко и Данило Шумук, Евген Сверстюк и Микола Плахотнюк, Иван Гель и Стефа Шабатура, Ирина Стасив-Калинець и Василь Романюк и многие, многие другие. Не случайно день 12 января заключенные-украинцы политических лагерей ежегодно отмечают теперь как день скорби, день протеста: коллективными голодовками.
Первый раз «Архипелаг ГУЛаг» лишь куснул Михаила Осадчого (два года — это по советским меркам «детский срок», только нетренированный западный человек ужаснется: два года за найденную дома статью!). Зато во второй раз он заглотил его по-настоящему: 7 лет лагерей и 3 года ссылки. Свои 7 лагерных лет Осадчий целиком пробыл в Сосновке — лагере особого режима. Владимирская тюрьма миновала Михаила (сообщения о его переводе туда оказались неверными), но Сосновка — похуже Владимира. Я не буду писать о ней здесь — это место ныне стало всемирно знаменитым по дневникам Эдуарда Кузнецова. Там заключенные задыхаются свинцовой пылью, шлифуя хрустальные подвески для люстр, быть может, кто знает, идущих на экспорт.
Но для художника, пишущего «Бельмо» — все это еще впереди. Он еще не знает, что его ждет, но, возможно, уже предчувствует, ибо два года «исправительно-трудового» лагеря действительно исправили его. Из наивного молодого человека, еще в тюрьме называвшего себя «молодым коммунистом», лагерь воспитал борца. Он «очистил его от веры в самую примитивную порядочность и справедливость» советского суда, советского строя.
«Бельмо» — это как раз об этих двух годах. О том, как сползала с глаз катаракта иллюзий.
Я не имел чести лично встречаться с Михаилом Осадчим. Мои пять «мордовских» лет не совпали с его двумя. Они, правда, точно совпали с его вторыми семью, но тогда мы уже были в лагерях разных режимов и встретиться не пришлось.
Да и самого лагеря, описываемого в «Бельме» — «одиннадцатого» — в мое время уже не существовало как политического: его отдали уголовникам. «Политики» были сконцентрированы на «девятнадцатом», на «тройке», да на «малом семнадцатом» (сейчас нет уж и его). Да еще появились не существовавшие во времена «Бельма» пермские лагеря. И тем не менее, каждая деталь, каждый оттенок описываемого Осадчим так знакомы, как будто это не его воспоминания, а твои собственные.
Предельная точность прозы Осадчего поражает — от мелочей повседневности — ритуала распития «чифира» или лагерных котов вдоль дорожек, до глубокого проникновения в самую суть современного советского «исправительно-трудового» лагеря: рассчитанной цели превратить зэка из мыслящего индивидуума в выхолощенный тупой придаток к сверлильному или фрезерному станку, придаток, которому усталость и постоянная мечта о «пайке» не оставляет уже сил и времени на мысль. «Пазы для задних ножек» у Осадчего, «футляры для кукушек» — у нас, но назначение у них едино. И чтобы ничто не мешало этому процессу умерщвления духа — убрать последнюю тому помеху: печатное слово. Когда я читал страницы Осадчего об уничтожении лагерных библиотек, перед глазами у меня стояли короткопалые руки «нашего» майора Чекмарева, выгребающего книги из моей тумбочки: «вы сюда не просвещаться приехали».
Книга, которую вы сейчас прочитали, — сама свидетельство того, что этой своей цепи ныне лагерь уже не достигает, и что выхолостить душу политзэка сейчас уже почти невозможно. С Осадчим этого не сделали ни первые два года, ни последующие семь. Да и не с ним одним... Я помню бледное лицо Василя Стуса, видное сквозь решетку светового кармана камеры БУРа, расположенной напротив моей. Стус читает свои стихи — еще и еще — а потом переводы израильских и французских поэтов, а я завороженно его слушаю. Идет седьмой день нашей с ним голодовки, и я знаю, что Василь корчится от болей в желудке (у него застарелая язва). Лечения в карцере «не положено». Василь лечится стихами...
Ничего или почти ничего не сути не изменилось со времени «Бельма», это и понятно: «медленно роет старый крот». Но озноб пробирает по коже, когда на этих страницах, которые должны были бы уже стать историей, встречаешь не только тот же быт, но и то же лица, с которыми потом сам делил заключение. Роман Семенюк, встреченный Осадчим на этапе — ведь это он передал мне первый карцерный тайный «подогрев» — ломоть хлеба в мой первый в жизни карцер-ШИЗО. Как-будто и не прошло этих двенадцати лет (легко разменивают в стране Советов сроки жизни). Сейчас Роман наконец-то, после 28 лет на свободе — дай тебе Бог счастья, пан Роман! Славко Черновол, появляющийся на последних страницах «Бельма» еще подсудимым, успел «оттянуть» свой срок, выйти и снова сесть, и уехать, наконец, в свою далекую якутскую осыпку: ведь так же находчиво и остро, как с судьями на описанном Осадчим суде, пикировался он с офицерами управления Дубравлага, явившимися к нам в БУР выяснять причину нашей с ним голодовки...
Лагерь — великий интегратор. Здесь, в глубине бескрайней советской империи, на великой русской реке Волге (но ее ты, конечно, не увидишь!) сведены судьбою и КГБ русские и украинцы, литовцы и армяне, евреи и латыши... И всем им равно нелегко дается лагерная пайка, равно омерзителен бездуховный быт, в который их хотят втиснуть.
Равно? Нет, не равно. Ибо украинец, литовец, латыш — не только в заключении. Они в изгнании. Они лишены Родины. Тяжесть их приговора усугублена депортацией. Вокруг них звучит неродная речь. Лишь с трудом достают они книгу на родном языке. И даже матери и жене, приезжающей на свидание, пьяная рожа — надзиратель приказывает говорить «по-человечески» (читай — по-русски), а при отказе прекращает свидание.
Ко всем бедам социального угнетения добавляется унижение национальное. «Негр преклонных годов», по мнению Маяковского, должен был бы выучит русский «только за то, что им разговаривал Ленин». Мне же хочется низко поклониться моим друзьям украинцам, литовцам и другим за то, что они не забыли русского языка за то, что им «разговаривает» верный ленинец капитан Чекмарев и иже с ним. Они знают, что «им» разговаривают также и Ковалев, Орлов, Сахаров...
Впрочем, вопрос с языком решается в лагере непросто. В 19-м лагере, где количество украинцев было особенно велико, был украинцем и уполномоченный КГБ Стеценко. Свой украинский язык он считал инструментом оперативной работы. Я помню его первую беседу с прибывшим в зону юным Зоряном Попадюком. С фамильярной дружелюбностью чекиста-оперативника, «устанавливающего контакт», он обратился к Зоряну, «как украинец к украинцу», на чистом украинском, конечно: «ну, Зорян, сколько наших ребят в зоне?» И Зорян, умница Зорян, говоривший со всеми надзирателями и к ним причисленным принципиально только по-украински, ответил Стеценко на чистом русском языке: «Сколько ВАШИХ — не знаю. Сам интересуюсь».
Я благодарен лагерю за понимание значительности национального вопроса в Советском Союзе, которое он мне дал. Именно там осознаешь: в СССР сидят прежде всего за «национализм». По данным на конец 1979 года 79% состава политических лагерей — заключенные за отстаивание национальных прав. 36% — украинцы. Конечно, это не случайно. Именно в национализме видит советская власть опасность для себя. И она права. Тоталитарная структура советского государства тесно связана с его имперской структурой. Невозможно избавиться от одной, не покончив с другой. Советская впасть это поняла. Понимает это теперь и большинство русских участников правозащитного движения. Национальный вопрос может быть решен только при условии демократизации политического строя. Но и демократизировать политический строй можно только при условии решения национального вопроса.
Именно поэтому лозунг самоопределения наций не может быть только тактическим и временным. Это — основа основ демократического движения. Отказаться от него — значит отказаться от главного в своем деле, сделать его заведомо безнадежным. Вот почему депо украинцев — это дело и русских демократов.
Что же конкретно мы должны делать в этой связи? Агитировать за отделение? Выступать за автономию? За что-либо иное? Это решать не нам, а самим украинцам. Наша же задача — всемерно разъяснять суть украинской проблемы, знакомить русского читателя с точками зрения самих украинцев, добиваться уважения к этим точкам зрения. Важно, чтобы каждый русский осознал остроту и значительность национального вопроса в СССР, свою ответственность именно как русского, за его разрешение, определил здесь свою личную позицию.
Выпуск в свет «Бельма» Михаила Осадчего на русском языке — шаг именно в этом направлении.
Кронид Любарский
Приложение. По поводу процесса над погружальским[11]
24 мая 1964 года произошло событие в Киеве, «столице»Украины, подобных которому мало знает мировая культура: была подожжена и сгорела самая большая библиотека — Киевская Публичная библиотека Академии Наук УССР.
Каким образом может сгореть в середине XX века самая большая библиотека, да ещё в центре столичного города? Ведь сейчас противопожарная техника стоит так высоко, что большие пожары в городах почти исключены, а если и бывают, то их быстро ликвидируют. Ведь в современных библиотеках мира дело поставлено так, что ни единый документ не сгорит, не то, что все фонды. И мировая культура за последние столетия не знала случая, чтобы в Лондоне или Париже, Стокгольме или Москве (после 1812 года) сгорела национальная библиотека. А вот самая большая украинская библиотека была сожжена в 1964 году — в эпоху космоса, атома, кибернетики.
Более того: многотысячная толпа людей, собранная голосом молчаливой тревоги к месту страшного преступления, была свидетелем того, как медленно двигались противопожарные работы. В течение двух часов их вообще нельзя было начать, потому что во всём районе не было воды, не работал водонасос. Пожар был ликвидирован только на третий день, когда уже сгорел до основания украинский отдел.
Сгорела именно украиника, в том числе древние печатные работы, редкие книги, рукописи, архивы (например архив Б. Гринченко, архив «Киевской старины», архив Центральной Рады и др.). Часть из этих архивов не была даже описана и разобрана, так что никто и не знает, что там было и что сгорело. Они навсегда потеряны для истории. Сгорели также специальные фонды украиники, которые до 1932 года собирались по указанию Скрипника, а после снятия Н. Скрипника были ’’засекречены”, как и вся украинская история. Сгорела картотека настолько, что невозможно даже возобновить реестр книг, которые уничтожены. На суде называлась цифра 600 тысяч томов. Можно представить, сколько их сгорело на самом деле?
Таким образом, сгорела часть украинской истории, часть украинской культуры. Навсегда потеряны огромные духовные богатства. Тысячам и миллионам поколений молодежи отрезаны пути ко многим духовным источникам, к книгам и документам, одни из которых погибли навсегда, а другие может еще где-то существуют в дубликатах, но не доступны читателю. Теперь даже в Киеве уже негде по-настоящему работать научному работнику, аспиранту, студенту, особенно если их интересует прошлое Украины.
Как могла случиться эта невероятная трагедия? Почему? При каких обстоятельствах? Чьими руками и каким образом это делалось? С какой целью?
Ответы на эти вопросы должен был дать процесс над человеком, который был пойман на месте преступления — работником библиитеки Погружальским. Процесс проходил в конце августа этого года в Киеве, в небольшом зале народного суда на Владимирской улице.
Однако с самого начала процесс имел очень удивительный характер. Старательно обходили всё, что хоть каким-нибудь образом могло придать политический характер преступлению, свидетельствовать о его направленности против украинской культуры. В то же время прокурор, и судья, и защитники, и сам подсудимый, и заранее подготовленные свидетели наперебой старались показать, что у подсудимого просто плохой характер и ничего удивительного нет в том, что он поджег библиотеку, чтобы отомстить директору за оскорбление. Долго и нудно обсуждались такие «важные» вопросы: сколько у подсудимого было жён, как он с ними сходился и расходился, какие цветы им дарил, и как разделил имущество при разводе. Адвокат вникал в психологию многоженца и показывал, какие оскорбления со стороны сотрудников привели эту, тонко организованную, натуру к идее поджечь украинские книги. Сам подсудимый рассказывал, что когда он брал и поджигал книги, то видел перед собой не книги, а физиономию ненавистного директора. В заключительном слове он даже прочел патриотическое стихотворение, которое начиналось словами: «Прости меня, Родина, прости, страна родная»...
Погружальский — казенный патриот, он писал стихи, в которых хвалил Хрущова, а потом поджег библиотеку... На процессе он чувствовал себя героем и было очевидно из всего: знал, что много ему не дадут. И действительно, приговорили его к 10 годам лишения свободы... «Гуманные» советские законы на этот раз проявили сочувствие к «сентиментальным» приключениям «морально неполноценного человека». Человека, добавим, который окончил два ВУЗа и университет марксизма-ленинизма и очень хорошо знал, что и для чего он делает.
Действительно, от того, что Погружальского приговорили бы к расстрелу, библиотеку бы не вернули. Но возникает несколько логических вопросов.
Почему ни одним словом не вспомнили о магниевых лентах и фосфорных шашках? Ведь пожар было трудно тушить. Это объясняется тем, что поджигатели закидали книги магниевыми лентами и фосфорными шашками. На суде об этом — ни слова. А Погружальский с готовностью объясняет, что он все это сделал с помощью коробки спичек.
Как мог в библиотеке, где КГБ интересуется даже читателями, в течении 10 лет работать такой сомнительный тип, как Погружальский?
Почему не возник вопрос о том, что в самой большой библиотеке республики совсем не существовала никакая противопожарная защита? В то время как современные библиотеки, например, библиотека им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде, оборудована так, что с помощью автоматической системы всякий огонь будет ликвидирован моментально (индикаторы, отсеки и т.п.).
Почему ценные архивные документы сохранялись не в сейфах, а лежали навалом? Почему известную во всём мире трагедию украинского народа суд свёл до уровня очередного приключения многожёнца Погружальского?
Почему так бдительно следил судья, чтобы в зале суда никто не вёл никаких записей («Что вы там пишете?» «Где вы работаете» и т.п.).
И наконец, главное: если поджигателю было безразлично, что поджигать, то почему он поджигал именно украинский отдел, а не, скажем, отдел марксизма-ленинизма, где он работал? Почему из 7 этажей библиотеки сгорел только один этаж — именно тот, куда загнали украинскую книгу. Почему суд замазывал этот факт фразами о «повреждении русской и украинской литературы»?
Эти и другие подобные вопросы (а их может быть множество) на суде не поставлены. И как их могли поставить, если процессом занималось непосредственно КГБ, которое даже свидетелей предварительно «обрабатывало», а у работников библиотеки брали подписку, что они «не будут болтать лишнего?»
И все-таки кое-что на процессе выяснилось. Например, что на протяжении многих лет из украинской библиотеки массово вывозят и уничтожают книги. Это говорил в свою защиту Погружальский: так сказать, не такой уж я разбойник. и до меня уничтожали книги в массовом порядке. Это была юридическая контратака Погружальского. На это суд нашел такой ответ: книги уничтожались на законном основании, потому что существует какое-то распоряжение о ликвидации «идейно и научно устарелых книг». Спрашивается; за что осудили бедного Погружальского? Ведь он всего-навсего шире применил приведенную выше формулу! И не это ли имел ввиду оскорбленный поджигатель, когда в прощальном стихотворном монологе говорил: Враги культуры на свободе,
В тюрьму попался только я.
А между тем, о судьбе Погружальского, очевидно, позаботились его соучастники и однодумцы. Мы же подумаем о выводах, которые вытекают из этого дела.
Извели голодом миллионы украинцев в 1933 году, уничтожили лучших представителей нашей интеллигенции, придушили малейшую попытку мыслить, из нас сделали явных рабов. Отдавая государству все силы и плоды своего труда, мы не успеваем подумать: кто мы? Для чего живем? Куда нас ведут?
Нам уже не раз плевали в лицо, в этом году плюнули особенно нагло. Сожгли самую большую украинскую библиотеку. Взорвали мост между нашим прошлым и настоящим.
Если мы даже после этого плевка не опомнимся и подставим покорно закрытые глаза под другой, тогда кто мы, как не «рабы, подстилки, грязь Москвы?»
Чем можно напугать украинский народ? Уничтожить его? Это было не под силу даже Сталину.
Ограбить? Но ведь он и так ежегодно отдает все, что имеет.
Отобрать язык? Это делают ежедневно. В городах он давно в положении уборщицы, а в селах калечится, как потрескавшиеся на буряках руки колхозницы.
Уничтожить памятники культуры? Взорвали самую старинную Десятинную церковь, уничтожили Михайловский и Успенский соборы, а сейчас разрушают самые старинные церкви по селам...
Неумирающее сердце Украины живит история. Она родила Шевченко и тысячи национальных героев, и они могут снова воскреснуть в каждом юноше и девушке. Вот почему историю Украины спрятали от нас и стали выжигать «каленым железом».
Наши дети изучают в школе историю русских царей и их полководцев-угнетателей. О своих предках детям дают фальшивые понятия. Но в архивах лежат, как динамит, книги, факты. К ним имеют допуск только тюремшики. Между тем, кого-то они пугали даже за семью замками.
Украинские книги сожжены. Как эти книги проходили русскую и австрийскую цензуру — об этом когда-нибудь ещё напишут удивительную историю. Но даже то, что мог выдержать белый монархический шовинизм, не может терпеть красный. Он бесился от злости, что когда-нибудь эти книги могут вырваться на свободу. Они выдержали сталинский террор, выдержали гитлеровскую оккупацию. Потом их стали вывозить на макулатору как «идейно устаревшие». На одном из семи этажей в доме библиотеки они приютились на деревянных полках и ждали дальнейшей «чистки». Они валяются, рвутся, гниют миллионами, в кучи сброшенные в монастырях. Однако русское черносотенное движение нетерпеливо, оно не хочет ждать, оно воинственно!
Украинцы! Знаете ли вы, что сожжено?Сожженна часть ума и души. Не та, которую сталинский террор затравил, заплевал и загнал в пятки, а та, которая должна была ожить в наших детях и внуках. Они сожгли храм, где рождается душа.
Российский великодержавный шовинизм, как и антисемитизм, давно реабилитирован в колониальной империи, которую называют СССР. Наступление ведется широким фронтом и не только на Украине, но и в Прибалтике, Белоруссии, Закавказье, Средней Азии, наступают не только официально, но и так, как Погружальский и те, которые стоят за его спиной. Пожары национальных библиотек в Туркмении (Ашхабад) и Узбекистане (Самарканд) — разве это не звенья одной черносотенной цепи?!
Шовинизм существует везде — на руководящих постах и в секретных распоряжениях, однако о нем нельзя вспоминать ни единым словом, как будто он не существует.
Зато на каждом углу кричат об «украинском буржуазном национализме». Шовинизм вас душит, а вы кланяетесь его интернациональному мундиру, он смеется над вами, а вы клянетесь в любви «великому русскому народу». Шовинизм всемогучий, потому что чувствует за своей спиной официальную поддержку. В глазах наших угнетателей люди, которые понимают огромную трагедию Украины, являются государственными преступниками. Но мы не боялись бы поставить свои подписи под написанным, если бы нас судили публичным судом и наказали так, как Погружальского за уничтожение украинской академической библиотеки. Но мы живем с вами в стране, где за слово правды людей уничтожают по-разбойничьи, без суда.
Разве не учинили несколько лет назад дикую расправу над группой киевских и львовских юристов, которые хотели в Верховном Совете и ООН поднять вопрос о колониальном гнёте на Украине, об игнорировании даже куцой сталинской конституции?
Таинственный «суд» и расстрел — вот ответ на попытку поднять голос за право угнетенной нации. А чтобы об этом не узнали потомки, все материалы дознания и суда были уничтожены...
В то время, когда совершаются дела, которым могли бы позавидовать средневековые инквизиторы, верховный болтун со всех трибун надрывается, что у нас нет политических заключенных, что «диктатура пролетариата» переросла в общенародное демократическое государство. Если, когда вам затыкают рот и таинственно уничтожают политических противников, это — демократия — то что же тогда фашизм?
Показательным является тот факт, что библиотека была сожжена 24 мая во время Шевченковских торжеств. Это придаёт событию особенно зловещий характер. Может быть, не все знают, как много делалось на протяжении 1963-1964 годов для того, чтобы в этих торжествах не было ничего Шевченковского. Внешне Тараса вроде бы прославляли. Что с ним сделаешь?
Но на самом деле происходила большая война с Шевченко. Его самые большие политические стихи («Осеи глава 14», «И мертвым, и живым...», «Разрытая могила» и др.) замалчиваются. Есть специальное указание сурово следить за Шевченковскими концертами и вечерами, чтобы они проходили на уровне гопака, а то, не дай Бог, выплывет правдивое слово Кобзаря, разбудит у кого-нибудь мысль об Украине, о «нашей, не своей земле». А сколько в журналах и газетах было цензурой снято материалов-статей, стихов о Шевченко, в которых сексоты увидели «намеки» на современное положение Украины!
Шевченко боялся царь. Боятся его и наши партийные царисты, ведь недаром они стянули на гору в Каневе в день праздника тучу войска, милиции и переодетых кагебистов. А были ли там люди...? Людей пускали к Шевченко по пропускам.
Но вершиной всего этого были события 22 мая в Киеве. В этот день традинионно отмечается годовщина перевоза Шевченковских останков из Петербурга и его погребение в Каневе. К памятнику Шевченко стекаются люди, поют песни. Так было на протяжении нескольких лет. В этом году начальство, выполняя общий план работы «по Шевченко», решило этого не допускать. Накануне вызвали в ЦК ВЛКСМ группу молодежи, которую считали инициатором этого дела, и сказали, что этого допускать нельзя. Почему? «Потому, что подобные манифестации — "оскорбление великого русского народа”». Так дословно и было сказано: «Оскорбление великого русского народа». Дико, но последовательно. А потом деканы и парторги бегали по студенческим аудиториям и предупреждали, что кто будет замечен возле памятника Шевченко 22 мая, того автоматически исключат из вуза. Невероятно? Спросите у студентов университета, пединститута, мединститута, у работников институтов литературы, фольклора и этнографии, Госиздата и др. издательств, которым звонили по телефону, даже секретаря ЦК ВЛКСМ сурово предупредили об этом. И все-таки вечером 22 мая собралась возле памятника толпа народа. Их сняли на кинопленку и теперь «таскают». Некоторых сняли с работы, некоторых собираются снять, пока не пришло из Москвы указание «не раздувать дело».
Так они боятся Шевченко. И так воюют с ним. А война с Шевченко — это только часть войны с украинской культурой и украинским народом. Сожжение украиники в публичной библиотеке — так же часть этой войны... «Учитесь, братья мои, думайте, читайте,» — призывал Шевченко.
ДУМАЙТЕ...
Мы знаем, что народ бессмертен, его не задушишь, не сожжешь его духа. И действительно, когда в народе есть дух борьбы. Но когда нет этого духа — он становится мертвым. Не утешайте себя вечной истиной о бессмертии народа — его жизнь зависит от нашей готовности постоять за себя.
Документ «По поводу процесса над Погружапьским» — один из первых документов украинского самиздата и один из наиболее распространенных по всей Украине. Он появился в 1964 году, после сожжения отдела украиники в Киевской публичной библиотеке Академии Наук УССР. Документ говорит сам за себя, но стоит отметить, что когда в 1974 году в Тбилиси сгорела опера, то условия пожара были подобны вышеописанным.
1
Последний кошевой Запорожской Сечи (1765-1775 г.г.)
2
Украинская повстанческая армия 1943-1951 гг.
3
Идентично в русском народном: «Чтоб тебя разорвало».
4
Майский жук.
5
Название политической полиции в Польше до второй мировой войны.
6
Произошло от «Самостiйна Украiна», националист.
7
Тыква
8
Слова песни.
9
Когда судили в Ивано-Франковске учителя Михаила Озерного, то одним из пунктов обвинения было слово «ватра» (костер), которым он назвал ученический вечер, такие вечера называются обычно «огоньком». Прокурор сказал, что в 12-томном украинском словаре слова «ватра» он не нашел. Озерной был тогда очень поражен, что за несколько месяцев его заключения на Украине успели издать 12-томный украинский словарь...
10
..Он седьмую выпивши осьмушку.
11
Перепечатано из сборника «Национальный вопрос в СССР», изд. «Сучаснисть», 1975.