Книга: Рассказы
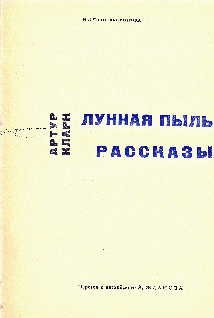
Рассказы
Специальный груз
До сих пор помню, какое возбуждение царило в 1957 году, когда Советский Союз запустил первые искусственные спутники и сумел подвесить здесь, за пределами атмосферы, несколько фунтов приборов. Конечно, я тогда был мальчишкой, но как и все вечером спешил на улицу, старался высмотреть крохотные светила, которые сверкали в сумеречных небесах над моей головой, на высоте сотен миль. Странно, как подумаешь, что некоторые из них летают до сих пор, но теперь они подо мною, и чтобы увидеть их, надо смотреть вниз, на Землю…
Да, многое переменилось за последние сорок лет. Иногда я начинаю даже опасаться, что для вас там, на Земле, космические станции нечто само собой разумеющееся, и вы забываете, сколько умения, знаний, отваги понадобилось, чтобы создать их. Часто ли вы задумываетесь над тем, что через спутники идут все ваши международные телефонные разговоры и большинство телевизионных программ? И часто ли вспоминаете добрым словом здешних синоптиков, благодаря которым прогнозы погоды перестали быть предметом острот (как было во времена наших дедов) и попадают в самую точку в девяноста девяти случаях из ста.
Да, несладко нам приходилось, когда я начинал работать на дальних станциях… Мы гнали, торопились закончить сборку и ввести в действие миллионы новых телевизионных и радиоканалов, которые должны были открыться, как только в космосе появится аппаратура, способная послать направленную передачу в любую точку земного шара.
Первые искусственные спутники летали сравнительно низко над Землей, тогда как три станции, образующие великий треугольник «Релейной Цепи», нужно было разместить на высоте двадцати двух тысяч миль, строго над экватором, на равном расстоянии друг от друга. На этой – и только на этой – высоте полный виток занимает ровно сутки, таким образом они всегда оставались бы над одной и той же точкой вращающегося земного шара.
Мне довелось поработать на всех трех станциях, но начинал я на Второй Релейной. Она расположена почти точно над Энтеббе в Уганде, обслуживает Европу, Африку и большую часть Азии. Ныне это – огромное сооружение, несколько сот ярдов в поперечнике, которое одновременно шлет на свое полушарие тысячи программ, обеспечивая полмира радиосвязью. Но когда я впервые увидел станцию из иллюминатора транспортной ракеты, которая доставила меня на орбиту, она больше всего напоминала плывущую в космосе гору металлического лома. Готовые части парили вперемешку, как попало, и казалось, из этого хаоса никогда не возникнет порядок. Жилые помещения для технического персонала и монтажников были примитивны: несколько отслуживших срок транспортных ракет, с которых сняли все, кроме регенераторов воздуха. Мы их окрестили «скорлупами»; в каждом отсеке только-только помещался один человек и самое необходимое личное имущество. Забавно, не правда ли: живешь среди безграничного космоса, а тебе даже повернуться негде!
Понятно, мы пришли в восторг, услышав, что нам отправлены герметичные квартиры со всеми удобствами, в том числе душ с игольчатыми форсунками, которые работают даже там, где вода – как и все остальное – невесома. Если вы не жили сами на борту набитого битком космического корабля, вам не понять, как это важно. Наконец-то мы выбросим губки для обтирания и вспомним, что такое настоящая чистота!
И ведь нам обещали не только душевую. К нам с Земли летела надувная комната отдыха, в которой свободно могли разместиться восемь человек, библиотека с микрофильмами, магнитный биллиардный стол, портативные шахматы и прочие новинки для истомившихся космонавтов. Когда мы думали обо всей этой роскоши, теснота в «скорлупах» казалась нам невыносимой, хотя каждый из нас получал тысячу долларов в неделю за то, что выносил ее.
Покинув Зону Второй Заправки, расположенную на высоте двух тысяч миль над Землей, долгожданная ракета с драгоценным грузом должна была за шесть часов дойти до нас. Я в это время был свободен от работы и прильнул к телескопу, у которого проводил большую часть своего скудного досуга. Мне никогда не надоедало рассматривать огромную планету, висевшую в пространстве рядом с нами; если настроить телескоп на максимальную мощность, казалось, что лишь несколько миль отделяет вас от Земли. При хорошей видимости, когда не было облаков, я легко различал предметы размером с маленький дом. Я не бывал в Африке, однако очень хорошо с ней познакомился в свободное время на Второй Релейной. Вы можете не поверить, но я часто видел в степи движущихся слонов, а огромные стада зебр или антилоп и подавно было просто отличить – они перемещались на широких просторах резерваций, будто ожившие волны. Но больше всего я любил смотреть, как над горами в сердце континента занималась заря. Солнечный свет могучей полосой шел через Индийский океан, и новый день затмевал крохотные галактики городов, мерцающие во мраке подо мной. Задолго до того, как лучи светила дотягивались до равнин Восточной Африки, вершины Килиманджаро и Маунт-Кения начинали сверкать, точно алмазные звезды в недрах ночи. Но солнце поднималось все выше, и день стремительно скатывался по склонам, наводняя светом долины. Я видел Землю в первой четверти, затем наступало «полноземлие».
Двенадцать часов спустя можно было наблюдать все в обратном порядке, и те же вершины улавливали последний луч заходящего солнца. Некоторое время они еще сияли над узкой полосой сумерек, потом Земля, вращаясь, уходила во мрак, и над Африкой спускалась ночь…
Но сейчас меня занимала не красота земного шара. Я вообще не глядел на Землю, а только на бело-голубую звезду над западной каймой планетного диска. Грузовой корабль-автомат был в тени Земли, и я видел жаркое пламя его ракетных двигателей, которые несли корабль на высоту двадцати тысяч миль.
Мне так часто случалось следить за подходом ракет, что я знал наизусть все их маневры. И когда я заметил, что ракетные двигатели, вместо того чтобы потухнуть, продолжают ярко светиться, мне тотчас стало ясно: что-то не так. С чувством бессильной ярости и отчаяния наблюдал я, как долгожданная душевая – и, что хуже всего, наша почта! – набирая скорость, устремляются по непредусмотренной орбите. Автопилот отказал. Будь на борту человек, он взял бы на себя управление и выключил двигатели, теперь же все горючее, припасенное для возвращения, обратилось в непрерывный поток энергии.
К тому времени, как баки опустели и далекая звезда, погаснув, пропала из поля зрения моего телескопа, следящие устройства уже подтвердили то, что я и без того знал. Грузовая ракета летела слишком быстро, чтобы земное тяготение могло удержать ее, она мчалась в космические дебри за Плутоном…
Мы надолго пали духом, а тут еще кому-то из вычислительного центра пришло в голову рассчитать, что будет дальше с заблудившимся транспортом. Ведь в космосе ничто не пропадает безвозвратно. Определите орбиту ракеты, и до скончания времен будет известно, где она находится в каждую секунду. И глядя на то, как наша комната отдыха, наша библиотека, наши шахматы, наша почта удаляются к периферии солнечной системы, мы знали, что в один прекрасный день все вернется, вернется в полной сохранности. Если у нас будет наготове корабль, ничего не стоит перехватить транспорт, когда он снова приблизится к Солнцу – ранней весной 15862 года нашей эры.
Пернатый друг
Насколько мне известно, никто официально не запрещал держать на космических станциях комнатных животных. Просто никому не приходило в голову, что это необходимо; но если бы даже запрет существовал, я уверен, что Свен Ульсен все равно пренебрег бы им.
Вы, конечно, представляете себе Свена этаким северным богатырем – рост шесть футов шесть дюймов, телосложение быка и соответствующий голосина. Будь это так, он вряд ли мог бы рассчитывать на работу в космосе; на деле Свен, подобно всем «космачам» той поры, был жилистый коротышка, и ему не стоило никакого труда держаться в пределах 150-фунтовой весовой нормы, которая многих из нас обрекала на голодную диету.
Свен был один из наших лучших монтажников, он отлично справлялся со своей работой, требующей искусных рук и особого навыка: ловить свободно парящие фермы того или иного комплекта, дирижировать своеобразным замедленным балетом в трех измерениях, так чтобы фермы занимали предназначенное им место, и сваривать узлы, когда все части подогнаны в точном соответствии с чертежами… Мне очень нравилось смотреть, как его бригада собирает космическую станцию, точно огромную мозаику. А работа была не только замысловатая, но и утомительная: космический скафандр – далеко не самая удобная спецодежда. Зато у людей Свена было большое преимущество перед высотниками, которые на Земле строят небоскребы. Они могли отойти назад и полюбоваться произведением своих рук, не опасаясь, что тяготение тотчас разлучит их с ним…
Не спрашивайте меня, почему Свен решил завести комнатное животное и чем объяснить его выбор. Я не психолог, но должен признать, что он выбрал очень разумно. Клерибел практически не занимала места, ее паек был бесконечно малой величиной, наконец, она – в отличие от большинства других животных, очутись они на ее месте,– нисколько не страдала от невесомости.
Впервые я обнаружил присутствие на борту Клерибел, когда, сидя в закутке, смеха ради именуемом моей конторой, проверял по спискам наличность в подведомственном мне техническом складе, чтобы знать, какие артикулы на исходе. Услышав над самым ухом мелодичный свист, я решил, что включилась внутренняя селекторная связь, и стал ждать объявления. Но объявления не последовало, зато прозвучала такая долгая и затейливая трель, что я вскинул голову, совсем забыв о металлическом кронштейне в стенке за своей спиной. И когда искры перестали сыпаться у меня из глаз, я увидел Клерибел.
Крохотная желтая канарейка неподвижно висела в воздухе – совсем как колибри, только ей это не стоило никаких усилий, прижатые к туловищу крылышки отдыхали. С минуту мы глядели друг на друга, затем, прежде чем я успел окончательно прийти в себя, она исполнила в воздухе этакое заднее сальто, которого ни одна земная канарейка, не сумела бы повторить за ней, и исчезла, легонько взмахнув крыльями. Было очевидно, что она великолепно освоилась с невесомостью и не одобряет лишних усилий.
Свен долго не признавался, что он хозяин Клерибел, а потом это потеряло всякое значение, потому что она стала всеобщей любимицей. Он провез ее контрабандой с Земли на последней транспортной ракете, возвращаясь из отпуска,– отчасти, по его словам, из чисто научного интереса. Дескать, захотелось узнать, как поведет себя птица, утратив вес, но сохранив свои крылья.
Клерибел чувствовала себя отлично и поправлялась. В общем-то нам не стоило большого труда прятать недозволенную гостью, когда с Земли являлись Высокопоставленные Персоны. На космической станции несметное количество укромных уголков. Единственная трудность была связана с тем, что Клерибел в минуту волнения становилась довольно шумной особой,– и нам не раз приходилось на ходу придумывать объяснения странному писку или свисту, который вырывался из вентиляционных шахт или складских чуланов. Порой всё висело на волоске, но кому придет в голову искать на космической станции канарейку?!
У нас была установлена двенадцатичасовая вахта – не так страшно, как это может показаться, потому что в космосе человек спит мало. Разумеется, когда постоянно купаешься в лучах солнца, «дня» и «ночи» нет, но все-таки мы соблюдали привычное деление суток. И уж во всяком случае, когда я проснулся в то «утро», самочувствие было в точности, как в шесть утра на Земле: ноющая головная боль и смутные воспоминания о беспорядочных, путаных сновидениях. Я страшно долго возился с предохранительными ремнями и совершенно ошалелый пошел в столовую, где собралась дежурная смена. Завтрак проходил необычно тихо, одно место за столом пустовало.
– Где Свен? – спросил я довольно равнодушно.
– Ищет Клерибел,– ответил кто-то.– Говорит, куда-то запропастилась. Обычно она будит его по утрам.
Не успел я сказать, что она будит и меня тоже, как вошел Свен, и по его лицу сразу было видно, что случилась беда. Он осторожно разжал пальцы – на ладони лежал желтый комочек, печально торчали в воздухе две лапки с поджатыми когтями.
– Что с ней? – спросили мы.
Душераздирающее зрелище всех одинаково потрясло.
– Не знаю,-угрюмо ответил Свен.-Я ее такую нашел…
– Ну-ка, поглядим,-сказал Джок Дункан, наш повар-врач-диетолог.
Мы ждали, примолкнув, пока он, поднеся Клерибел к уху, пытался уловить биение сердца. Джок покачал головой.
– Ничего не слышу. Но это еще не значит, что она мертва. Мне не приходилось прежде выслушивать канареек, – добавил он виновато.
– Дать ей глоток кислорода,– предложил кто-то, показывая на перепоясанный зеленой полоской аварийный баллон в нише возле двери.
Все согласились, что это отличная мысль, и Клерибел аккуратно накрыли маской, которая вполне могла заменить ей кислородную палатку.
И птаха тотчас ожила! Свен, широко улыбаясь, убрал маску, Клерибел вскочила ему на палец, издала свои обычные трели на мотив «В камбуз, ребята!» – и тут же опять упала лапками кверху.
– Ничего не понимаю,– пожаловался Свен.– Что с ней такое? Никогда она так себя не вела.
Уже несколько минут что-то тихонько копошилось в моей памяти. В то утро голова у меня работала скверно, я никак не мог совсем очнуться от сна. Не мешало бы и мне кислороду вдохнуть… Но прежде чем рука дотянулась до маски, меня осенило. Я резко повернулся к дежурному инженеру:
– Джим! Что-то не в порядке с воздухом! Вот почему Клерибел не выдерживает. Я вспомнил: когда-то шахтеры брали с собой канареек под землю, они предупреждали, если в шахте появлялся газ.
– Вздор! – ответил Джим.– Приборы давно подняли бы тревогу. У нас параллельная сигнализация.
– Гм… Вторая система еще не включена, – напомнил ему помощник.
Джим переменился в лице и молча исчез из столовой; мы стояли, толкуя о случившемся и передавая друг другу кислородный баллон наподобие трубки мира.
Джим вернулся через десять минут, и вид у него был слегка пришибленный. Случилось то, чего никто не мог предвидеть, несколько совпадений одновременно: ночью было солнечное затмение – мы попали в тень Земли, замерзла одна из секций регенератора воздуха и не сработала единственная действующая сигнализация. Электронные и химические аппараты стоимостью в полмиллиона долларов подвели нас. Не будь Клерибел, мы очень скоро отправились бы к праотцам.
Так что если вы попадете на космическую станцию, не удивляйтесь, неожиданно услышав птичьи трели. Никакого повода для беспокойства, напротив: это будет означать, что вы застрахованы вдвойне, притом практически без дополнительных расходов.
Сделайте глубокий вдох
Я уже давно приметил, что люди, которые никогда не покидали Землю, очень странно представляют себе условия в космосе. Так, всякий «знает», что человека, очутившегося без скафандра в безвоздушном пространстве за пределами атмосферы, ожидает мгновенная страшная смерть. В популярной литературе вы найдете множество кровавых описаний, как взрываются космонавты, и я не буду портить вам аппетит пересказом. Кстати, в основе многие из этих рассказов справедливы. И мне самому приходилось в последнюю секунду вытаскивать из воздушного шлюза растяп, которые не заслуживали славного звания космонавтов.
Но ведь из всякого правила есть исключения, так и тут. Мне ли не знать – на себе испытал!
Мы заканчивали монтаж Второго Релейного Спутника; все главные узлы были собраны, жилые помещения герметизированы, и станции придали медленное вращение вокруг собственной оси, восстановив чувство тяжести, от которого мы успели отвыкнуть. Я сказал «медленное», однако обод нашего двухсотфутового колеса вращался со скоростью тридцати миль в час. Движения мы, понятно, не замечали, но центробежная сила, вызванная вращением, вернула нам около половины нашего земного веса. Этого оказалось достаточно, чтобы предметы перестали произвольно парить в пространстве, и вместе с тем мы не чувствовали себя слишком уж неповоротливыми после многих недель полной невесомости.
В ту ночь, когда это произошло, наша четверка спала в тесной цилиндрической кабине, известной под наименованием Шестого Кубрика. Она находилась на самом краю обода станции. Представьте себе велосипедное колесо, у которого шину заменяет гирлянда сосисок; ну так вот – Шестой Кубрик был одной из «сосисок», и мы мирно дремали внутри нее.
Разбудил меня внезапный толчок – не такой сильный, чтобы я встревожился, но, во всяком случае, я сел на койке, недоумевая, что случилось. На космической станции все необычное настораживает, и я нажал тумблер внутреннего селектора.
– Алло, Центральная, что случилось?
Никакого ответа, линия не работала.
Это уже серьезно; я соскочил с койки – и совсем опе-

шил: тяготение отсутствовало. Я взлетел к потолку, но успел схватиться за стойку и остановить полет, растянув руку.
Не может вся космическая станция вдруг перестать вращаться. Ответ мог быть лишь один… Выход из строя селектора и – как я тотчас обнаружил – осветительной сети открыл нам страшную истину: мы уже не часть станции, каким-то образом наша кабина оторвалась, и ее швырнуло в пространство. Так отлетает, упав на вращающийся маховик, дождевая капля.
Иллюминаторов не было, наружу не выглянешь, однако мы не сидели в кромешной тьме – включилось аварийное освещение, работающее от батарей. Клапаны воздушной магистрали автоматически замкнулись, едва стало падать давление, и мы могли бы некоторое время существовать в нашей маленькой атмосфере, хотя она и не обновлялась. Увы, непрекращающийся свист дал нам понять, что воздух уходит в какую-то пробоину.
Мы могли только гадать, какова судьба космической станции. Кто знает, может быть, все сооружение разбито вдребезги и наши товарищи либо погибли, либо, как и мы, летят через космос в дырявых банках с воздухом… Оставалось надеяться, что мы одни оказались жертвами крушения, что станция в общем цела и за нами послан спасательный отряд. Все-таки мы удалялись со скоростью не больше тридцати миль в час, и любой из реактивных скутеров мог за несколько минут догнать нас.
На самом деле им потребовалось около часа, хотя если бы не мои часы, я никогда бы не поверил, что нас нашли так быстро. Мы уже начали задыхаться, всего лишь одно деление отделяло от нуля стрелку прибора на нашем единственном аварийном кислородном баллоне…
Стук в обшивку прозвучал для нас, словно сигнал из другого мира. Мы отчаянно застучали в ответ, и сейчас же к нам донесся глухой голос. Кто-то снаружи прижался шлемом скафандра к металлу обшивки, и простейшая звукопроводимость позволяла нам слышать его. Не так отчетливо, как радио, разумеется, но понять можно.
Пока шел военный совет, стрелка манометра медленно сползла к нулю. Прежде чем нас отбуксируют к станции, мы будем мертвы… Но спасательный корабль рядом, в нескольких футах от нас, его воздушный шлюз открыт. Вот только как пересечь эти несколько футов без скафандра!
Мы тщательно все продумали и взвесили, отлично понимая, что бисировать не придется. Напоследок сделали по последнему глубокому вдоху из кислородного прибора, очищая легкие. И когда все приготовились, я постучал в стенку, давая сигнал нашим друзьям.
Прерывистый стрекот… Это электрические инструменты принялись обрабатывать тонкую скорлупу кабины. Зная, что последует, мы изо всех сил ухватились за стойки, стараясь держаться подальше от будущего входа. Все произошло настолько быстро, что ум не поспевал за событиями. Кабина словно взорвалась, меня обдало могучим вихрем, остатки воздуха вырвались из легких через непроизвольно открывшийся рот. А затем – предельная тишина и алмазы звезд в зияющем отверстии, которое обозначало путь к жизни.
Уверяю вас, мне некогда было анализировать свои ощущения. Кажется (я вовсе не уверен, что все это не плод воображения), я ощутил резь в глазах, и словно иголки кололи все тело. И было очень холодно, возможно потому, что тотчас начала испаряться влага с поверхности тела.
Одно я помню точно – неприятную тишину. На космической станции не бывает полного безмолвия, всегда рокочут двигатели или шумят воздушные насосы. А тут – абсолютная тишина вакуума, пустоты, где нет ни одной частицы воздуха, которая могла бы переносить звук.
Мы почти одновременно бросились в брешь в корпусе, под лучи пылающего солнца. Меня ослепило, но это не играло роли, потому что спасатели в скафандрах сразу же подхватили нас и толкнули в переходную камеру. По мере того, как в ней накапливался воздух, постепенно возродился звук, и мы вспомнили, что здесь можно дышать. Потом нам рассказали, что вся операция длилась двадцать секунд…
Итак, мы оказались членами-учредителями Клуба Глотателей Пустоты. С тех пор не менее десятка человек, попав в аварию, проделали то же самое. Рекорд пребывания в пустоте равен теперь двум минутам; затем кровь начинает пузыриться, так как закипает при температуре тела, и пузырьки быстро попадают в сердце.
И последствий не было, кроме одного. С четверть минуты пробыл я в лучах настоящего солнца, а не того хилого света, который просачивается сквозь земную атмосферу. Глоток космоса не принес мне ни малейшего вреда, но кожу я сжег, как никогда в жизни.
Космическая свобода
Наверное, мало кто из вас представляет себе, как жили люди, прежде чем релейные спутники дали нам действующую ныне систему всемирной связи. В моем детстве нельзя было передать телевизионные программы через океан, даже обеспечить надежную дальнюю радиосвязь, не подцепив по пути богатой коллекции шумов и разрядов. А теперь свободные от помех каналы для нас самое обычное дело, мы ничуть не удивляемся, когда видим друзей по ту сторону земного шара так же отчетливо, как если бы стояли лицом к лицу с ними. И ведь без релейных спутников рухнула бы вся система мировой индустрии и торговли. Какая из ведущих мировых экономических организаций смогла бы сопрягать разбросанные по всему миру центры «электронного мозга», если бы мы на космических станциях не передавали деловые послания вокруг шарика?
Но когда мы в конце семидесятых годов монтировали станции Релейной Цепи, все это было еще делом будущего. Я уже рассказал о некоторых наших трудностях и злоключениях; они были достаточно серьезны, однако мы все одолели. Три станции в космосе вокруг Земли перестали быть беспорядочным нагромождением ферм, воздушных баллонов и герметичных пластиковых кабин. Кончилась сборка, мы заняли свои отсеки и стали работать в человеческих условиях, не стесненные скафандрами. Станции медленно вращались, и к нам вернулось тяготение. Не настоящее земное тяготение, конечно, но центробежная сила создает и в космосе те же самые ощущения. Приятно было налить бокал и сесть в кресло, не боясь, что тебя унесет ветерком.
Монтаж трех станций кончился, но еще не меньше года мы устанавливали радио– и телевизионную аппаратуру, которой предстояло взять на свои космические плечи бремя земных коммуникаций. Наконец мы пустили первый телевизионный канал между Англией и Австралией. Направленный сигнал поступил с Земли к нам на Вторую Релейную, расположенную над центром Африки, мы ретранслировали его на Третью Релейную, подвешенную над Новой Гвинеей, а оттуда он вернулся на Землю, чистенький, как стеклышко, несмотря на путешествие в девяносто тысяч миль. Впрочем, это была лишь проверка, инженеры испытывали аппаратуру. Официальное открытие линии должно было стать величайшим событием в истории мировых коммуникаций. Готовилась тщательно разработанная глобальная телепередача с участием всех стран; впервые телевизионным камерам предстояло за три часа обрыскать весь свет, возвещая человечеству, что рухнул последний барьер, воздвигнутый расстояниями.
Циники уверяли, что разработка этой программы потребовала не меньших усилий, чем само создание космических станций. Причем всего труднее было выбрать «церемониймейстера» – ведущего, которому предстояло объявлять номера небывалого глобального спектакля для половины человечества.
Одному богу известно, что делалось за кулисами: сговор, шантаж, явное подсиживание… Так или иначе за неделю до великого дня к нам прилетела внеочередная ракета с Грегори Уэнделлом на борту. Это было совсем неожиданно, ведь Грегори не пользовался среди телезрителей такой известностью, как, скажем, Джефферс Джексон в США или Винс Клиффорд в Англии. Видно, главные фавориты подсидели-таки друг друга, и Грег получил заманчивое назначение благодаря одному из тех компромиссов, которые так хорошо известны политиканам.
Уэнделл начинал свою карьеру рядовым диктором одной из университетских радиостанций американского Среднего Запада, потом вел программы ночных клубов Голливуда и Манхеттена, и наконец ему поручили ежедневную передачу во всеамериканском вещании. Не считая покровительственно-непринужденного тона, главным активом Грега был глубокий, бархатный голос – видимо, дар негритянских предков. Даже если вы вовсе не соглашались с тем, что он говорил, если он всю Душу из вас выматывал своим интервью, все равно слушать его было одно удовольствие.
Мы показали Грегу всю космическую станцию, даже (вопреки правилам) вывели его через воздушный шлюз в космос, облачив в скафандр. Ему. все пришлось по душе, но две вещи особенно понравились.
– Воздух у вас тут куда лучше той дряни, которой мы дышим в Нью-Йорке,– сказал он.– В первый раз с тех пор, как я на телевидении моя носоглотка в порядке.
И еще он одобрил меньшее тяготение; на ободе станции человек весил половину земного веса, а возле оси – вообще ничего.
Однако новизна окружения не отвлекла Грега от работы. Он по многу часов проводил в Центральной Аппаратной – размечал сценарий, отрабатывал свои реплики, изучал дюжины мониторов, которым предстояло быть его окнами в мир. Однажды я застал его, когда он репетировал представление королевы Елизаветы, которая должна была говорить из Бэкингемского дворца в самом конце программы. Он настолько увлекся, что даже не заметил меня, хотя я стоял рядом.
Да, эта телепередача вошла в историю. Впервые миллиард людей одновременно смотрел программу, которая создавала эффект присутствия в любом уголке Земли, зрители наблюдали перекличку виднейших граждан мира. Сотни камер на земле, в небесах и на море пытливо всматривались во вращающийся земной шар; и в конце на экране появилась великолепная панорама Земли. Благодаря трансфокатору в камере, установленной на спутнике, наша планета как бы мед ленно удалялась, пока не затерялась среди звезд…
Конечно, не обошлось без накладок. Одна камера, установленная на дне Атлантического океана, не включилась своевременно, и пришлось зрителям дольше задуманного любоваться Тадж Махалом. Из-за неправильного соединения русские субтитры легли на картинку, идущую на Южную Америку; в это время половина Советского Союза пыталась читать по-испански. Но это мелочи перед тем, что могло случиться…
И все три часа, одинаково непринужденно представляя знаменитых людей и неизвестных, звучал красивый, но ничуть не манерный голос Грега. Он превосходно выполнил свою задачу, и как только передача кончилась, с Земли посыпались поздравления. Правда, ведущий их не слышал: после переговоров со своим агентом он лег спать.
На следующее утро его ждала идущая на Землю ракета, а на Земле – любая должность, какую он только пожелает. Но ракета ушла без Грега Уэнделла, отныне младшего диктора Второй Релейной.
– Они решат, что я свихнулся, – сказал он, радостно улыбаясь.– Но на что мне сдалась вся их мышиная возня? Здесь я вижу всю вселенную, воздух здесь чистый, никакого смога, тяготение такое, что я чувствую себя Геркулесом, и мои бывшие жены, эти три душки, не смогут до меня добраться.
Грег послал уходящей ракете воздушный поцелуй.
– До свиданья, Земля! – крикнул он.-Я вернусь, как только начну тосковать по заторам на Бродвее и мглистым рассветам. А одолеет ностальгия – достаточно нажать кнопку, и я увижу любой уголок планеты. Здесь я по-настоящему в гуще событий, не то что на Земле. А захочу – могу совсем отгородиться от человеческого рода.
Продолжая улыбаться, он смотрел, как ракета начинает свое долгое падение на Землю, где богатство и слава напрасно ждали его. Затем, весело насвистывая, восьмифутовыми шагами вышел из контрольного пункта: пора было читать прогноз погоды для Южной Патагонии.
Случайная встреча
Должен сразу же вас предупредить: у этой истории нет конца. Зато начало можно установить точно – я познакомился с Джулией, когда мы учились вместе в Астротехе. Я уже был в аспирантуре, она перешла на последний курс факультета физики солнца, и весь последний год в институте мы встречались довольно часто. У меня до сих пор цела шерстяная шапочка, которую она связала мне, чтобы я не набил себе шишек гермошлемом. (Нет-нет, я никогда ее не надевал, это было бы кощунство!)
Увы, когда меня назначили на Вторую Релейную, Джулия попала на Солнечную Обсерваторию – на таком же расстоянии от Земли, но в нескольких градусах восточнее по орбите. Вот так: оба на высоте двадцати двух тысяч миль над центром Африки, а между нами девятьсот, миль пустынного, враждебного космоса.
Первое время мы были слишком заняты и не так сильно ощущали боль разлуки. Но когда прошла прелесть новизны и жизнь в космосе стала привычной, наши мысли полетели через разделяющую нас бездну. И не только мысли: я наладил дружбу со связистами, и нам с Джулией удавалось побеседовать, пользуясь межстанционным телеканалом. Правда, почему-то на душе только хуже, когда глядишь друг на друга и не знаешь, сколько еще людей видят вас в то же время. Космическая станция не создана для личной жизни…
Иногда я наводил один из наших телескопов на недосягаемую сверкающую звезду обсерватории. Кристальная чистота космоса допускает огромные увеличения, и я видел все подробности – солнечные телескопы, герметичные сферы, в которых жили сотрудники, карандашики транспортных ракет, прилетавших с Земли. Часто среди аппаратуры двигались фигурки в скафандрах, и я напрягал зрение, тщетно пытаясь их распознать. Даже с нескольких футов трудно узнать человека, облаченного в космический скафандр, и все-таки я не мог удержаться от попытки.
Мы уже покорились необходимости призвать все свое терпение и ждать, ждать полгода до отпуска, и вдруг нам повезло. Еще не прошло и половины нашего срока, когда начальник транспортной секции внезапно объявил, что отправляется с сачком ловить метеоры. Буйным он не стал, но все-таки пришлось вернуть его на Землю. А меня назначили врио; таким образом я, во всяком случае теоретически, стал вольным сыном эфира.
Я повелевал десятью маломощными реактивными скутерами, а также четырьмя ракетами покрупнее для переброски людей и грузов с орбиты на орбиту. О том, чтобы воспользоваться ракетой, нечего было и думать, однако несколько недель тщательной подготовки позволили мне осуществить план, который родился в моей голове через две микросекунды после того, как меня назначили на пост руководителя транспортом.
Не стану рассказывать, как я мудрил с расписанием, бортовыми журналами и горючим, как уговорил товарищей не выдавать меня. Важно то, что примерно раз в неделю я влезал в свой скафандр, пристегивался к каркасу скутера № 3 и на малой скорости покидал станцию. Отойдя подальше, давал полный газ, и маленький реактивный мотор мчал меня через девятисотмильную пропасть к обсерватории. Весь путь отнимал минут тридцать, и управление было предельно простое. Я без приборов видел, куда и откуда лечу. И все-таки должен признать, что примерно на полпути я иногда чувствовал себя – как бы это сказать – несколько одиноким, что ли. На пятьсот миль вокруг – ничего плотного, вещественного, и Земля казалась невообразимо далекой. В такие минуты очень помогало настроить свой приемник на волну главной сети и послушать, как переругиваются корабли и станции.
На полпути я разворачивал скутер на сто восемьдесят градусов и начинал торможение. Десять минут спустя обсерватория приближалась настолько, что можно было невооруженным глазом различить детали ее конструкции. И вот уже я подплываю к герметичному пластиковому пузырю, в котором оборудовали спектроскопическую лабораторию. Теперь только воздушный шлюз отделяет меня от Джулии…

Не буду утверждать, что мы говорили только о последних достижениях астрофизики или о том, как выполняется график монтажа спутников. Мы меньше всего думали о таких вещах; и на обратном пути мне всегда казалось, что я лечу невероятно быстро.
Однажды, когда я возвращался домой, вспыхнул радарный сигнал на моей приборной доске. Какой-то крупный предмет стремительно приближался. Метеор, решил я, может быть, даже небольшой астероид. Но при такой мощности сигналов я должен его видеть. Определив направление, я стал рассматривать созвездия. Мысль о столкновении мне даже и в голову не приходила: космос столь невообразимо велик, что я чувствовал себя в сто раз надежнее, чем человек, переходящий улицу на Земле.
Вот она – яркая, заметно растущая звездочка в нижней части Ориона. Уже превосходит по яркости Ригель, а еще через несколько секунд я видел не точку, а диск. Он двигался так быстро, что я едва поспевал следить за ним. Промелькнула крохотная, неправильной формы луна. Замерцала и потухла, удаляясь в своем неотвратимом безмолвном движении.
Наверно, я всего полсекунды отчетливо видел этот… этот предмет, но эти полсекунды с тех пор всегда меня преследуют. Когда я вспомнил про радар, предмет исчез, и я не успел заметить, на какое расстояние он приближался, не успел и определить его истинных размеров. Он мог быть совсем небольшой – если прошел в ста футах от меня, или огромный – если пронесся в десяти милях. В космосе нет чувства перспективы, и если вы не знаете, что у вас перед глазами, вам не определить расстояния.
Конечно, это мог быть огромный метеор необычной формы; я не берусь поручиться, что не обманулся, пытаясь получше разглядеть быстро движущийся объект. Возможно, я только вообразил, будто увидел смятый, искореженный нос и ряд темных иллюминаторов, напоминающих незрячие глазницы черепа. В одном я не сомневался, хотя видение было отрывочным и мимолетным. Если это был космический корабль, то не из наших. Он выглядел иначе и был очень старый.
Быть может, величайшее открытие всех времен выскользнуло из моих рук, пока я разбирался в своих смятенных мыслях на полпути между двумя станциями. Но я не знал ни скорости, ни направления промелькнувшего предмета, и он уже бесследно исчез в безднах солнечной системы, унося с собой свою тайну.
Как я должен был поступить? Никто не поверил бы мне, ведь у меня не было никаких доказательств. И напиши я докладную, начались бы неприятности. Я стал бы посмешищем всей Космической Службы, получил бы выговор за злоупотребление снаряжением – и, конечно же, не смог бы больше видеться с Джулией. А это для меня в том возрасте было важнее всего. Если вы любили, вы поймете меня, если нет – объяснять бесполезно.
Итак, я промолчал. Кто-то иной (сколько веков спустя?) пожнет славу, доказав, что мы не первенцы среди детей солнца. Чем бы ни был этот предмет, кружащийся по своей вечной орбите, он может ждать, как ждет уже много столетий.
И все– таки я иногда спрашиваю себя: может быть, я все-таки написал бы докладную, если бы знал тогда, что Джулия выйдет замуж за другого?
Зов звезд
Внизу, на Земле, подходит к концу двадцатый век. На темном шаре, заслонившем звезды, я вижу огни сотен бессонных городов, и даже хочется влиться в возбужденные, поющие толпы на улицах Лондона, Кейптауна, Рима, Парижа, Берлина, Мадрида… Да, да, я все их могу охватить одним взглядом – они словно светлячки на фоне ночной планеты. Линия полуночи рассекает сейчас Европу. В восточной части Средиземного моря мерцает яркая звездочка: какой-нибудь ликующий увеселительный корабль расписывает небо лучами своих прожекторов. Не нам ли он шлет сигналы? Очень уж ярко и равномерно мигают сейчас прожекторы… Вызову узел связи, выясню, что за корабль, и пошлю радиопривет от нас.
Уходит в историю, навсегда исчезает в токе времени самое поразительное столетие, какое когда-либо знал мир. Открылось оно покорением воздуха, в середине века отомкнули атом, а конец столетия мы отмечаем переброской мостов в космосе.
(Последние пять минут я пытался понять, что происходит с Найроби, теперь сообразил: там устроили могучий фейерверк. У нас здесь ракеты с химическим горючим – анахронизм, на Земле они сегодня ночью горят повсюду).
Конец века – и конец тысячелетия. Что принесут столетия, порядковый номер которых будет начинаться с двойки? Планеты, разумеется; в космосе, всего в миле от меня, сейчас парят корабли первой Марсианской экспедиции. Два года я наблюдал, как они постепенно возникают из множества разрозненных частей, подобно этой космической станции, созданной несколько десятилетий назад людьми, вместе с которыми я работал.
Десять космических кораблей готовы, экипажи на борту, ждут только последней проверки аппаратуры и стартового сигнала. Прежде чем настанет полдень первого дня нового века, они порвут путы Земли и улетят к неизведанному миру, который может стать вторым приютом человечества.
И глядя теперь на небольшой отважный флот, готовый бросить вызов бесконечности, я вспоминаю события сорокалетней давности, дни, когда были запущены первые спутники и Луна еще казалась очень далекой. Вспоминаю также, – впрочем, я этого никогда не забывал, – как отец силился удержать меня на Земле.
Какое только оружие он не пускал в ход! Начал с насмешки:
– Конечно, они это сделают,– говорил он.– Но смысл какой? Кому это нужно – выходить в космос, когда еще столько несделанного на Земле? Во всей солнечной системе нет больше ни одной планеты, на которой мог бы жить человек. Луна – куча перегоревшего шлака, остальные еще хуже. Мы созданы для жизни на Земле.
Уже тогда (мне было лет восемнадцать) я мог потягаться с ним в вопросах логики. Помню свой ответ:
– Откуда ты можешь знать, где нам назначено жить, папа? Ведь мы почти миллиард лет обитали в море, прежде чем вышли на сушу. Теперь делаем следующий огромный скачок. Я не знаю, куда он нас приведет,– не знала и первая рыба, выползая на берег и нюхая, чем пахнет воздух.
Он не смог меня переспорить и решил испытать приемы потоньше. Без конца рассказывал об опасностях космических путешествий, о том, что всякий, кто по недомыслию связывается с ракетами, сам сокращает себе жизнь. Тогда человек еще побаивался метеоров и космического излучения, они играли роль мифических чудовищ на никем не заполненных небесных картах – так древние картографы писали: «Здесь еси драконы». Но меня они не пугали, скорее, придавали острый привкус опасности моим мечтаниям.
Пока я учился в колледже, отец еще не так волновался. Учение только на пользу, какую бы профессию я потом ни избрал, и ему не на что было жаловаться. Правда, иногда он ворчал, видя, сколько денег я трачу на книги и журналы по астронавтике. Учился я хорошо, что, естественно, радовало отца; возможно, он не задумывался над тем, что успехи в учении помогут мне добиться своего.
Весь последний год учебы я избегал говорить о своих планах. Постарался даже внушить дома (теперь-то я жалею об этом), будто оставил мечты о космосе. Ничего не говоря отцу, я подал заявление в Астротех и был принят, как только закончил колледж.
Гром грянул, когда в нашем почтовом ящике очутился длинный голубой конверт со штампом «Институт технологии астронавтики». Отец обвинил меня в предательстве и неблагодарности; потом я никак не мог простить ему это, ведь он испортил мне радость от мысли, что меня приняли в самое изысканное и почетное учебное заведение, какое знал мир.
Каждые каникулы были испытанием. Если бы не мама, я, наверное, наведывался бы домой не чаще одного раза в год. И всякий раз я старался как можно скорее уехать. Мечтал я: отец, смирившись с неизбежным, мало-помалу смягчится, – но этого не произошло.
И вот настала минута натянутого, ужасного прощания на космодроме. Дождь, падая со свинцового неба, барабанил по гладкой обшивке корабля, который словно рвался поскорее взлететь к немеркнущему солнечному свету, подальше от всех бурь. Я знаю, чего стоило отцу смотреть, как ненавистная машина поглотила его единственного сына; сегодня я понимаю многое, что было скрыто от меня тогда.
Когда мы прощались у корабля, он знал, что нам уже не свидеться. И, однако же, упрямая гордость не дала ему произнести единственные слова, которые могли меня удержать. Мне было известно, что отец болен, но он никому не говорил, что болезнь серьезная. Это единственное оружие, которого он не пустил в ход против меня, и я уважаю его за это.
Остался бы я, если бы знал? Размышлять о необратимом прошлом еще никчемнее, чем гадать о непредвидимом будущем. Могу только сказать: я рад, что мне не пришлось выбирать. В конце концов он отпустил меня, сдался в борьбе с моей мечтой, а немного позже – и в борьбе со смертью.
Итак, я сказал «до свиданья» Земле и отцу, который любил меня, но не умел этого выразить. Он лежит там внизу, на планете, которую я могу заслонить ладонью. Странно подумать, что из множества миллиардов людей, чья кровь струится и в моих жилах, мне первому выпало оставить родной мир…
Новый день занимается над Азией, чуть заметная полоска огня обрамляет восточный край Земли. Скоро, как только Солнце вынырнет из Тихого океана, полоска обратится в пламенный полукруг, а между тем Европа еще готовится ко сну, не считая гуляк, которые встретят рассвет на ногах.
А вот – вон там, со стороны флагманского корабля, транспортная ракета идет за последними посетителями со станции. Вот и послание, которого я ждал:
КАПИТАН СТИВЕНС ПРИВЕТСТВУЕТ НАЧАЛЬНИКА КОСМИЧЕСКОЙ СТАНЦИИ. СТАРТ ЧЕРЕЗ ДЕВЯНОСТО МИНУТ. ОН БЫЛ БЫ РАД ПРИНЯТЬ ВАС СЕЙЧАС НА БОРТУ.
Да, отец, теперь я знаю, что ты чувствовал, время завершило полный круг. Надеюсь, однако, что я извлек урок из ошибок, которые мы с тобой сделали тогда, много лет назад. Я буду помнить о тебе, прощаясь на флагманском корабле «Старфайр» с твоим внуком, которого ты не дождался.
Когда меня вызвала служба контроля, я сидел, заполняя ежедневную рапортичку, под прозрачным сводом своего кабинета, «Наблюдательного пузыря», который вздулся над осью космостанции, словно колпак на ступице колеса. Сосредоточиться на работе было нелегко, очень уж вид захватывающий… В нескольких метрах от меня монтажники исполняли свой замедленный балет, собирая невиданную мозаику из огромных кусков-деталей. А за ними, в двадцати тысячах миль от нас, на фоне звездных вихрей Млечного пути голубовато-зеленым светом сияла полная Земля.
– Дежурный слушает,– ответил я.– В чем дело?
– Наш радар нащупал что-то, небольшой, почти стационарный объект, расстояние две мили, пять градусов западнее Сириуса. Попробуйте обнаружить его визуально.
Объект, с такой точностью следующий по нашей орбите, не мог быть метеором; скорее всего какой-нибудь потерянный нами же предмет, скажем, недостаточно надежно зашвартованная монтажная деталь, которая мало-помалу отстала от станции. Так я решил в первый миг, однако взяв бинокль и осмотрев участок неба вокруг Ориона, быстро убедился, что это неверно. Космический путник, – действительно, был сделан руками людей, но мы тут были ни при чем.
– Нашел,-доложил я службе контроля.-Это чей-то экспериментальный спутник. Конусовидный, четыре антенны, в основании, как будто, система линз. Судя по конструкции, запущен военно-воздушными силами США в начале шестидесятых годов. Помнится, они много спутников затеряли, все радиосвязь отказывала. Не сразу удалось освоить эту орбиту.
Сверившись с картотекой, контроль подтвердил мою догадку.
А еще немного спустя выяснилось, что Вашингтон ни капельки не взволнован находкой спутника, потерянного двадцать лет назад, и не будет опечален, если мы потеряем его снова.
– Но этого делать нельзя,– решила служба контроля.– Пусть он никому не нужен, спутник может помешать космонавигации. Придется кому-то поймать его и доставить на станцию.
«Кому-то» – значит мне… Я не мог послать никого из монтажной бригады: в ней ни одного лишнего человека, к тому же мы отстали от графика, а здесь каждый потерянный день стоил миллион долларов. Вся радио– и телесеть Земли нетерпеливо ожидала, когда наша станция начнет ретранслировать программы и откроется глобальное вещание на весь мир от полюса до полюса.
– Хорошо, я сам его заберу,– ответил я контролю, скрепляя бумаги электрической лентой, чтобы вентиляторы не разметали их по всему помещению.
Я говорил так, словно приносил жертву, но в глубине души только радовался. Уже две недели, если не больше, я не выходил в космос, и мне начали приедаться все эти накладные, сводки о наличии материалов и прочие славные дела, которые наполняют жизнь дежурного по космической станции.
Единственный член экипажа, который встретился мне на пути к воздушному шлюзу, был кот Томми. Он появился на станции совсем недавно, но когда вас отделяют от Земли тысячи миль, вы особенно сильно привязываетесь к животным, тем более, что далеко не все комнатные животные могут приспособиться к невесомости. Томми что-то жалобно промяукал мне, пока я забирался в скафандр, но мне было некогда с ним играть.
Здесь, пожалуй, уместно напомнить вам, что скафандры работников космостанции совсем не похожи на гибкие костюмы для прогулок на Луне. Наши скафандры по сути дела маленькие космические корабли на одного человека. Это широкие цилиндры длиной около семи футов, оснащенные реактивными двигателями малой мощности; в верхней части цилиндра два рукава гармошкой для рук оператора. Впрочем, обычно руки находятся внутри цилиндра, на приборной доске, которая расположена на уровне груди.
Забравшись в свой персональный космический экипаж, я включил ток и посмотрел на приборы. Часто можно услышать, как космонавт, облекаясь в скафандр, бормочет магическое слово «гокираба». Эта формула напоминает, что необходимо проверить горючее, кислород, радио, батареи. Все было нормально, и я опустил на место прозрачное полушарие шлема, изолируясь от внешней среды. Предстояла короткая прогулка, поэтому я не стал проверять контейнеры для продовольствия и специального снаряжения, без которого нельзя уходить надолго в космос.
Спускаясь по эскалатору в воздушный шлюз, я чувствовал себя туго спеленатым индейским младенцем, которого мать несет на спине. Но вот насосы понизили давление до нуля, наружная дверь отворилась, и струя остаточного воздуха вынесла меня к звездам.
До станции всего какая-нибудь дюжина футов,– но я уже представлял собой независимую планету, маленький отдельный мирок. Из моего летающего цилиндра мне открывался великолепный вид на всю вселенную, и хотя мягкое сиденье и предохранительные ремни не позволяли повернуться кругом внутри скафандра, я мог дотянуться до любой кнопки или контейнера руками или ногами.
В космосе солнце – опаснейший враг, оно может мгновенно ослепить вас своим ярким сиянием. Осторожно-осторожно я отодвинул темные фильтры на «ночной» стороне скафандра и повернул голову, чтобы взглянуть на звезды. Одновременно включил автомат, управляющий наружными «козырьками» на шлеме. Теперь, как бы скафандр ни вращался, глаза будут защищены от нестерпимого света.
А вот и моя цель: серебристое пятнышко, заметно выделяющееся среди звезд металлическим блеском. Я нажал ногой педаль акселератора и ощутил постепенно нарастающее ускорение. Через десять секунд достиг нужной скорости и отключил двигатель. Теперь я по инерции минут за пять достигну спутника, немногим больше времени понадобится на обратный путь. И тут-то, погружаясь в межзвездную пучину, я вдруг понял: что-то стряслось.
Внутри космического скафандра никогда не бывает полной тишины. Постоянно слышится нежный шорох притекающего кислорода, слабое жужжание вентиляторов и моторов, шелест собственного дыхания, наконец – если внимательно вслушаться – глухой стук вашего сердца. Все эти звуки заперты в скафандре и образуют неприметный фон жизни в космосе, вы вспоминаете их только, когда привычный шум вдруг изменяется.
Именно это произошло сейчас: появился звук, которого я не мог определить,– глухой прерывистый стук, иногда вместе с каким-то царапаньем, словно скребли металлом по металлу.
Я похолодел. Затаив дыхание, попытался на слух определить, откуда идет необычный звук. Приборы на щитке ничего мне не говорили. Стрелки стоят неподвижно, не вспыхивают красные лампочки, обязанные предупреждать о близкой беде… Утешительно, конечно, да не очень. Я давно уже привык в таких случаях доверять своему инстинкту, а он бил тревогу, призывая, пока не поздно, возвращаться на станцию!
Я и теперь не люблю вспоминать последовавшие несколько минут, когда паника могучим приливом затопила мое сознание, снося все плотины, которые логика и рассудок человека противопоставляют тайнам вселенной. Тут я понял, что схожу с ума – как же еще объяснить происходящее?
Что, толку уверять себя, будто пугающий меня звук – каприз механизмов. Как ни далек и оторван я был от людей, вообще от всего вещественного, я был не один. Слух говорил мне, что в безгласной пустыне копошится что-то живое.
На какой-то страшный миг мне почудилось: нечто невидимое, спасаясь от жестокого, беспощадного космического вакуума, пытается проникнуть снаружи в скафандр. И я отчаянно забился в своих доспехах, вертел головой во все стороны, кроме одной, запретной, которая грозила мне слепотой. Конечно же, снаружи ничего не было. И не могло быть, а царапанье настойчиво продолжалось, становясь все громче!
Обычно космонавты не страдают суеверием, уж вы положитесь на мое слово, а не на всякий вздор, который пишут о нас. Но неужели у вас повернется язык упрекнуть меня за то, что я, перебрав все разумные объяснения, вдруг вспомнил, как погиб Берни Саммер – погиб совсем рядом со станцией…
Его сгубил (вечная история) один из тех случаев, которые считают «невозможными». Три неисправности одновременно: отказал регулятор кислородного прибора, так что давление внутри скафандра стало стремительно расти, не сработал предохранительный клапан, наконец, один из швов

оказался недостаточно прочным. Миг – и космос ворвался внутрь…
Я не знал Берни лично, но воспоминание о его страшной участи вдруг потрясло меня до глубины души, ибо мне пришла в голову ужасная мысль. О таких вещах обычно избегают говорить, но дело в том, что поврежденный скафандр – слишком драгоценная вещь, чтобы его списывать, пусть даже он убил своего владельца. Его чинят, снабжают новым номером – и вручают другому космонавту.
Что происходит с душой человека, погибшего среди звезд, вдали от родного мира? Быть может, это ты, Берни, цепляешься за последний предмет, который связывает тебя с твоей далекой утраченной родиной?
Мне уже казалось, что царапанье и шорох доносятся со всех сторон, чудились всякие ужасы. Оставалась последняя надежда. Чтоб не сойти с ума, надо убедиться, что скафандр не принадлежал до меня Берни, что облекающий меня металлический кожух не был ничьим гробом.
Не сразу сумел я нажать нужные кнопки и настроить передатчик на аварийную волну.
– Станция? – простонал я.– Неисправность! Проверьте, кому раньше принадлежал скафандр, и…
Я не закончил фразу; говорят, микрофон не выдержал моего вопля. Но какой человек, наглухо запертый в космическом скафандре, не завопил бы, вдруг почувствовав на шее мягкое прикосновение?
Видимо, я рванулся вперед и, несмотря на предохранительные щитки, ударился головой о край приборной доски. Когда меня через несколько минут подобрал спасательный отряд, я все еще был без сознания, а на лбу у меня горела багровая ссадина.
Вот почему я последним изо всех сотрудников релейной космосети узнал, что же произошло. Очнувшись час спустя, я увидел, что весь наш медицинский персонал в сборе, но врачам явно было не до меня. Они слишком увлеклись тремя очаровательными котятами, которых наш Томми (и кто это ухитрился дать кошке мужское имя?) произвел на свет в укромном месте – в пятом контейнере моего скафандра…
На старт
Столько написано о первой экспедиции на Луну, поневоле спросишь себя: можно ли рассказать о ней что-нибудь новое? И все-таки мне кажется, что официальные доклады и отчеты очевидцев, радиорепортажи и магнитозаписи не воссоздают всей картины. Много говорится об открытиях – и очень мало о людях, которые их сделали.
Как командир «Индевера» и начальник британского отряда, я наблюдал немало такого, чего вы не найдёте в книгах, и кое-что – не все – теперь можно рассказать. Надеюсь, когда-нибудь своими впечатлениями поделятся мои коллеги, командиры «Годдарда» и «Циолковского». Но капитан Ванденберг все еще на Марсе, а Краснин где-то между Венерой и Солнцем, так что пройдет не один год, прежде чем мы прочтем их воспоминания.
Чистосердечное признание, говорят, облегчает душу. Что ж, мне и впрямь будет легче, когда я расскажу правду о графике Первой лунной экспедиции, который всегда был окутан покровом тайны.
Общеизвестно, что все три корабля – американский, советский и британский – были собраны на орбите Третьей космической станции, на высоте пятисот миль над Землей, из частей, которые забросили транспортными ракетами. Хотя детали изготовили заранее, на сборку и испытание ушло больше двух лет; к концу этого срока многие, кто не понимал, как сложна задача, стали терять терпение. Люди видели десятки фотографий, даже телепередачи: три корабля в космосе рядом с Третьей станцией, как будто полностью смонтированные и готовые сию минуту уйти в полет. Но эти кадры не показывали, что идет еще тонкая кропотливая работа, установка и всесторонняя проверка тысяч труб, электропроводов, моторов и приборов.
Дата старта не была точно определена. Луна всегда находится примерно на одинаковом расстоянии от Земли, и можно стартовать чуть ли не в любое время – был бы корабль готов. Если говорить о расходе горючего, практически нет никакой разницы, вылетите ли вы в полнолуние, или новолуние, или какой-либо промежуточный день. Мы не хотели гадать, когда полетим, как ни добивались от нас определенного ответа. В космическом корабле столько узлов и деталей, которые могут вдруг выйти из строя; мы не собирались уходить от Земли, пока не выверим все до последнего винтика.
Никогда не забуду последнего совещания командиров, когда все собрались на космической станции, чтобы доложить о готовности. Каждый отряд выполнял свое задание, но экспедиция была совместной, поэтому договорились, что три корабля сядут на Луне в пределах двадцати четырех часов в заранее условленном районе Моря Жажды. Что же касалось подробностей, то тут командиры решали сами. Смысл этого? Ну хотя бы тот, что один не повторит ошибок другого.
– Я буду готов к первой репетиции старта завтра утром в девять ноль-ноль,– сообщил командор Ванденберг.– Как вы, джентльмены? Попросим командный пункт Земли проследить за всеми тремя?
– Что ж, о'кей,– сказал Краснин; его никак нельзя было убедить, что американцы уже двадцать лет не говорят «о'кей».
Я молча кивнул. Правда, у меня шалила одна группа контрольных приборов, но это большой роли не играло: к тому времени, когда баки заправят горючим, приборы будут налажены.
Репетиция охватывала всю программу старта; каждый участник должен был выполнить то, что предстояло ему в полете. Конечно, мы тренировались еще на Земле, на макетах, но лишь здесь можно было устроить всестороннюю проверку. Только не взревут моторы, а так все будет, как при настоящем старте.
Мы провели шесть репетиций, разобрали корабли, чтобы устранить неполадки, затем провели еще шесть репетиций.
«Индевер», «Годдард» и «Циолковский» были в полной готовности. Теперь только заправиться, и можно трогать…
Не хочу даже вспоминать последние напряженные часы перед вылетом. Глаза всего мира обращены к нам… Время старта назначено с точностью до нескольких часов, испытания завершены, все, что зависело от нас, – сделано.
И вот тут-то очень высокое начальство вызвало меня к радиоаппарату для совершенно секретного разговора. Мне сделали предложение, которое – учитывая, от кого оно исходило,– было равносильно приказу. Конечно, сказали мне, первая экспедиция – совместное предприятие, но нельзя забывать, сколь важно для нашего престижа опередить остальных. Хотя бы на час-другой…
Я был потрясен таким предложением и не стал этого скрывать. Работая плечом к плечу с Ванденбергом и Красниным, я успел по-настоящему подружиться с ними. И я прибег ко всяческим оговоркам, мол, орбиты уже рассчитаны, теперь ничего не сделаешь. Каждый корабль пойдет наиболее экономным маршрутом, сберегая горючее. Стартовав одновременно, мы и прилунимся в одно время, разница не превысит нескольких секунд.
К сожалению, кто-то предусмотрел и это. После заправки наши корабли в готовности номер один должны были сделать еще несколько оборотов вокруг Земли, прежде чем покинуть орбиту спутника и идти на Луну. На высоте пятисот миль мы делали полный оборот за девяносто пять минут, и на каждом круге лишь одна точка годилась для старта. Если мы стартуем за один оборот до срока, остальным придется ждать девяносто пять минут, чтобы идти за нами. И прилунятся они на девяносто пять минут позже…
Не буду излагать всех доводов, мне до сих пор стыдно, что я уступил, согласился предать товарищей. Тщательно высчитанная секунда настала, когда мы были в тени Земли и на миг для нас наступило затмение Солнца. Ванденберг и Краснин, честные ребята, думали, что я вместе с ними пройду еще один круг, а потом мы все вместе тронемся в путь. В жизни не чувствовал себя таким подлецом, как в ту секунду, когда я повернул пусковой ключ и ощутил рывок моторов, уносящих меня прочь от матери-Земли.
Следующие десять минут мы были заняты только нашими приборами, проверяли, как «Индевер» выдерживает расчетную орбиту. Наконец, вырвались из объятий Земли, выключили моторы и почти тут же ночная тень сменилась слепящим солнечным светом. Теперь до самой Луны – пять суток беззвучного полета по инерции – не будет ночи.
Уже тысяча миль отделяет нас от Третьей космической и наших товарищей. Через восемьдесят пять минут, в назначенный срок, Ванденберг и Краснин выйдут на старт и ринутся следом за мной. Но догнать меня невозможно. Хоть бы не очень сердились, когда встретимся на Луне…
Включив кормовую телекамеру, я увидел далекое светящееся пятнышко. Третья космическая только что вышла из земной тени. Прошло несколько секунд, прежде чем я сообразил, что «Годдард» и «Циолковский» не парят там, где я их покинул…
Оба корабля шли в полумиле от меня, не отставая ни на шаг. Мгновение я глядел на них, не веря собственным глазам, и вдруг понял: не только англичанам пришла в голову блестящая идея… «Ах, черти, обманщики!» – подумал я. И рассмеялся. Только через несколько минут я вспомнил о Командном пункте и успокоил озадаченных наблюдателей. Все идет по плану – правда, не по тому плану, который объявлен первоначально…
Потом в эфире зазвучали смущенные голоса: мы поздравляли друг друга с успешным стартом. А вообще-то, мне кажется, в душе каждый из нас был рад такому обороту дела. Остальную часть пути нас разделяло самое большее, несколько миль, а садились мы так согласованно, что тормозные ракеты трех кораблей одновременно обожгли своим дыханием поверхность Луны.
Ну, хорошо, не совсем одновременно. Я мог бы, конечно, с гордостью сослаться на показания приборов, подтверждающих, что «Индевер» опередил Ванденберга на две пятых секунды. Но ведь ровно на столько же Краснин опередил меня.
Учитывая дистанцию – двести пятьдесят тысяч миль,– думаю, что вы поместили бы всех троих на верхнюю ступеньку пьедестала почета…
Робин Гуд, член Королевского общества
Мы прилунились на рассвете долгого лунного дня. Равнину исчертили длинные – на мили – косые тени. Чем выше солнце, тем они будут короче, а в полдень почти исчезнут. Но до полудня пять земных суток, до ночи – еще семь. Впереди почти две недели дневного света, потом солнце зайдет, и царицей неба станет голубая Земля.
В первые дни было столько хлопот, что почти не оставалось времени для исследований. Надо было разгрузить корабли, освоиться с необычной обстановкой, как следует овладеть большими и малыми электровездеходами, расставить герметичные купола, в которых нам жить и работать, пока не придет пора возвращаться. На худой конец можно оставаться в кораблях, но там и тесно, и неудобно. Конечно, в куполах тоже не слишком просторно, но после пяти дней в космосе они показались нам роскошными апартаментами; длинные трубы, соединенные с воздухоочистителями на кораблях, позволяли дышать вполне сносным воздухом. Естественно, американцы соорудили себе самый вместительный купол, со всевозможными приспособлениями, включая горячую мойку для посуды. Не говоря уже о стиральной машине, которую они охотно одалживали нам и русским.
Десять дней спустя, уже «под вечер», мы наконец-то завершили организационный период и могли подумать о серьезных научных исследованиях. Состоялись первые несмелые вылазки в неизведанные просторы вокруг базы. Конечно, у нас были подробнейшие карты и фотоснимки района, в котором мы прилунились, но они подчас оказывались удивительно обманчивыми. На карте – маленький бугорок, а для человека в скафандре – целая гора; гладкие равнины местами покрывала глубокая, по колено, пыль, которая чрезвычайно затрудняла ходьбу. Но все это, разумеется, пустяки, и слабое тяготение возмещало многие неудобства.
По мере того, как у ученых копились наблюдения и образцы, росла нагрузка на радио– и телевизионные каналы с Землей, и наконец узлы связи перешли на непрерывную работу. Мы дорожили каждой минутой: даже если нам самим не суждено вернуться на Землю, туда попадут собранные нами знания.
Первая автоматическая грузовая ракета прилунилась за два дня до заката, точно по расписанию. Мы приметили на фоне звезд пламя тормозных двигателей, потом оно вспыхнуло снова, уже перед самой посадкой. Собственно посадку мы не могли видеть с базы, для безопасности ракета садилась в трех милях от нее. А на Луне три мили – это за горизонтом.
Когда мы подошли к ракете-автомату, она уже стояла на амортизирующей треноге, чуть накренившись, но целехонькая. И груз был в полной сохранности, от приборов до продовольствия. Ликуя, мы отвезли все на базу и, с некоторым опозданием, отпраздновали покорение Луны. Люди потрудились основательно, не грех было и отдохнуть.
Славно повеселились, ничего не скажешь. Гвоздем программы был казачий танец в исполнении облаченного в скафандр Краснина. Потом нам пришло в голову устроить состязания, однако мы быстро убедились, что выбор видов спорта сильно ограничен. Нужно ли объяснять – почему? Крокет и кегли подошли бы, да нечем играть, а вот футбол, скажем, или крикет начисто отпадали. При таком тяготении футбольный мяч от сильного удара улетел бы за полмили, крикетный и вовсе исчез бы бесследно.
Первым придумал подходящий для Луны вид спорта профессор Тревор Уильямс, наш астроном. Кстати, он был одним из самых молодых членов Королевского астрономического общества: Уильямсу исполнилось всего тридцать лет, когда он получил это почетное звание. Труды по межпланетной навигации принесли Тревору Уильямсу мировую славу; менее известны были успехи профессора в стрельбе из лука. Два года подряд он выигрывал первенство Уэльса. И я нисколько не удивился, застав его за стрельбой по мишени, водруженной на груде лунного шлака.
Лук был довольно своеобразный: древко склеено из пластмассы, тетива сделана из стальной мерной проволоки. Откуда только он все это раздобыл? Но тут я вспомнил, что транспортную ракету безжалостно разорили, теперь куски ее можно было встретить в самых неожиданных местах. Однако всего замечательней, пожалуй, были стрелы. Чтобы придать им устойчивость в безвоздушной среде, перья, разумеется, не годились. Тревор сделал стрелы нарезными, а древко снабдил маленьким приспособлением, которое заставляло их вращаться наподобие пули, и они летели прямо.
Даже из такой самоделки можно было, при желании, пустить стрелу на целую милю. Но Тревор не собирался растрачивать драгоценные стрелы, он предпочитал упражняться в меткости. Странно было видеть, как стрелы летели почти параллельно поверхности Луны. Кто-то посоветовал Тревору быть поосторожнее – не то его стрелы превратятся в этакие лунные спутники и, завершив оборот, его же поразят в спину…
Вторая грузовая ракета пришла на следующий день после первой, однако на этот раз случилась промашка. Посадка-то была безупречной, но, к сожалению, автопилот, нащупывая радаром площадку, допустил одну из тех ошибок, от кото-

рых эти простодушные механизмы невозможно отучить. Он выбрал единственную во всем районе совершенно неприступную горку, захватил лучом ее вершину, и ракета опустилась на нее, точно орел на скалу.
До зарезу нужное снаряжение – на высоте пятисот футов, а через несколько часов наступит ночь. Как быть?
Человек пятнадцать одновременно предложили решение. Пять минут на базе царила суматоха: мы собирали весь наличный запас нейлонового шнура. И вот уже подле ног Тревора, аккуратно свернутый, лежит шнур длиной больше тысячи ярдов, и мы нетерпеливо ждем. Он привязал конец шнура к стреле, натянул тетиву и для пробы выстрелил в небо. Стрела взлетела на половину высоты горки, затем вес шнура заставил ее вернуться.
– Жаль,– сказал Тревор.– Сильнее не могу. И ведь еще надо приладить какой-то крюк, чтобы шнур зацепился.
Мы уныло смотрели, как сверху медленно падают кольца нейлона. Что и говорить, положение дурацкое. В наших кораблях достаточный запас энергии, чтобы перебросить нас за четверть миллиона миль, а какая-то горка нам не под силу! Будь у нас время в запасе, можно бы поискать пути на противоположном склоне, но ведь для, этого нужно пройти не одну милю. Да и то подъем мог оказаться опасным, если не вовсе невозможным, ведь до темноты осталось лишь несколько часов.
Но не в обычае ученых долго пасовать, и слишком много собралось тут острых (порой даже чересчур острых) умов, чтобы преграда могла устоять против них. Правда, эта новая задачка оказалась помудренее, и лишь трое одновременно нашли ответ. Тревор подумал, потом уклончиво ответил:
– Что ж, можно попробовать.
Подготовка требовала времени, и мы озабоченно смотрели, как тень все выше и выше ползёт вверх по нависшей над нами скале. «Допустим,– говорил я себе,– Тревору даже удастся забросить на вершину крюк со шнуром – не так-то просто вскарабкаться туда в громоздком скафандре». Меня никогда не манили высоты, и я был только рад, что нашлось столько охотников совершить восхождение.
Но вот все готово. Шнур смотали так, чтобы он легко разматывался. В нескольких футах ниже стрелы к нему приладили легкий крюк. Хоть бы зацепился на горе – и не подвел нас в решающий миг!
На этот раз Тревор должен был послать не одну стрелу, а четыре; они были прикреплены к шнуру через двести ярдов. Никогда не забуду это нелепое зрелище: в закатных лучах человек в скафандре нацеливает лук в небо…
Вот метнулась к звездам стрела. Она не прошла и пятидесяти футов, как Тревор положил на тетиву самодельного лука вторую, и та понесла вверх конец повисшей в космосе длинной петли. Третья стрела ринулась следом, и наконец четвертая – могу в этом поклясться – сорвалась с тетивы прежде, чем первая заметно замедлила полет.
Теперь, когда уже не одна стрела поднимала шнур, было не так трудно достичь нужной высоты. Дважды крюк падал обратно, на третий раз он за что-то прочно зацепился, и первый доброволец стал карабкаться вверх. Конечно, здесь он весил всего около тридцати фунтов, но все-таки далеко падать…
Он не упал. Не прошло и часу, как начался спуск снаряжения, доставленного грузовой ракетой. Еще до темноты мы сняли с горы все самое главное. Увы, моя радость заметно померкла, когда один из инженеров гордо показал мне присланную по его заказу с Земли губную гармонику. Что-то говорило мне: этот инструмент успеет нам всем осточертеть задолго до конца долгой лунной ночи…
Разумеется, было бы смешно винить в этом Тревора. А когда все вместе, пересекая затопившие равнину черные тени, возвращались к кораблю, мы услышали от астронома предложение, которое, не сомневаюсь, немало озадачило тех, кто знакомился с подробными картами в отчете Первой лунной экспедиции..
В самом деле, не мудрено и удивиться: с какой стати плоская безжизненная равнина с одной-единственной невысокой горкой теперь на всех лунных картах называется Шервудским Лесом!
Зеленые пальцы
Я очень жалею, что мне не пришлось самому познакомиться с Владимиром Суровым; теперь-то поздно. Небольшого роста молчаливый человек, который хорошо понимал, но недостаточно свободно говорил по-английски – вот каким он мне запомнился. Впрочем, мне кажется, он был отчасти загадкой и для своих же товарищей. Когда бы я ни приходил на «Циолковский», он постоянно сидел где-нибудь в уголке, делая записи или прильнув к микроскопу. Словом, человек умел уединяться даже в маленьком тесном мире космического корабля. Остальных членов экипажа его замкнутость как-будто не отталкивала, напротив, они всегда обращались к нему с любовью и уважением. Ничего удивительного: труды Сурова по выведению растений, способных жить за Полярным кругом, сделали его самым известным ботаником в Советском Союзе.
То обстоятельство, что русские взяли с собой на Луну ботаника, вызвало немало улыбок. А между тем, что тут странного, ведь были же и в британском, и в американском отрядах биологи! Еще до Первой лунной экспедиции ученые собрали достаточно данных, чтобы заключить, что хотя на Луне нет ни воздуха, ни воды, там может быть растительность. Одним из самых видных сторонников этой теории был президент Академии наук СССР. Из-за возраста он не мог сам участвовать в экспедиции, и президент принял самое разумное решение: послал Владимира Сурова.
Первым серьезным разочарованием, которое поднесла нам Луна, оказалось полное отсутствие растительности, будь то живой или ископаемой, на площади в тысячу квадратных миль, исследованной нашими отрядами. Даже самые отъявленные скептики, решительно утверждавшие, что на Луне не может быть никакой жизни, несомненно, были бы рады убедиться в своей неправоте. И убедились – пять лет спустя, когда Ричардс и Шеннон сделали свое поразительное открытие на огромной, окаймленной валом равнине Эратосфена.
Но это. было уже потом, а тогда казалось, что Суров прилетел напрасно.
Однако он не пал духом, трудился так же прилежно, как и все остальные: изучал образцы почв и присматривал за небольшим гидропонным огородом – блестящей паутиной прозрачных труб, которые окружили «Циолковский». Ни мы, ни американцы не стали затевать ничего подобного. Рассчитали, что лучше доставлять продовольствие с Земли, чем выращивать его на месте; во всяком случае, пока не создана постоянная база. Мы были правы с экономической точки зрения, но о настроении не подумали. Маленькие герметические парники, где Суров выращивал свои овощи и карликовые плодовые деревья, стали оазисом, который неудержимо притягивал к себе наши взгляды, едва нам надоела окружающая нас огромная пустыня.
В положении начальника много отрицательных сторон, так, мне очень редко удавалось по-настоящему заниматься исследованием. Подолгу приходилось готовить доклады для Земли, проверять запасы, составлять программы и расписания, совещаться с моими американскими и русскими коллегами; да еще нужно было – это далеко не всегда удавалось – пытаться предугадать очередной затор. В итоге, я по два-три дня не покидал базы; товарищи острили, что в моем скафандре уже моль завелась.
Возможно, я именно поэтому так живо помню каждую свою вылазку, помню и единственную встречу с Суровым. Это было около полудня. Солнце висело высоко в небе над южными хребтами; в нескольких градусах от него можно было различить серебристую ниточку Земли. Наш геофизик Гендерсон собрался замерить магнитное поле в заранее намеченных точках, примерно в двух милях восточнее базы. Все были заняты, а у меня как раз выдалась передышка, и я пошел вместе с ним.
Путь был не очень далекий, скутер брать незачем, тем более, что аккумуляторы уже основательно разрядились. И вообще я любил просто пройтись. Не из-за пейзажей – даже к самым великолепным картинам природы в конце концов привыкаешь. Меня неизменно привлекало другое – легкость и плавность, с какой двигаешься на Луне. Я перемещался огромными шагами, упиваясь чудесным ощущением, которое до космических полетов было знакомо человеку только в снах.
Мы сделали замеры и были на полпути домой, когда я в миле от нас, в районе советской базы, заметил на равнине движущуюся фигуру. Приладив бинокль внутри гермошлема, я пригляделся внимательнее. Конечно, человека в скафандре даже вблизи не узнаешь, но по номеру и раскраске можно было всегда определить, с кем вы встретились.
– Кто это? – спросил Гендерсон; мы сообщались с ним по радиофону.
– Голубой скафандр, номер 3… Очевидно, Суров. Но тут что-то непонятное: он один.
В лунных изысканиях чуть ли не первое правило гласит: нельзя никуда уходить одному. Всякое может случиться… И то, что двоим не страшно, может оказаться гибельным для одного. Допустим, появилась крохотная дырочка на пояснице вашего, скафандра – как вы ее залатаете? Смешно? А ведь такие вещи происходили.
– Может быть, с его напарником случилась беда, и Суров пошел за помощью,– предположил Гендерсон.– Вызвать его?

Я покачал головой. Суров явно не торопился. Он ходил куда-то один и теперь не спеша возвращался на «Циолковский». Пусть даже Краснин неправ, выпуская людей поодиночке, все-таки неловко вмешиваться в его дела. Ну, а если Суров просто нарушил правила – опять-таки не мне доносить об этом.
В последующие два месяца мои люди часто видели вдали от базы одинокую фигуру Сурова, но он всегда сворачивал в сторону, если кто-нибудь из них подходил. Осторожные расспросы помогли мне выяснить, что нехватка людей принудила командира Краснина пойти на некоторые послабления. Но чем занимался Суров, я не узнал; мог ли я подозревать, что его начальник тоже в неведении!
Когда я услышал в наушниках сигнал тревоги, переданный русскими, моей первой мыслью было: «Я так и знал». Каждой из трех экспедиций уже не раз приходилось посылать на выручку своим людям спасательные отряды, но впервые затерявшийся человек не ответил на вызов корабля. После краткого радиосовещания во все стороны от баз поспешно разошлись спасатели.
Я опять шел с Гендерсоном; естественно, мы направились в ту сторону, где уже видели однажды Сурова. Туда простиралась «наша», так сказать, территория, это было сравнительно далеко от суровского корабля. И карабкаясь по пригоркам, я впервые подумал, что русский ученый, возможно, занимался там опытами, которые хранил в тайне даже от своих товарищей. Что бы это могло быть?
Гендерсон первым нашел его и тотчас вызвал помощь. Увы, было слишком поздно: Суров лежал ничком в опавшем, сморщенном скафандре. Очевидно, он стоял на коленях, когда что-то пробило пластиковый гермошлем. Следы показывали, что ученый упал замертво.
Когда подоспел командир Краснин, мы все еще разглядывали поразительный предмет, который в предсмертную минуту изучал Суров. Из камня, укоренившись в нем множеством тонких щупалец, торчал покрытый зеленоватой кожицей овал трехфутовой высоты. Да-да, укоренившись: это было растение. Чуть подальше стояли еще два, поменьше, видимо, погибшие – они потемнели и высохли.
«Выходит,– сказал я себе,– на Луне все-таки есть жизнь!» Но тут заговорил Краснин, и я понял, что истина куда удивительнее.
– Бедняга Владимир! – произнес он,– Мы знали, что он гений, и все же посмеялись, когда он рассказал нам о своей

мечте. Вот и решил в тайне завершить свой величайший труд… Он победил своей гибридной пшеницей Арктику, но то было только начало: он принес жизнь на Луну. И смерть тоже…
Я был поражен, это казалось чудом. Теперь-то весь мир знает историю «Суровского кактуса» (название столь же закономерное, сколь неточное), и он уже никому не кажется чудесным. Записи ученого все рассказали, в них описаны многолетние опыты, как он вывел растение с плотной кожистой оболочкой, которой не страшен вакуум. Длинные корни, выделяющие кислоты, позволили растению приживаться на таких скалах, где даже лишайник не нашел бы себе пищи. А потом уже мы увидели, как осуществилась вторая ступень мечты Сурова: «кактус» его имени преобразил огромные площади каменных пустынь Луны и проложил путь для других растений, которые теперь кормят всех жителей лунных баз.
…Краснин нагнулся над телом товарища и легко его поднял. Ощупал разбитый гермошлем и озадаченно покачал головой.
– Что же произошло? – спросил он.– Можно подумать, виновато растение, но ведь это нелепо.
Зеленая загадка стояла среди ожившей равнины, дразня нас своей тайной и нераскрытыми еще возможностями. И тут медленно, точно размышляя вслух, заговорил Гендерсон:
– Мне кажется, я знаю ответ. Вспомните, что нам рассказывали в школе, на уроках ботаники… Ведь Суров выводил растение для лунных условий, значит, должен был подумать, как оно будет размножаться. Нужно, чтобы семена разбросало очень далеко во все стороны, так больше надежды, что они попадут на подходящий участок и прорастут. На Земле семена разносят птицы, насекомые, животные, тут ничего такого нет. Я могу представить себе только один способ; кстати, некоторые земные растения уже располагают таким механизмом.
Его перебил мой вопль. Что-то с силой, звонко ударило в металлический пояс моего скафандра. Удар не причинил мне никакого вреда, только напугал.
А подле моих ног лежало семя, размерами и видом напоминающее сливовую косточку. В нескольких ярдах от него мы нашли второе, то самое, которое разбило гермошлем Сурова, когда ученый нагнулся. Он знал, конечно, что семена созрели, но второпях забыл, чем это грозит. Вспомните про слабую гравитацию на Луне; я сам видел, как «кактус» метал свои семена на четверть мили. Творение Сурова его же и «застрелило» в упор.
Не все, что блестит
Командир Ванденберг рассказал бы эту историю лучше меня, но он далеко, за много миллионов миль. А речь пойдет о его геофизике, докторе Пейнтере, который (во всяком случае, так все считали) сбежал на Луну от жены.
Правда, то же говорили и о многих других (особенно сами жены), но на сей раз это была не шутка. И не так чтобы он не любил жену, скорее напротив: Пейнтер готов был сделать для нее все. На беду ее желания всякий раз обходились ему слишком дорого. Его супруга была женщиной с экстравагантными вкусами, а таким женщинам лучше не выходить замуж за ученых, даже таких, которые улетают на Луну.
Главной слабостью миссис Пейнтер были драгоценные камни, особенно брильянты. Нетрудно понять, что эта слабость доставляла немало беспокойства доктору Пейнтеру. Как заботливый и нежный супруг, он не только беспокоился, но и принимал меры. И Пейнтер стал одним из ведущих мировых специалистов по алмазам; уточню: как ученый, не как коммерсант. О происхождении, составе и свойстве алмазов он знал, наверное, больше, чем кто-либо иной. К сожалению, можно очень много знать об алмазах и не иметь ни одного. А какая радость миссис Пейнтер от эрудиции мужа – ее не повесишь себе на шею, отправляясь на прием…
Я уже говорил, что геофизика была основной специальностью доктора Пейнтера; алмазы представляли собой, так сказать, побочное увлечение. Он создал много замечательных приборов, позволяющих с помощью электронных импульсов и магнитных волн проникнуть в недра Земли, получить своего рода рентгеновский снимок ее скрытой от глаз толщи. Не удивительно, что его включили в число тех, кто должен был попытаться разведать таинственные недра Луны.
Пейнтер охотно согласился участвовать в экспедиции, но командиру Ванденбергу показалось почему-то, что геофизик предпочел бы задержаться на Земле. Кстати, не он один. Иные просто боялись, и ничего нельзя было сделать; из-за этого пришлось забраковать многих отличных людей. Однако на этот раз дело было не в личных переживаниях. Пейнтер только что начал очень важный опыт, речь шла о задаче, которой он посвятил много лет, и ему не хотелось покидать Землю, не дождавшись ответа. Но Первая экспедиция не могла ждать его, и пришлось доктору положиться на своих ассистентов. Правда, он непрерывно обменивался с ними зашифрованными радиограммами, к превеликому неудовольствию узла связи Третьей космической станции.
Столкнувшись с чудесами нового мира, Пейнтер скоро забыл свои прежние заботы. Он без конца колесил по поверхности Луны на одном из маленьких удобных электроскутеров, которые захватили с собой американцы, вооруженный сейсмографами, магнитометрами и прочими хитроумными орудиями геофизика. Доктор Пейнтер хотел за несколько недель узнать о Луне столько же, сколько человек узнал о Земле за сотни лет. Конечно, в его распоряжении была только малая часть из четырнадцати миллионов квадратных миль лунной поверхности, но уж работать – так работать основательно!
Он по-прежнему получал телеграммы от своих сотрудников на Земле, а также короткие, но исполненные горячих чувств весточки от супруги. Но ни то, ни другое его как будто не волновало. Даже если вы не заняты настолько, что некогда глаз сомкнуть, четверть миллиона миль помогают вам как-то по-новому взглянуть на свои личные дела. Мне кажется, на Луне доктор Пейнтер впервые за всю свою жизнь был по-настоящему счастлив (кстати, не только он).
Неподалеку от нашей базы находился великолепный кратер, этакое исполинское дыхало диаметром около двух миль. Но на первых порах наши совместные работы сосредоточились в другом районе, и прошло полтора месяца, прежде чем Пейнтер смог получить маленький вездеход и вместе с еще тремя исследователями отправиться на разведку к кратеру. Уйдя за горизонт, они вышли также из зоны радиосвязи, однако это нас не тревожило: если что-нибудь случится, они всегда могут связаться с Землей, а оттуда уже передадут радиограмму нам.
Отряд Пейнтера отсутствовал сорок восемь часов, а это предельный срок непрерывной работы на Луне, даже если вы применяете стимулирующие средства. Поначалу все шло гладко, а потому и не особенно интересно; они добросовестно выполняли программу исследований. Достигли кратера, поставили герметичный купол, разложили снаряжение, произвели все замеры, затем установили маленький буровой станок, чтобы взять образцы пород. И вот тут-то, ожидая, когда бурильный снаряд извлечет из лунных недр аккуратный столбик, Пейнтер сделал свое второе великое открытие. Первое было им сделано десятью часами раньше, хотя он тогда об этом не знал.
Вдоль кромки кратера, выброшенные с глубины нескольких миль могучими взрывами, которые изуродовали лунный лик триста миллионов лет назад, громоздились гигантские обломки коренных пород. Да, буровым станком так недра не разворотишь… Жаль только, что эти исполинские образцы были разбросаны на огромной площади в полном беспорядке; необузданные силы, извергшие их на поверхность, нарушили всякую последовательность пластов.
Карабкаясь по горам этого необычного шлака, Пейнтер тут и там отбивал геологическим молотком посильные ему образцы. Вдруг товарищи услышали громкий крик, и доктор наук подбежал к ним, держа в руках осколки довольно скверного стекла. Прошло несколько минут, прежде чем он успокоился настолько, что смог объяснить, из-за чего поднял такой шум. И понадобилось еще некоторое время, пока отряд вспомнил о своей задаче и продолжил работу по программе.
Ванденберг издали приметил четверку, когда она возвращалась к кораблю. Не похоже, чтобы они особенно устали, а ведь двое суток на ногах… Больше того, даже скафандры не могли скрыть не совсем понятную живость их движений. Сразу видно, что экспедиция прошла успешно. Что же, есть двойное основание поздравить доктора Пейнтера. Как ни туманна полученная с Земли срочная радиограмма, ясно, что опыт Пейнтера закончился полным триумфом.
Но при виде того, что держал в руке геофизик, командир Ванденберг забыл о радиограмме. Он знал, как выглядит неграненый алмаз. Только знаменитый «Каллинен» весом 3026 карат превосходил размерами этот.
– Ничего удивительного,– услышал командир захлебывающийся радостью голос Пейнтера.– Алмазы всегда находят там, где есть вулканические трубки. Но почему-то мне не приходило в голову, что эта закономерность распространяется на Луну.
Тут Ванденберг вдруг вспомнил про радиограмму и отдал ее геофизику. Ученый быстро пробежал текст глазами и разинул рот. После Ванденберг говорил мне, что никогда не видел, чтобы человек был так убит поздравительной телеграммой… Вот она:
ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА. ОПЫТ 541 ПРИМЕНЕНИЕМ УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ТИГЛЯ УВЕНЧАЛСЯ УСПЕХОМ. РАЗМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИ НЕОГРАНИЧЕННЫЕ СЕБЕСТОИМОСТЬ НИЧТОЖНАЯ.
– В чем дело? – спросил Ванденберг, глядя на потрясенное лицо геофизика.– Новость-то вроде хорошая!
Пейнтер глотнул раз-другой, словно рыба на берегу, и растерянно уставился на большой – чуть ли не во всю ладонь – кристалл. Затем подбросил его в воздух; кристалл медленно опустился обратно.
Наконец геофизик обрел дар речи.
– Моя лаборатория,– заговорил он,– уже много лет пыталась синтезировать алмазы. Вчера вот эта штука стоила миллион долларов. Сегодня – сотни две, не больше. Я даже не уверен, захочу ли тащить его с собой на Землю…
Конечно, он увез кристалл, у кого хватило бы духу выбросить такого красавца. Около трех месяцев миссис Пейнтер носила лучшее в мире брильянтовое ожерелье, которое вполне стоило тысячи долларов (стоимость гранения и полировки). Потом процесс Пейнтера был освоен промышленностью, а месяцем позже она получила развод. Основание? Крайне жестокое обращение со стороны мужа. Вы, конечно, скажете – поделом…
Феерическое зрелище
Я немало удивился, прочтя в справочниках, что один из самых нашумевших опытов, проведенных нами на Луне, фактически был подготовлен еще в 1955 году, неполных десять лет после того, как вообще стали применять ракеты для исследования высших слоев атмосферы. Ну вот, в 1955 году состоялся эксперимент, в ходе которого на огромной высоте выпустили натриевое облако.
Посмотрите с Земли на небо: даже в самую ясную ночь пространство между звездами не кажется совсем черным. Глаз улавливает очень слабое свечение, которое отчасти вызвано атомами натрия в атмосфере, на высоте примерно ста миль. Чтобы набрать спичечную коробку натрия, пришлось бы «просеять» не одну кубическую милю ионосферы, вот исследователи и решили, что получится великолепный фейерверк, если забросить на ракете в ионосферу сразу несколько фунтов.
Они не ошиблись. Натрий, выброшенный ракетой в небесах над Уайт-Сендом, образовал большое желтое облако, и целый час, пока не рассеялись атомы, точно сиял искусственный лунный свет. Забавный опыт, однако его провели не ради забавы, он преследовал серьезные научные цели. Приборы, улавливавшие свечение, позволили получить новые данные о верхних слоях атмосферы; эти данные легли в копилку сведений, без которых никогда не удалось бы начать космические полеты.
Прилетев на Луну, американцы решили, что не худо бы повторить опыт, разумеется, в гораздо больших масштабах. Несколько сот килограммов натрия прочертят в лунной атмосфере светящийся след, который легко будет увидеть с Земли в обычный бинокль!
(Кстати, есть люди, которым до сих пор невдомек, что у Луны есть атмосфера. Конечно, слишком разреженная, чтобы можно было дышать, но приборы ее обнаруживают. А роль противометеоритного щита она выполняет превосходно: как-никак, ее толщина достигает сотен миль).
Предстоящий запуск был у всех на устах. Очередная грузовая ракета доставила с Земли натриевую «бомбу». Действие – очень простое: от запала, вспыхивал зажигательный заряд, натрий начинал испаряться, и под давлением паров лопалась перегородка, которая через сопло особой формы выпускала натриевое облако в небеса. Запуск должен был состояться вскоре после наступления ночи. Вырвавшись из лунной тени под солнечные лучи, облако засияет ослепительным светом.
Наступление ночи на Луне – одно из самых потрясающих зрелищ в природе. Особенно, когда глядишь на медленно исчезающий за горами пламенный диск Солнца и думаешь о том, что пройдет четырнадцать земных суток, прежде чем оно покажется вновь… Но закат не сменяется полным мраком, во всяком случае, на этой стороне Луны. Остается недвижно висящая в небе Земля, единственное небесное тело, которое не всходит и не заходит. Отражаемый ее облаками и океанами свет озаряет лунный ландшафт мягким голубовато-зеленым сиянием; и подчас ночью легче ориентироваться, чем днем, когда слепит глаза Солнце.
Даже те, кто был свободен от дежурства, вышли посмотреть. Натриевую «бомбу» поместили в центре большого треугольника, образуемого тремя кораблями; она стояла вертикально, нацеленная на звезды. Доктор Андерсон, астроном американского отряда, проверил запальный механизм; остальные держались поодаль на почтительном расстоянии. «Бомба» выглядела очень грозно, хотя представляла собой не большую опасность, чем сифон для газированной воды.
Были собраны все оптические приборы трех экспедиций. Телескопы, спектроскопы, кинокамеры стояли наготове в ряд. Но это было ничто по сравнению с батареями приборов, которые в этот миг смотрели на нас с Земли. Сегодня ночью все астрономы-любители будут дежурить у себя в саду, слушая радиорепортаж с Луны. Я взглянул на огромную лучезарную планету – похоже, над материками почти нет облаков, видимость на Земле будет хорошая. Что ж, это только справедливо: как-никак, их труд лежит в основе всего, что происходит здесь.
До запуска оставалось пятнадцать минут. В который раз я пожалел, что нельзя, выкурить сигарету в скафандре без ущерба для видимости. Столько гораздо более сложных задач решено нашими учеными, а вот такой пустяк – до сих пор проблема!
Чтобы убить время (наш отряд не участвовал в пуске бомбы), я включил радио и стал слушать Дейва Болтона. Он неплохо вел репортаж. Блестящий математик, Дейв был у нас Главным навигатором. Кроме того, он был боек на язык и любил цветистые обороты; иногда Бибиси приходилось редактировать его репортажи. На этот раз редакторы ничего не могли сделать – через ретрансляционные станции передача шла прямо в эфир.
Дейв кратко и вполне вразумительно объяснил смысл нашего опыта, рассказал, как светящееся натриевое облако, поднимаясь со скоростью около тысячи миль в час, поможет нам судить о лунной атмосфере.
– Однако, – продолжал он, обращаясь к нетерпеливо ожидающим миллионам на Земле,– важно уяснить себе следующее. После запуска «бомбы» первые десять минут вы ничегошеньки не заметите, да и мы тоже. В лунной тени натриевое облако будет совершенно невидимо. И вдруг вспыхнет ярким светом от солнечных лучей, которые сейчас пронизывают космос высоко над нами. Трудно заранее определить силу света, но вы, наверное, увидите его в двухдюймовый телескоп. Пожалуй, даже в сильный бинокль.
В этом духе ему надо было развлекать слушателей еще десять минут; как это удавалось Дейву – выше моего разумения. Но вот наступила великая минута, Андерсон нажал стартовую кнопку. «Бомба» закипела, натрий испарялся, и давление внутри нее росло. Тридцать секунд спустя из длинного узкого сопла, направленного в небо, вдруг вырвался словно клуб дыма. Теперь – ждать еще десять минут, пока незримое облако мчится к звездам. «После такой шумихи,– сказал я себе, – нам просто нельзя сесть в лужу».
Проходили секунды, минуты… Внезапно в небе загорелся желтоватый свет! Ярче, ярче, казалось, некий художник кладет широкой кистью мазки пламени среди звезд. Я пожирал глазами эту необычайную зарю… И вдруг понял, что какой-то мудрец ухитрился побить все рекорды в области рекламы! Мазки складывались в буквы, а буквы образовали два слова – название безалкогольного напитка, достаточно известного, чтобы мне нужно было его расписывать.
Как это сделали? Ответ напрашивался сам. Кто-то поместил в сопло натриевой «бомбы» специальный трафарет, так что струи вырвавшегося пара приняли нужные очертания. Помех никаких, и буквы благополучно проделали свое незримое восхождение к звездам. Мне доводилось видеть на Земле воздушную рекламу, но масштабы не шли ни в какое сравнение. Что бы я ни думал в глубине души об этих ловкачах, нельзя было не восхищаться их изобретательностью. «К» и «А» не совсем удались, зато «О» было гораздо лучше, а «Л» просто безупречно.
Сперва, конечно, все растерялись; к счастью, это длилось недолго, и научная программа была выполнена целиком. Жаль, не помню, как вышел из положения Дейв Болтон; орешек был крепкий даже для его зубов. Правда, половина Земли своими глазами видела то, что он описывал. А на следующее утро все газеты поместили знаменитый снимок лунного серпа с яркими буквами над затемненным сектором.
Больше часа буквы плыли в космосе. Под конец слова растянулись на тысячу миль, и контуры стали совсем расплывчатыми. Потом буквы растаяли в межзвездном вакууме.
А затем начался главный фейерверк… Разъяренный капитан Ванденберг устроил своим людям допрос с пристрастием. Выяснилось, что диверсант – если его можно так назвать – находится на Земле. «Бомбу» готовили там и доставили на Луну в готовом к запуску виде. Немного времени понадобилось, чтобы найти и уволить инженера, который поместил в сопло трафарет. Кажется, он отнесся к этому совершенно спокойно: его материальное благополучие было обеспечено на много лет вперед.
Что же до эксперимента, то с научной точки зрения он принес полный успех. Все приборы действовали безукоризненно, анализируя свечение необычного облака. Ну и подразнили же мы американцев! Боюсь, хуже всего досталось бедняге Ванденбергу. До вылета на Луну он был убежденным трезвенником и пил преимущественно влагу, разлитую в бутылки с осиной талией. Теперь Ванденберг из принципа пьет только пиво, а ведь он его терпеть не может.
Коварный параграф
Я уже рассказал, с какими, гм, маневрами был связан старт первой экспедиции на Луну. А получилось все равно так, что американский, советский и британский корабли прилунились почти одновременно. Однако до сих пор еще никто не объяснил читателям: почему британский корабль вернулся на Землю двумя неделями позже остальных.
Нет, я конечно знаю официальную версию, сам помогал ее сочинять… Она верна до какой-то степени, но не больше.
Наша совместная экспедиция была успешной во всех отношениях. Только один несчастный случай – да и то смерть Владимира Сурова обессмертила его имя. Наши наблюдения обеспечили ученых работой на десятки лет и сулили полный переворот в представлениях об окружающей нас вселенной. Ничего не скажешь, мы хорошо потрудились пять месяцев на Луне, можно было со спокойной душой возвращаться на Землю, где нам готовили встречу, какой мало кто удостаивался до нас.
Но сперва надо было, так сказать, прибрать за собой. Помещенные в разных точках приборы продолжали собирать информацию, которую далеко не всегда можно было передать по радио на Землю. Оставлять на Луне всех людей до последней минуты – тоже ни к чему; один экипаж вполне мог справиться. Но кто вызовется быть «дежурным», предоставив остальным пожинать всю славу? Задача нелегкая, а решить ее требовалось быстро.
Снабжение нас не заботило. Автоматические грузовые ракеты могли обеспечить экипаж воздухом, продовольствием и водой на любой срок. На здоровье никто не жаловался, только на усталость. Врачи опасались психических срывов – и этого не было; видимо, каждый был слишком поглощен увлекательной работой, чтобы сходить с ума. Но всем, конечно, не терпелось вернуться на Землю, увидеть родных и близких.
Наши планы начали ломаться, когда «Циолковский» вышел из строя. Внезапно подался грунт под одной из опор корабля. Он не упал, но корпус покривился, и в герметической кабине появилось множество трещин. Можно было попытаться ремонтировать на месте, и мы долго обсуждали это, но лететь на таком корабле было бы слишком опасно. Русским оставалось только «голосовать», чтобы их подвезли «Годдард» и «Индевер». Горючее с «Циолковского» позволило нам взять дополнительный груз. Конечно, будет тесновато, спать и есть придется посменно…
В общем, первым на Землю должен был вернуться либо американский, либо британский корабль. И в последние недели мы с командором Ванденбергом стали косо смотреть друг на друга. Я уже подумывал, не решить ли вопрос жребием?… И еще одно меня заботило: дисциплина подчиненных. Пожалуй, я выразился слишком сильно – не подумайте, что назревал бунт, просто на всех моих людей напала странная рассеянность, а в свободное время они лихорадочно что-то писали, забившись в разные уголки. Я отлично знал, в чем дело, болезнь и меня не миновала. В нашем экипаже (не только в нашем) не было человека, который не предоставил бы заранее исключительное право на публикацию своих статей тому или иному журналу или газете, и вот теперь истекали последние сроки. Радиотелетайп работал с неослабной нагрузкой, передавая на Землю десятки тысяч слов в день. Еще более пространные отрывки бессмертной прозы диктовались по фоноканалам.
Решить главную задачу помог мне все тот же профессор Уильямс, наш весьма практичный астроном.
– Капитан,– заговорил он, небрежно садясь на шаткий столик, который заменял мне конторку,– насколько я понимаю, нет никаких технических причин, которые принуждали бы нас первыми возвращаться на Землю?
– Никаких,– ответил я.– Речь идет лишь о славе, богатстве и желании поскорее увидеть родных. Техническими эти причины не назовешь. Мы можем остаться здесь еще на год, только бы Земля нас снабжала. Но учтите: если вы это предложите, я охотно задушу вас.
– Зачем же на год! Те, кто останется, последуют за первым отрядом самое позднее через две-три недели. И все будут превозносить их самоотверженность, скромность и прочие качества этого рода.
– Плохое утешение тому, кто вернется вторым.
– Верно. Требуется еще что-то, чтобы оправдать такую жертву. Нечто более осязаемое.
– Согласен. Что вы предлагаете?
На переборке передо мной, между двумя красотками, которых мы стащили на «Годдарде», висел календарь. Красные крестики отмечали, сколько дней мы уже провели на Луне, большой вопросительный знак украшал число вылета первого корабля на Землю.
– Вот ответ. – Уильямс указал на календарь.-Понимаете, что будет, если мы поспешим вернуться? Хорошо, я объясню.
Он объяснил, и я готов был дать себе пинка за то, что не подумал об этом раньше.
На следующий день я сообщил о своем решении Ванденбергу и Краснину.
– Мы останемся и наведем чистоту, – сказал я.– Этого требует здравый смысл. «Годдард» намного вместительнее нашего корабля, он может взять лишних четыре человека, а мы только двоих, да и то будет тесновато. Летите первыми, Ван, избавим несколько человек от ожидания, зачем им без нужды изводиться.
– Это очень благородно с вашей стороны,– ответил Ван-денберг.– Конечно, нам хочется вернуться поскорей. И я согласен, ваше решение самое логичное, раз уж «Циолковский» вышел из строя. Но все-таки вы приносите немалую жертву, мне неловко ее принимать.
Я сделал небрежный жест рукой.
– Об этом не думайте. Лишь бы вы не присвоили себе всю славу, мы можем и подождать немного. И ведь мы останемся тут единоличными хозяевами, когда, вы улетите на, Землю.
Краснин смотрел на меня так внимательно, что я, едва не отвел глаза.
– Я не хочу показаться циничным,– сказал он,– но жизнь научила меня быть начеку, когда люди без веских оснований вдруг становятся непомерно щедрыми. Честно говоря, я не считаю ваши основания достаточно вескими. Признайтесь, вы что-то скрываете от нас?
– Ну, хорошо, – вздохнул я. – Я-то надеялся, что нас хоть немного похвалят, но вас, видно, не убедишь, что у меня самые чистые побуждения. Основание есть, сейчас вы о нем услышите. Только прошу вас: пусть это будет между нами, к чему разочаровывать тех, кто ждет на Земле. Нас считают благородными героями, отважными искателями знаний – пусть так и будет, это для всех же лучше.
Затем я достал свой календарь и объяснил Краснину и Ванденбергу то, что узнал от Уильямса. Они слушали сперва недоверчиво, потом сочувственно.
– Я и не подозревал, что дело обстоит так скверно,– сказал наконец Ванденберг.
– Американцы этого не знают,– печально ответил я.– Так или иначе, вот уже полвека у нас такой порядок, и не видно, чтобы лучше стало. Ну, мое предложение принято?
– Конечно. Нас это вполне устраивает. До следующей экспедиции Луна ваша.
Я вспомнил эти слова две недели спустя, глядя, как «Годдард» умчался к манящему диску Земли. Проводив всех американцев и – кроме двоих – всех русских, мы почувствовали себя довольно одиноко. Завидовали приему, который оказали нашим товарищам, ревниво смотрели по телевидению триумфальные шествия в Москве и Нью-Йорке… А затем вернулись к работе, выжидая своего срока. Когда становилось очень уж тяжко, делали на клочках бумаги кое-какие расчеты, и тотчас к нам возвращалось хорошее настроение.
Красные крестики шагали по календарю, отмечая короткие земные дни, которые только подчеркивали длительность лунных суток. Но вот все готово: сняты показания приборов, тщательно уложены все образцы и экспонаты. Ожили ревущие моторы, и на секунду мы ощутили тяжесть, которую мы вновь обретем на Земле. Быстро уходили вниз ставшие уже привычными суровые лунные ландшафты; еще несколько секунд, и не различить всех тех сооружений и приборов, которые мы так старательно устанавливали и которые когда-нибудь пригодятся новым исследователям.
Мы летели домой. Летели в тесноте, но без приключений. Возле Третьей космической застали наполовину разобранный «Годдард»; оттуда нас быстро переправили в мир, который мы покинули семь месяцев назад.
Семь месяцев – решающая цифра, как справедливо подметил Уильямс. Мы провели на Луне больше половины финансового года; этот год для всех нас оказался самым прибыльным в жизни.
Конечно, рано или поздно эту космическую лазейку законопатят. Налоговое управление все еще доблестно сражается, но мы надежно защищены пунктом 57 параграфа 8 «Закона об основных доходах» от 1972 года. Наши книги и статьи написаны на Луне, и пока там не создали правительства, которое взыскало бы с нас подоходный налог, весь гонорар до последнего пенни – наш.
Если же окончательное решение будет не в нашу пользу… Что ж, остается еще Марс.
Прежде чем мы начнем, хотелось бы подчеркнуть одну вещь, которую многие, похоже, забывают. Двадцать первый век наступит не завтра – он начнется годом позже, 1 января 2001 года. Хотя календари после полуночи будут отсчитывать 2000 год, старый век продлится еще двенадцать месяцев. Каждые сто лет нам, астрономам, приходится снова и снова объяснять это, но все напрасно. Стоит в счете веков появиться двум нулям, как уже идет пир горой! Так вы хотите узнать, какое событие больше всего запомнилось мне за полвека космических исследований… Конечно, уже взяли интервью у фон Брауна? Как он поживает? Приятно слышать; я не видел его после симпозиума в Астрограде в честь его восьмидесятилетия, с тех пор он не прилетал с Луны.
Что говорить, я повидал немало великих событий в истории космонавтики, начиная с запуска первого спутника. В двадцать пять лет я был вычислителем в Капустином Яру, недостаточно важная личность, чтобы присутствовать в контрольном центре, когда шел отсчет последних секунд. Но я слышал старт. Только однажды за всю жизнь я слышал звук, который поразил меня еще сильнее. (Что это было? После скажу). Как только стало известно, что спутник вышел на орбиту, один из ведущих ученых вызвал свой «зил», и мы покатили в Волгоград отмечать событие. Сто километров одолели за то же время, за какое спутник совершил первый оборот вокруг Земли – неплохая скорость! (Кто-то подсчитал, что выпитой на следующий день водки хватило бы для запуска крошки-спутника, который конструировали американцы, но я в этом не уверен).
Большинство учебников истории утверждает, что именно тогда, 4 октября 1957 года, начался Космический Век. Я не собираюсь спорить с ними, но, по-моему, самое увлекательное было потом. Что может сравниться по драматизму с тем случаем, когда военные корабли США мчались на выручку Дмитрию Калинину и в последний миг выловили из Южной Атлантики его капсулу? А радиорепортаж Джерри Уингейта, его красочные эпитеты, на которые ни один цензор не посмел покуситься, когда он обогнул Луну и впервые увидел воочию ее обратную сторону! А всего пять лет спустя – телевизионная передача из кабины «Германа Оберта», когда корабль прилунился на плато в Заливе Радуг. Он и сейчас там стоит вечным памятником людям, которых схоронили рядом с ним…
Все это были великие вехи на пути в космос, но вы ошибаетесь, если думаете, что я буду говорить о них. Меня больше всего поразило совсем другое. Я даже не уверен, сумею ли хорошо рассказать, а если и сумею – как вы это подадите? Ведь нового ничего не будет, газеты тогда только об этом и писали. Но большинство из них упустило самую суть, для прессы это была просто выигрышная «человечная» черточка, только и всего.
Было это через двадцать лет после запуска первого спутника, вместе с другими я находился тогда на Луне. Правда, к тому времени я стал уже слишком важной персоной, чтобы заниматься наукой. Прошло больше десятка лет с тех пор, как я составлял программы для электронной машины; теперь моя задача была несколько сложнее – «программировать» людей, ведь я отвечал за проект АРЕС, готовил первую экспедицию на Марс.
Стартовать, понятно, решили с Луны, там тяготение намного слабее, и для запуска нужно в пятьдесят раз меньше горючего, чем на Земле. Хотели было собирать корабли на орбите спутника – еще меньше горючего надо для вылета,– но когда продумали все как следует, эта идея отпала. Не так-то просто устраивать в космосе заводы и мастерские; невесомость скорее мешает, чем помогает, когда вам нужно, чтобы все предметы беспрекословно слушались вас. К тому времени, в конце семидесятых годов, Первая Лунная База работала полным ходом. Химические заводы и всякие мелкие предприятия производили все для поселка. И мы решили использовать их, вместо того, чтобы ценой огромных усилий и затрат сооружать в космосе новые.
«Альфу», «Бету» и «Гамму» – три корабля экспедиции –собирали на дне Платона. Здесь в кольце гор простерлась, пожалуй, самая гладкая равнина этой стороны Луны, и настолько обширная, что наблюдателю, стоящему в ее центре, и не придет в голову, что он находится на дне кратера: горы скрыты далеко за горизонтом. Герметичные купола базы стояли в десяти километрах от стартовой площадки и были связаны с ней канатной дорогой; эти дороги очень нравятся туристам, но, на мой взгляд, сильно уродуют лунный пейзаж.
В первые дни освоения жизнь на Луне была далеко не сладкой, мы не могли и мечтать об удобствах, которые теперь стали обычными. Центральный Купол, с его парками и озерами, тогда существовал только на ватманской бумаге; впрочем, мы все равно не смогли бы им насладиться, проект АРЕС поглощал нас всецело. Человек готовился совершить первый прыжок в большой космос; уже в ту пору мы рассматривали Луну всего лишь как предместье Земли, камень в реке, на который можно опереться и прыгнуть, куда тебе надо. Наши мысли лучше всего выразить словами Циолковского – они висели у меня в кабинете на стене, чтобы каждый мог видеть:
НАША ПЛАНЕТА ЕСТЬ КОЛЫБЕЛЬ РАЗУМА, НО НЕЛЬЗЯ ВЕЧНО ЖИТЬ В КОЛЫБЕЛИ.
(Что вы сказали? Нет-нет, я никогда не встречался с Циолковским. В 1935 году, когда он умер, мне было всего четыре года!)
После многих лет секретности было очень приятно работать рука об руку с людьми всех наций над проектом, осуществлять который помогал весь мир. Из моих четырех заместителей один был американец, другой – индиец, третий – китаец, четвертый – русский. И хотя ученые разных стран всячески старались перещеголять друг друга, это было полезное соперничество, оно только шло на благо нашему делу. Посетителям, не забывшим старые недобрые времена, я не раз с гордостью напоминал:
– На Луне нет секретов.
Ну так вот, я ошибался: секрет был, притом у меня под носом, в моем собственном управлении. Возможно, я бы и заподозрил что-нибудь, если бы бесчисленные детали проекта АРЕС не заслонили от меня все прочее. Теперь-то, оглядываясь назад, я вижу, что было вдоволь всевозможных намеков и признаков, но тогда я ничего не заметил.
Правда, от моего внимания не ускользнуло, что Джим Хатчинс, мой молодой заместитель-американец, становится все более рассеянным, словно его что-то заботило. Раз или два пришлось даже сделать ему выговор за небольшие упущения; он обижался и заверял, что это не повторится. Хатчинс был типичный, ярко выраженный колледж-бой, каких Соединенные Штаты поставляют в изрядных количествах, очень добросовестный, хотя звезд с неба не хватал. Он уже три года был на Луне и едва ли не первым забрал с Земли свою жену, как только отменили ограничения. Я так никогда и не выяснил, каким образом он оказался замешанным в этой истории; видимо, сумел нажать тайные пружины, хотя уж его-то никак нельзя было представить себе главным действующим лицом международного заговора. Да что там международного – тут и Луна участвовала, десяток людей, вплоть до высшего начальства в Управлении Астронавтики.
Мне до сих пор кажется чудом, что они сумели все сохранить в тайне.
Восход солнца начался уже два дня назад по земному времени, но хотя четкие тени заметно укоротились, до лунного полудня было еще пять дней. Мы готовились провести первое статическое испытание двигателей «Альфы»; силовая установка была вся смонтирована, корпус корабля собран. Стоя на равнине, «Альфа» напоминала скорее часть нефтеперегонного комбината, чем космический корабль, но нам она казалась прекрасной, символом будущих завоеваний.
Момент ответственный: еще никогда не делали таких мощных термоядерных двигателей, и несмотря на все старания, полной уверенности не было. Если теперь что-нибудь не сработает, проект АРЕС может быть оттянут не на один год… Отсчет времени уже начался, когда ко мне подбежал Хатчинс – бледный и озабоченный.
– Мне нужно немедленно доложить на Базу,– выпалил он.– Это очень важно!
– Важнее испытания? – язвительно осведомился я, сдерживая досаду.
Он помялся, словно хотел мне что-то объяснить, потом коротко ответил:
– Да, пожалуй…
– Хорошо,-сказал я, он тотчас исчез.
Я мог бы потребовать у него объяснения, но подчиненным надо доверять. Возвращаясь к центральному пульту управления, я раздраженно говорил себе, что сыт по горло этим взбалмошным юнцом, надо будет попросить, чтобы его забрали от меня. И ведь что всего удивительнее: он не меньше других волновался, как пройдет испытание, а сам вдруг умчался по канатной дороге на Базу. Пузатый цилиндр кабины уже был на полпути к следующей опоре, скользя по едва заметным тросам подобно какой-то невиданной птице.
Пять минут спустя я совсем разозлился. Целая группа приборов-самописцев вдруг забастовала, пришлось отложить испытания на три часа. Я метался в контрольном центре, твердя всем и каждому (благо им некуда было от меня спастись), что у нас в Капустином Яру таких вещей не случалось. Наконец, после второй чашки кофе я слегка успокоился; и тут в динамиках прозвучал сигнал «слушайте все». Только один сигнал считался еще важнее – вой аварийных сирен. За все мои годы в Лунном поселке я дважды слышал его – и надеюсь больше никогда не услышать.
Голос, который затем раздался в каждом помещении на Луне и в наушниках каждого рабочего на безмолвных равнинах, принадлежал генералу Моше Стайну, председателю Управления Астронавтики. (Тогда еще существовали всякие почетные титулы, хотя никто уже не придавал им значения).
– Я говорю из Женевы,– начал генерал Стайн,– на мою долю выпало сделать важное сообщение. Последние девять месяцев проходил ответственнейший эксперимент. Мы держали его в секрете, считаясь с непосредственными участниками опыта и не желая пробуждать ненужных надежд или опасений. Вы помните, еще недавно многие специалисты вообще не верили, что человек сможет жить в космосе; и на сей раз нашлись пессимисты, они сомневались, удастся ли сделать следующий шаг в покорении вселенной. Теперь доказано, что они ошибались: разрешите представить вам Джорджа Джонатана Хатчинса, первого Уроженца Космоса.
Последовал щелчок – какое-то переключение,– затем пауза, непонятные шорохи и шепот. И вдруг на всю Луну и половину Земли – звук, о котором я обещал вам рассказать, самый поразительный звук, какой мне довелось слышать за всю свою жизнь.
Это был слабый плач новорожденного младенца, первого в истории человечества, который родился вне Земли! В полной тишине, воцарившейся в контрольном центре, мы поглядели сперва друг на друга, потом на корабли на сияющей равнине. Всего несколько минут назад нам казалось, что на свете нет ничего важнее их. И вот им пришлось отступить перед тем, что произошло в Медицинском Центре – и что будет в грядущих веках происходить миллиарды раз в бесчисленных мирах.
Вот тогда-то, уважаемые, друзья, я почувствовал, что человек действительно утвердился в космосе.
Неистовый лай в первый миг только раздосадовал меня. Я повернулся на другой бок и сонно буркнул:
– Замолчи, глупая собака.
Но дремота длилась лишь долю секунды; тут же я совсем очнулся, вернулось сознание, и с ним пришел страх. Страх одиночества, страх безумия.
Я боялся открыть глаза, боялся увидеть. Рассудок говорил мне, что еще ни одна собака не ступала на поверхность этого мира, что между мной и Лайкой – четверть миллиона миль в пространстве, больше того – пять лет во времени.
Тебе приснилось,– сердито сказал я себе.– Не будь идиотом, открой глаза! Крашеные стены, вот все, что ты увидишь.
Разумеется, так и было. Крохотная кабина пуста, дверь плотно затворена. Я был наедине со своими воспоминаниями, во власти неясной печали, которая часто овладевает человеком, когда яркий сон сменяется тусклой действительностью. Ощущение утраты было настолько горьким, что хотелось снова уснуть. Хорошо, что я устоял: в тот миг сон был равносилен смерти. Но я не подозревал этого еще пять секунд – целую вечность, которую я провел на Земле, ища утешения в прошлом.
Откуда взялась Лайка, так и не удалось установить, хотя сотрудники обсерватории расспрашивали знакомых, а я поместил несколько объявлений в газетах Пасадены. Я нашел ее – одинокий, брошенный комок шерсти – на обочине шоссе летним вечером, направляясь в Паломар. Я не любил собак, вообще не любил животных, но нельзя же бросить беспомощное маленькое существо на произвол судьбы, которую олицетворяли стремительные автомашины. Подавляя отвращение и жалея, что нет перчаток, я подобрал ее и затолкал в багажник. Мне вовсе не хотелось рисковать обивкой моей новенькой машины, а в багажнике собака, как мне казалось, не могла натворить большой беды. Я ошибся.
Остановив машину возле «Монастыря» (жилой дом для астрономов, где мне предстояло провести следующую неделю), я без особого восторга изучил свою находку. Сперва-то я думал отдать щенка сторожу, но тут песик заскулил и открыл глаза. Он смотрел так беспомощно, так доверчиво… Словом, я передумал.
После я иногда жалел об этом, правда, недолго. Я и не подозревал, сколько хлопот может доставить подрастающий пес, намеренно и нечаянно. Счета за чистку и починку росли, особенно страдали мои носки и «Астрофизический журнал». Но в конце концов Лайка научилась вести себя и дома, и в обсерватории; мне кажется, из всех собак только она одна побывала внутри купола, где помещался двухсотдюймовый телескоп. Там она могла часами тихо лежать в укромном уголке, а я занимался наладкой в своей клетушке; ей достаточно было слышать мой голос. Другие астрономы не меньше моего привязались к ней (имя «Лайка» предложил наш физик, старик Андерсон), но с самого начала она была моей собакой и больше никого не слушалась. Да и мне она не всегда подчинялась.
Это было великолепное животное, почти чистокровная восточноевропейская овчарка. Видимо, из-за этого «почти» ее и бросили. (До сих пор злюсь, как вспомню, а может быть, это зря, ведь я не знаю, как было дело). Если не считать двух темных пятен над глазами, она была дымчато-серой, с мягкой, шелковистой шерстью. Когда уши торчали, она казалась необычайно умной и внимательной. Обсуждая с коллегами типы спектров или эволюцию звезд, я готов был поверить, что Лайка следит за нашей беседой.
Я по сей день не могу понять, почему она так привязалась ко мне; даже среди людей у меня друзей очень мало. И, однако, когда я после долгого отсутствия возвращался в обсерваторию, она выходила из себя от восторга, прыгала на задних лапах, опираясь передними на мои плечи (она шутя дотягивалась до них), и радостный визг совсем не вязался с могучим ростом Лайки. Уж я старался не уезжать надолго; в дальние путешествия нельзя было взять с собой собаку, но в коротких поездках она почти всегда меня сопровождала.
Лайка была со мной и в тот раз, когда я поехал на север, чтобы участвовать в этом злополучном семинаре в Беркли. Нас приютили мои друзья по университету. При всей их учтивости было очевидно, что их не радует присутствие в доме такого чудовища. Я заверил хозяев, что Лайка ведет себя безупречно; с большой неохотой они разрешили мне держать ее в комнате.
– Сегодня ночью вы можете не бояться грабителей, – сказал я.
– В Беркли грабителей нет,– последовал ответ.
Но среди ночи мне на миг почудилось, что они ошиблись. Меня разбудил яростный визгливый лай, я слышал от Лайки такое только раз – когда она впервые увидела корову и не могла понять, что это такое. Бранясь, я сбросил одеяло и нырнул в мрак незнакомого дома. Главное утихомирить Лайку, не дать ей разбудить хозяев, если только я не опоздал. Грабитель, конечно же, давно удрал. Я от души надеялся, что это так…
Несколько секунд я стоял возле выключателя на лестничной площадке. Зажигать или не зажигать? Наконец я рявкнул: «Молчи, Лайка!» – и нажал кнопку; холл внизу озарился ярким светом.
Лайка неистово скреблась в дверь и продолжала визгливо лаять.
– Если тебе надо погулять,– сердито сказал я,– вовсе не обязательно поднимать такой шум!
Я спустился, отодвинул задвижку, и собака ракетой вырвалась наружу.
Было тихо, безветренно, лунный серп боролся с санфранцискским туманом. Стоя в светлой мгле, я смотрел через залив на огни города и ждал Лайку, чтобы отчитать ее по заслугам. Я все еще ждал, когда – во второй раз в двадцатом столетии – пробудились от спячки здешние подземные силы.
Как ни странно, я не испугался, во всяком случае, в первый миг. Помню, прежде чем я осознал угрозу, две мысли мелькнули у меня в голове. «Уж эти геофизики,– сказал я себе,– могли бы хоть как-то предупредить нас». И удивился: «Вот не думал, что от землетрясения такой шум!»
Почти одновременно до меня дошло, что толчок незаурядный. О том, что было дальше, предпочитаю не вспоминать. Только на следующий день спасателям удалось увезти меня: я отказывался расстаться с Лайкой. Глядя на рухнувший дом, в котором лежали тела моих друзей, я знал, что обязан ей жизнью. Но разве можно было требовать от пилотов вертолета, чтобы Они это понимали? Не упрекну их и за то, что они сочли меня обезумевшим, ведь столько несчастных бродило среди обломков и пожарищ…
С той поры мы разлучались разве что на несколько часов. Мне говорили – и я охотно верю этому,– что я все меньше и меньше интересовался обществом людей, хотя и не стал отшельником или мизантропом. Звезды и Лайка заполняли все мое рабочее время и досуг. Мы подолгу гуляли вместе по горам, это было самое счастливое время моей жизни. И лишь одно облако омрачало горизонт: я знал, в отличие от Лайки, что счастью скоро придет конец.
Переброска готовилась уже больше десяти лет. Еще в шестидесятых годах было признано, что Земля – неподходящее место для астрономической обсерватории. На Луне даже малогабаритные навигационные приборы намного превзошли возможности всех телескопов, которые глядели в космос сквозь мрак и мглу земной атмосферы. Исчерпалась история Маунт-Вильсон, Паломара, Гринвича и других славных обсерваторий. Для обучения они еще годились, но границы исследования надо было переносить в космос.
И я должен переехать. Мне уже предложили должность заместителя директора обсерватории Фарсайда. В несколько месяцев я решу проблемы, над которыми бился много лет. За пределами атмосферы я узнаю, что значит быть слепым, который вдруг обрел зрение.
Конечно, нечего было и говорить о том, чтобы взять с собой Лайку. На Луну допускались только подопытные животные; наверное, пройдет еще не один десяток лет, прежде чем можно будет заводить там любимцев, да и то понадобится целое состояние, чтобы доставить их туда – и прокормить. Я подсчитал, что моего – совсем неплохого!-жалованья никак не хватит: Лайка привыкла съедать два фунта мяса в день.
Выбор был предельно прост. Я мог остаться на Земле, отказавшись от ученой карьеры. Или отправиться на Луну – отказавшись от Лайки.
В конечном счете она была всего лишь собака. Десяток лет, и Лайка умрет; к этому времени я могу достичь зенита своей ученой карьеры. Ни один здравомыслящий человек не стал бы колебаться, все же я колебался, и если вы до сих пор не поняли, почему, то никакие мои слова не помогут.
Приговор был вынесен заочно. До последней недели я не

мог решить, как поступить с Лайкой. И когда доктор Андерсон вызвался присмотреть за ней, я вяло согласился, забыв даже как следует поблагодарить. Старый физик и его жена с первого дня полюбили Лайку; боюсь, я показался им человеком бесчувственным и бессердечным. А ведь было как раз наоборот.
Мы в последний раз прошли с ней вместе по холмам, затем я молча вручил собаку Андерсонам и больше ее не видел.
Вылет задержался почти на сутки, ждали, пока уймется сильное магнитное возмущение, да и то активность поясов Ван-Аллена была настолько велика, что мы выходили через «трубу» над Северным полюсом. Невесомость всегда неприятна, а впридачу мы все осовели от антирадиационных медикаментов. Когда я снова стал интересоваться окружающим, корабль был уже над Фарсайдом; не увидел я, как Земля ныряет за горизонт. Да я и не очень-то жалел об этом, мне тогда совсем не хотелось вспоминать прошлое, я предпочитал думать только о будущем. Меня преследовало чувство вины: я покинул существо, которое меня любило, верило в меня. Чем я лучше тех, кто бросил щенка на обочине пыльного Паломарского шоссе?
Весть о том, что она умерла, пришла через месяц. И никакой видимой причины, Андерсоны делали для нее все, и они сильно горевали. Просто Лайке не хотелось жить. Несколько дней я сам думал о смерти, но труд – великое лекарство, а моя программа развивалась полным ходом. Забыть Лайку я не мог, но постепенно воспоминания перестали причинять боль.
Почему же они с такой силой вернулись теперь, пять лет спустя, на обратной стороне Луны?… Я пытался понять, в чем дело; вдруг все здание вздрогнуло, точно от могучего удара. Дальше я действовал не размышляя, руки сами закрыли гермошлем аварийного скафандра, когда опоры подались и стена распахнулась, выпустив на волю взвизгнувший воздух. Благодаря тому, что я автоматически нажал кнопку Общей Тревоги, мы потеряли всего двоих, хотя толчок – самый сильный из всех, зарегистрированных на Фарсайде,-разрушил все три герметических купола обсерватории.
Нужно ли говорить, что я не верю в сверхъестественные силы. Все, что произошло, объясняется рационально, нужно лишь немного разбираться в психологии. Во время второго санфранцискского землетрясения Лайка была не единственной собакой, которая почуяла близкую беду; известно много случаев. И когда мое недремлющее подсознание уловило первые, слабые вибрации в недрах Луны, настороженный воспоминаниями рассудок тотчас отозвался.
Человеческий разум избирает необычные и хитроумные пути, он знал, какой сигнал быстрее всего дойдет до меня. Вот и все. Конечно, можно сказать, что в обоих случаях меня разбудила Лайка, но тут и не пахнет мистикой, не было никакого чудесного зова через бездну, которой ни человеку, ни собаке не дано преодолеть.
В чем, в чем, а уж в этом я уверен. И все-таки случается, я просыпаюсь в лунном безмолвии, мечтая, чтобы сон продлился несколько секунд, чтобы я еще раз мог заглянуть в эти ясные карие глаза, исполненные бескорыстной, чистой любви, равной которой я не нашел нигде – ни на Луне, ни в других мирах.
Похоже, что здесь дорога кончается,– сказал Джерри Гарфилд, выключая моторы.
Тихо вздохнув, насосы смолкли, и разведочный вездеход «Бродячий драндулет», лишившись воздушной подушки, лег на острые камни Гесперийского плато.
Дальше пути не было. Ни насосы, ни гусеницы не помогли бы «Р-5» (как официально назывался «Драндулет») одолеть выросший впереди эскарп. До Южного полюса Венеры оставалось всего тридцать миль, но с таким же успехом он мог находиться на другой планете. Хочешь, не хочешь, надо возвращаться, снова идти все эти четыреста миль среди чудовищного ландшафта.
День был на диво ясный, видимость почти тысяча ярдов. Не требовалось никакого радара, чтобы следить за утесами, вырастающими на пути вездехода; на этот раз их было видно невооруженным глазом. Сквозь пелену туч, которая не разрывалась уже много миллионов лет, просачивался зеленый свет, будто в подводном царстве; к тому же вдали все расплывалось во мгле. Так и казалось порой, что вездеход скользит над морским дном, и Джерри то и дело чудились, вверху, над головой, плывущие рыбины.
– Связаться с кораблем и передать, что возвращаемся? – спросил он.
– Погодите,– сказал доктор Хатчинс.– Надо подумать.
Джерри взглянул на третьего члена экипажа, надеясь на поддержку. Напрасно. Коулмен такой же одержимый, как Хатчинс. Как бы неистово они ни спорили между собой, оба оставались учеными, то есть – с точки зрения рассудительного инженера-штурмана – людьми, которые не всегда способны отвечать за свои поступки. И однако, если Коулу и Хатчу втемяшится в голову продолжать путь, ему останется только выполнять приказ, записав свой протест…
Хатчинс прошелся по тесной кабине, изучая карты и приборы. Потом направил прожектор вездехода на скальную стенку и стал внимательно разглядывать ее в бинокль.
«Не может быть, чтобы он потребовал от меня штурмовать эту скалу,– подумал Джерри.– „Р-5“, как-никак, всего лишь вездеход, а не горный козел…»
Вдруг Хатчинс что-то увидел. На миг задержав дыхание, он затем шумно выдохнул и повернулся к Коулмену.
– Посмотрите! – Его голос дрожал от волнения.– Чуть левее черного пятна! Что это, по-вашему?
Он передал Коулмену бинокль; теперь тот замер, всматриваясь.
– Черт возьми,– вымолвил он наконец.– Вы были правы. На Венере есть реки. Это след высохшего водопада.
– Учтите, за вами обед в «Бель Гурмете», как только вернемся в Кембридж. С шампанским!
– Запомню, не бойтесь. Да за такое открытие не только что обед!… И все-таки ваши теории любой назовет сумасбродными.
– Стоп, стоп,– вмешался Джерри.– Какие еще тут реки-водопады? Каждый знает, что их на Венере нет и не может быть. В здешней бане такая жарища, пары никогда не сгущаются…
– Вы давно глядели на термометр? – вкрадчиво спросил Хатчинс.
– Тут только успевай вездеходом управлять!
– Тогда позвольте сообщить вам одну новость: сейчас около двухсот тридцати, а температура продолжает падать. По Фаренгейту точка кипения – двести двенадцать градусов. Не забывайте, мы почти у Полюса, сейчас зима, и мы на высоте шестидесяти тысяч футов над равниной. Все вместе взятое дает такой скачок, что если похолодает еще на несколько градусов – польет дождь. Кипящий, но все-таки дождь, вода, а не пар. А это, сколько бы Джордж ни упирался, совершенно меняет наше представление о Венере.
– Почему? – спросил Джерри, хотя он уже и сам догадался.
– Где есть вода, может быть жизнь. Мы излишне поторопились назвать Венеру бесплодной только потому, что средняя температура на поверхности превышает пятьсот градусов. Уже тут намного холоднее – вот почему я так рвусь к Полюсу. Здесь, в горах, есть озера, и я хочу взглянуть на них!
– Но ведь кипящая вода! – возразил Коулмен.-В ней ничто не может жить.
– На Земле есть водоросли, живут. И разве исследование планет не научило нас: везде, где только может возникнуть жизнь, она возникает. Пожалуйста, – возможность, пусть единственная, налицо.
– Хотелось бы проверить вашу теорию. Но вы же видите: по этой скале не подняться.
– На вездеходе не подняться, верно. Но влезть самим по стенке вполне можно, даже в термокостюмах. Нам всего-то надо пройти несколько миль к полюсу. Главное эту стенку одолеть, дальше местность ровная, это видно по радарным картам. Думаю, уложимся в… ну, от силы двенадцать часов. Как будто мы не ходили дольше – и в куда более сложных условиях.
Это верно. Одежда, которая надежно защищает человека на равнинах Венеры, и подавно годится здесь, где темпера-

тура всего на сотню градусов выше, чем летом в Долине Смерти на Земле.
– Хорошо,– сказал Коулмен,– вы знаете правила. Одному выходить нельзя, и кто-то должен оставаться в вездеходе, держать связь с кораблем. Как решим вопрос на этот раз: шахматы или карты?
– Шахматы слишком долго,– ответил Хатчинс,– особенно, когда играете вы двое.
Из ящика штурманского столика он достал потрепанную колоду.
– Тяните, Джерри.
– Десятка пик. Ну-ка побейте ее, Джордж.
– Постараюсь… Черт! Пятерка треф. Что ж, передайте привет от меня венерианцам.
Вопреки уверениям Хатчинса, стенка оказалась трудной. Не так уж и круто, но кислородный прибор, охлаждаемый термокостюм и научные приборы весили больше ста фунтов. Меньшая гравитация – на тринадцать процентов ниже земной – выручала, да не очень. Они карабкались по осыпям, отдыхали на уступах и снова карабкались в подводных сумерках. Зеленое сияние, которое озаряло все вокруг, было ярче света полной Луны на Земле. «Венере луна ни к чему,– подумал Джерри.– Ее не увидишь сквозь тучи, и нет никаких океанов, чтобы управлять приливом – отливом, к тому же немеркнущее полярное сияние гораздо более надежный источник света».
Они поднялись больше, чем на две тысячи футов, когда стенка наконец сменилась отлогим склоном. Его исчертили канавы, явно промытые текущей водой. Поискав немного, они вышли к лощине, достаточно широкой и глубокой, чтобы ее можно было назвать руслом реки, и стали подниматься вдоль нее.
– Знаете, я о чем подумал,– сказал Джерри, пройдя несколько сот ярдов.– А не нарвемся мы на бурю? Не хотел бы я встретиться с валом кипящей воды.
– Если будет буря, – чуть раздраженно ответил Хатчинс, не останавливаясь,– мы издали ее услышим. Успеем подняться повыше.
Он прав, конечно, но Джерри от этого не стало легче. С той минуты, как они перевалили через гребень и потеряли радиосвязь с вездеходом, в его душе росла тревога. Непривычно и неприятно было оказаться оторванным от других людей. С Джерри это случилось впервые. Даже на борту «Утренней Звезды», в сотнях миллионов миль от Земли, он мог отправить телеграмму своим близким и почти сразу получить ответ. А тут несколько ярдов скалы отрезали его от всего человечества; случись с ними что-нибудь, никто об этом не узнает, разве что другая экспедиция набредет на их тела. Джордж подождет, сколько условлено, и возвратится к кораблю один. «Нет,-сказал себе Джерри, – плохой из меня пионер космоса. Только любовь к хитрым машинам втравила меня в космические полеты… И некогда было даже задуматься, к чему это может привести. А теперь поздно».
Вдоль извилистого русла они прошли мили три к полюсу, наконец Хатчинс остановился, чтобы провести наблюдения и собрать образцы.
– Похолодание продолжается! – воскликнул он.– Сейчас уже сто девяносто девять градусов. Намного ниже самой низкой температуры, какую до сих пор отмечали на Венере.
Вот бы связаться с Джорджем и рассказать ему!
Джерри проверил все волны, попробовал вызвать и корабль – прихотливые колебания ионосферы иногда допускали такую дальнюю связь,– но не мог даже уловить шороха несущей частоты сквозь треск и рокот гроз Венеры.
– А это будет даже еще поважнее! – В голосе Хатчинса звучало неподдельное волнение.– Концентрация кислорода возрастает: уже пятнадцать миллионных. У вездехода было всего пять, на равнине почти ничего.
– Но ведь это пятнадцать миллионных! – возразил Джерри.– Все равно нечем дышать!
– Вы не с того конца подходите,– отозвался Хатчинс,– Никто им не дышит. Но что-то его образует. Откуда, по-вашему, взялся кислород на Земле? Он – продукт жизни, деятельности растений. Пока на Земле не появились растения, у нас была атмосфера вроде здешней, смесь углекислоты с аммиаком и метаном. Затем возникла растительность и постепенно изменила атмосферу, так что животным стало чем дышать.
– Понятно,– сказал Джерри.– И вы думаете, как раз это теперь началось здесь?
– Похоже, что так. Нечто неподалеку отсюда выделяет кислород. Самая простая догадка – здесь есть растительная жизнь.
– А где есть растения,– задумчиво произнес Джерри,– там, очевидно, рано или поздно появляются животные.
– Верно,– ответил Хатчинс, собирая свои приборы и продолжая путь вверх по лощине.– Правда, на это нужно несколько миллионов лет. Возможно, мы прилетели слишком рано. Жаль, если так.
– Все это здорово,– сказал Джерри,– но вдруг мы встретим что-нибудь такое, что нас не взлюбит? У нас нет оружия.
Хатчинс неодобрительно фыркнул.
– Оно нам не нужно! Да вы посмотрите хоть на меня, хоть на себя! Любой зверь при виде нас пустится наутек.
Что верно, то верно. Покрывающий их с ног до головы металлизированный костюм-рефлектор напоминал блестящие гибкие доспехи. Из шлемов и ранцев торчали антенны – ни одно насекомое не могло похвастаться такими усиками. А широкие линзы, через которые космонавты глядели на мир, напоминали чудовищные бездумные глаза. Земные животные вряд ли пожелали бы связываться с такими тварями, но у здешних могут быть свои представления.
Так думал Джерри, когда они неожиданно вышли к озеру. С первого взгляда оно навело его на мысль не о жизни, которую они искали, а о смерти. Оно простерлось черным зеркалом в складке между холмами, и дальний берег терялся в вечном тумане, а над поверхностью извивались и плясали призрачные вихри пара. «Не хватает только Харона, готового перевезти нас на ту сторону,– сказал себе Джерри.– Или Туонельского лебедя, чтобы он величественно плавал взад-вперед, охраняя врата преисподней…».
Но как ни взгляни, это чудо: впервые человек нашел на Венере воду в свободном состоянии! Хатчинс уже стоял на коленях, будто задумал молиться. Впрочем, он всего-навсего собирал капли драгоценной влаги, чтобы рассмотреть их через карманный микроскоп.
– Что-нибудь есть? – нетерпеливо спросил Джерри.
Хатчинс покачал головой.
– Если что и есть, слишком мелкое для этого прибора. Вот вернемся на корабль, там я получше все разгляжу.
Он запечатал пробирку и положил ее в контейнер любовно, как геолог – золотой самородок. Быть может (и скорее всего), это самая обыкновенная вода. Но возможно также, что это целый мир, населенный неведомыми живыми созданиями, только-только ступившими на долгий, длиной в миллиарды лет, путь к разумной жизни.
Пройдя с десяток ярдов вдоль озера, Хатчинс остановился так внезапно, что Гарфилд едва не натолкнулся на него.
– В чем дело? – спросил Джерри. – Что-нибудь увидели?
– Вон то черное пятно, словно камень… Я его приметил еще до того, как мы вышли к озеру.
– Ну, и что с ним? По-моему, ничего необычного.
– Мне кажется, оно растет.
После Джерри всю жизнь вспоминал этот миг. Слова Хатчинса не вызвали у него никакого сомнения, он был готов поверить во что угодно, даже в то, что камни растут. Чувство уединенности и таинственности, угрюмое черное озеро, непрерывный рокот далеких гроз, зеленый свет полярного сияния – все это повлияло на его сознание, подготовило к приятию даже самого невероятного. Но страха он пока не ощущал.
Джерри взглянул на камень. Футов пятьсот до него, примерно… В этом тусклом изумрудном свете трудно судить о расстояниях и размерах. Камень… А может, еще что-то? Почти черная плита, лежит горизонтально у самого гребня невысокой гряды. Рядом такое же пятно, только намного меньше. Джерри попытался прикинуть и запомнить расстояние между ними, чтобы проследить, меняется оно или нет.
И даже когда он заметил, что просвет между пятнами сокращается, это не вызвало у него тревоги, только напряженное любопытство. Лишь после того, как просвет совсем исчез и Джерри понял, что глаза подвели его, ему стало страшно – очень страшно.
Нет, это не движущийся и не растущий камень! Это черная волна, подвижный ковер, который медленно, но неотвратимо ползет через гребень прямо на них.
Ужас – леденящий, парализующий – владел им, к счастью, всего несколько секунд. Страх пошел на убыль, как только Гарфилд понял, что его вызвало. Надвигающаяся волна слишком живо напомнила ему прочитанный много лет назад рассказ о муравьиных полчищах в Амазонас, как они истребляют все на своем пути…
Но чем бы ни была эта волна, она ползла слишком медленно, чтобы серьезно угрожать им – лишь бы она не отрезала их от вездехода. Хатчинс, не отрываясь, разглядывал ее в бинокль. «Биолог не трусит,– подумал Джерри.– С какой стати мне удирать, сломя голову, курам на смех».
– Скажите же наконец,– что это? – не выдержал он: до ползущего ковра оставалось всего около сотни ярдов, а Хатчинс все еще не вымолвил ни слова, не пошевельнул ни одним мускулом.
Хатчинс сбросил с себя оцепенение и ожил. Простите,– сказал он.– Я совершенно забыл о вас. Это – растение, что же еще. Так мне кажется, во всяком случае.
– Но оно движется!
– Ну, и что? Земные растения тоже двигаются. Вы никогда не видели замедленных съемок плюща?
– Но плющ стоит на месте и никуда не ползет!
– А что вы скажете о растительном планктоне в океанах? Он плавает, перемещается, когда надо.
Джерри сдался; впрочем, наступающее на них чудо все равно лишило его дара речи.
Мысленно он продолжал называть его ковром. Ворсистый ковер с бахромой по краям, толщина которого все время менялась: тут не толще пленки, там – около фута, а то и больше. Вблизи строение было лучше видно, и он показался Джерри похожим на черный бархат. Интересно, какой он на ощупь? Но тут же Гарфилд сообразил, что «ковер» в лучшем случае обожжет ему пальцы. Внезапный шок часто влечет за собой приступ нервного веселья, и он поймал себя на мысли: «Если венерианцы существуют, с ними не поздороваешься за руку. Они нас ошпарят, мы их обморозим…»
Пока что оно их как будто не заметило, просто-напросто скользило вперед, как неодушевленная волна. Если бы оно не карабкалось через мелкие препятствия, его вполне можно было бы сравнить с потоком воды.
Вдруг, когда их разделяло всего десять футов, бархатная волна изменила свое движение. Правое и левое крыло продолжали скользить вперед, но середина медленно остановилась.
– Окружает нас,– встревожился Джерри.– Лучше отступить, пока мы не уверены, что оно безобидно.
К его облегчению, Хатчинс тотчас сделал шаг назад. После короткой заминки странное существо снова двинулось с места, и изгиб в его передней части сгладился.
Тогда Хатчинс шагнул вперед – существо медленно отступило. Несколько раз биолог повторял свой маневр, и живой поток неизменно то наступал, то отступал в такт его движениям. «Никогда не думал, – сказал себе Джерри,-что мне доведется увидеть, как человек вальсирует с растением…».
– Термофобия,– произнес Хатчинс– Чисто автоматическая реакция. Ему не нравится наше тепло.
– Наше тепло! – воскликнул Джерри.– Да ведь мы по сравнению с ним живые сосульки!
– Верно. А наши костюмы? Оно воспринимает их, не нас.
Да, сглупил, мысленно вздохнул Джерри. Внутри термокостюма климат отменный, но ведь охлаждающая установка у меня за спиной выделяет в окружающий воздух струю жара. Не удивительно, что это растение отпрянуло.
– Проверим, как оно отзовется на свет,– продолжал Хатчинс.
Он включил фонарь на груди, и ослепительно белый свет оттеснил изумрудное сияние. До появления на Венере людей здесь даже днем не бывало белого света. Как в глубинах земных морей, царили зеленые сумерки, которые медленно сгущались в кромешный мрак.
Превращение было настолько ошеломляющим, что оба невольно вскрикнули. Глубокая, мягкая чернота толстого бархатного ковра мгновенно исчезла. Вместо нее там, куда падал свет фонаря, простерся, поражая глаз, великолепный, яркий красный покров, обрамленный золотистыми бликами. Ни один персидский шах не получал от своих ткачей столь изумительного гобелена, а ведь космонавты видели случайное

творение биологических сил. Впрочем, пока они не включали своих фонарей, этих потрясающих красок вообще не существовало – и они снова исчезнут, едва прекратится волшебное действие чужеродного света с Земли.
– Тихов был прав,– пробормотал Хатчинс. – Жаль, не довелось ему убедиться.
– В чем прав? – спросил Джерри, хотя ему казалось святотатством говорить вслух перед лицом такой красоты.
– Пятьдесят лет назад, в Советском Союзе, он пришел к выводу, что растения, живущие в очень холодном климате, чаще всего бывают голубыми и фиолетовыми, а в очень жарких поясах – красными или оранжевыми. Он предсказал, что растения Марса окажутся фиолетовыми, а Венеры – если они там есть – красными. И в обоих случаях оказался прав. Но мы не можем стоять так весь день, надо работать!
– Вы уверены, что оно безвредно? – спросил Джерри на всякий случай.
– Совершенно. Оно не может коснуться наших костюмов, даже если бы захотело. Смотрите, уже обошло нас.
Правда! Теперь они видели его – если считать, что это одно растение, а не колония,– целиком. Неправильный круг диаметром около ста ярдов скользил прочь, как скользит по земле тень гонимого ветром облака. А там, где он прошел, скала была испещрена несчетным множеством крохотных отверстий, словно выеденных кислотой.
– Да-да,– подтвердил Хатчинс, когда Джерри сказал об этом,– так питаются некоторые лишайники. Выделяют кислоты, растворяющие камень. А теперь прошу – никаких вопросов больше, пока не вернемся на корабль. Тут работы на десятки лет, а у меня всего час-другой.
Ботаника в движении!… Чувствительная бахрома огромного растениеподобного двигалась неожиданно быстро, спасаясь от них. Этакий оживший блин площадью в целый акр! Но когда Хатчинс стал брать образцы, растениеподобное никак не реагировало, если не считать, что струи тепла по-прежнему пугали его. Влекомое неведомым растительным инстинктом, оно упорно скользило вперед через бугры и лощины. Возможно, следовало за какой-нибудь минеральной жилой; на это ответят геологи, изучив образцы пород, которые Хатчинс собрал до и после прохождения живого ковра.
Сейчас некогда было размышлять над несчетными вопросами, которые вытекали из их открытия. Судя по тому, что они почти сразу набрели на это создание, оно здесь далеко не редкость. Как оно размножается? Побегами, спорами, делением или еще как-нибудь? Откуда берет энергию? Какие у него есть родичи, враги, паразиты? Оно не может быть единственной формой жизни на Венере – где есть один вид, должны быть тысячи…
Голод и усталость заставили их прекратить погоню. Это творение явно было способно проесть себе дорогу через всю Венеру. (Правда, Хатчинс полагал, что оно не уходит далеко от озера, так как растениеподобное то и дело спускалось к воде и погружало в нее длинное щупальце-хобот). Но представители фауны Земли нуждались в отдыхе.
Хорошо надуть герметичную палатку, забраться через воздушный шлюз внутрь и сбросить термокостюмы… Лишь теперь, отдыхая внутри маленького пластикового полушария, они по-настоящему осознали, какое чудо им встретилось и как это важно. Окружающий их мир был уже не тем, что прежде; Венера не мертва, она стала в ряд с Землей и Марсом.
Ибо живое взывает к живому – даже через космические бездны. Все, что растет, движется на поверхности других планет – предвестье, залог того, что человек не одинок в мире пламенных солнц и вихревых, туманностей. Если он до сих пор не нашел товарищей, с которыми мог бы разговаривать, это лишь естественно: впереди, ожидая исследователей, простерлись еще световые годы и века. Пока же долг человека охранять и лелеять те проявления жизни, которые ему известны, будь то на Земле, на Марсе или на Венере…
Так говорил себе Грэхем Хатчинс, самый счастливый биолог во всей солнечной системе, помогая Гарфилду собрать мусор и уложить его в пластиковый мешочек. Когда они, сняв палатку, двинулись в обратный путь, нигде не было видно никаких следов поразительного создания. И слава Богу, не то бы они, наверное, не удержались, продолжали бы свои эксперименты, а ведь их срок уже истекал.
Ничего: через несколько месяцев посланники нетерпеливо ждущей Земли вернутся с целым отрядом научных сотрудников, оснащенные куда более совершенным снаряжением. Миллиард лет трудилась эволюция, чтобы сделать возможной эту встречу; она может подождать еще немного.
Некоторое время все было неподвижно в отливающем зеленью мглистом краю. Ушли люди, скрылся алый ковер… И вдруг существо показалось снова, перевалив через выветренную гряду. А может быть, то была другая особь удивительного вида? Этого никто никогда не узнает.
Оно скатилось к груде камней, под которыми Хатчинс и Гарфилд погребли мусор. Остановилось.
Это не было любопытством, ведь оно не могло мыслить. Но химическая жажда, которая неотступно гнала его вперед и вперед через полярное плато, кричала: «Здесь, здесь!» Где-то рядом – самое дорогое, нужное ему питательное вещество. Фосфор, элемент, без которого никогда бы не вспыхнула искра жизни. И оно стало тыкаться в камни, просачиваться в щели и трещины, скрести и царапать пытливыми щупальцами. Любое из этих движений было доступно любому растению или дереву на Земле, с той разницей, что это существо двигалось в тысячу раз быстрее, и всего лишь несколько минут понадобилось ему, чтобы достичь цели и проникнуть сквозь пластиковую пленку.
И оно устроило пир, поглощая самую концентрированную пищу, какую когда-либо находило. Оно поглотило углеводороды, и белки, и фосфаты, никотин из окурков, целлюлозу из бумажных стаканов и ложек. Все это оно растворило и усвоило, без труда и без вреда для себя.
Одновременно оно поглотило целый микрокосм живых существ: бактерии и вирусы, обитателей более старой планеты, где развились тысячи смертоносных разновидностей… Правда, лишь некоторые из них смогли выжить в таком пекле и в такой атмосфере, но этого было достаточно. Отползая назад, к озеру, живой ковер нес в себе погибель всему своему миру.
И когда «Утренняя Звезда» вышла в обратный путь к далекому дому, Венера уже умирала. Пленки, негативы и образцы, которые так радовали Хатчинса, были драгоценнее, чем он предполагал. Им было суждено остаться единственными свидетельствами третьей попытки жизни утвердиться в солнечной системе.
Закончилась история творения под пеленой облаков Венеры.
–Не знаю, для чего я это записываю,– медленно произнес Джордж Такео Пикетт в парящий перед его лицом микрофон.– Вряд ли кому-то доведется слушать запись. Говорят, комета пронесет нас по соседству с Землей только через два миллиона лет, когда будет снова огибать Солнце. Просуществует ли человечество так долго? И будет ли комета такой же великолепной, какой увидели ее мы? Возможно, наши потомки тоже снарядят экспедицию, чтобы взглянуть на нее поближе. И обнаружат ракету… Даже через столько тысячелетий наш корабль будет в полном порядке. Останется горючее в баках, и воздух в отсеках – ведь продукты кончатся раньше, и мы умрем от голода, а не от удушья. Впрочем, вряд ли мы станем дожидаться этого, проще открыть воздушный шлюз и покончить сразу.
В детстве я читал книгу об арктических исследованиях – «Зимовка во льдах». Ну вот, что-то в этом роде ожидает нас. Мы со всех сторон окружены льдом, огромными ноздреватыми айсбергами, «Челенджер» летит среди роя ледяных глыб, которые очень медленно – сразу и не заметишь – вращаются вокруг друг друга. Но такой зимы не знала ни одна экспедиция на полюсы Земли. Почти все эти два миллиона лет будет держаться температура четыреста пятьдесят градусов ниже нуля по Фаренгейту. Мы. уйдем так далеко от Солнца, что тепла от него будет не больше, чем от звезд. Кто-нибудь пытался морозной зимней ночью греть руки в лучах Сириуса?
Нелепый образ, вдруг пришедший на ум Джорджу Пикетту, окончательно добил его. Перехватило голос, с такой силой нахлынули воспоминания о мерцающих в лунном свете сугробах, о перезвоне рождественских колоколов над краем, от которого его сейчас отделяло пятьдесят миллионов миль.
Внезапно он разрыдался, точно ребенок, не мог совладать с собой, с тоской по всему тому прекрасному на Земле, чего прежде не ценил по-настоящему и что теперь навсегда утрачено.
А как хорошо все началось, сколько было радостного возбуждения, ожиданий! Он помнил – неужели всего полгода прошло? – как впервые вышел из дому посмотреть на комету; незадолго перед тем восемнадцатилетний Джимм Рэндл увидел ее в самодельный телескоп и отправил свою знаменитую телеграмму в обсерваторию Маунт-Стромло. Тогда комета была едва заметным светящимся облачком, которое медленно скользило через созвездие Эридана, южнее экватора. Далеко за Марсом она мчалась к Солнцу по невероятно вытянутой орбите. В прошлый раз комета сияла на небе безлюдной Земли, и некому было любоваться ею; возможно, никого не будет, когда она появится вновь. Человечество в первый (и, быть может, единственный) раз видело комету Рэндла.
Приближаясь к Солнцу, она росла, выбрасывала струи и языки, самый маленький из которых был во сто крат больше Земли. Когда комета пересекла орбиту Марса, хвост ее – этакий исполинский вымпел, развеваемый космическим бризом,– протянулся уже на сорок миллионов миль. Тут наконец астрономы сообразили, что предстоит, пожалуй, самое великолепное небесное зрелище, какое когда-либо наблюдал человек; комета Галлея, которая являлась в 1986 году, не шла ни в какое сравнение. И организаторы Международного астрофизического десятилетия решили, если удастся вовремя снарядить экспедицию, послать вдогонку комете исследовательский корабль «Челенджер». Ведь может пройти не одно тысячелетие, прежде чем снова представится такой случай!
Неделю за неделей комета Рэндла в предрассветные часы сияла на небе, затмевая Млечный Путь. Вблизи Солнца она вновь ощутила зной, которого не испытывала с той поры, когда по Земле бродили мамонты. И активность ее росла; словно лучи мощного прожектора, плыли среди звезд струи светящегося газа, изверженные ее ядром. Хвост, теперь уже сто миллионов миль в длину, делился на замысловатые ленты и полосы, очертания которых менялись за одну ночь. И всегда они были устремлены прочь от Солнца, будто гонимые к звездам вечным могучим ветром из сердца солнечной системы.
Когда Джорджа Пикетта назначили на «Челенджер», он долго не мог поверить своему счастью. Конечно, сыграло роль то, что он кандидат наук, холостяк, славится отменным здоровьем, весит меньше ста двадцати фунтов и давно расстался с аппендиксом. Но разве мало других журналистов с такими данными?
Что ж, скоро они перестанут завидовать…
Грузоподъемность «Челенджера» была маловата, экспедиция не могла взять с собой только репортера, и Пикетт совмещал журналистские обязанности с научными. На деле это означало, что он вел вахтенный журнал во время дежурства, был секретарем начальника экспедиции, следил за расходом припасов и материалов, занимался учетом. Снова и снова думал он, как это кстати, что в космосе, в мире невесомости человеку достаточно трех часов сна в сутки.
Нужен был немалый такт, чтобы одно дело не шло в ущерб другому. Когда он не был занят бухгалтерией в своем закутке и не проверял наличие в кладовых, можно было побродить с магнитофоном по кораблю. Одного за другим Джордж Пикетт проинтервьюировал каждого из двадцати ученых и инженеров, которые составляли экипаж «Челенджера». Не все записи были переданы на Землю; некоторые интервью оказались перегруженными техническими подробностями, другие чересчур скудными, третьи излишне многословными. Во всяком случае, он побеседовал со всеми, и как будто никто не мог пожаловаться, что его обошли. Впрочем, теперь это уже не играет никакой роли…
Интересно, что сейчас делается в душе доктора Мартинса? Помнится, астроном был одним из самых твердых Орешков; зато он мог рассказать больше, чем кто-либо другой. Пикетту вдруг захотелось отыскать запись первого интервью Мартинса. Джордж великолепно понимал, что пытается уйти в прошлое, чтобы не думать о настоящем. Ну и что ж? Если это удастся, тем лучше!…
Двадцать миллионов миль отделяли от кометы стремительно летящий корабль, когда Джордж поймал Мартинса в обсерватории и приступил к допросу. Он хорошо помнил это интервью. Вид невесомого микрофона, слегка колеблемого воздушной струей от вентилятора, был до того необычным, что Пикетт никак не мог сосредоточиться. А по голосу ничего не заметно, звучит с профессиональной непринужденностью…
«Доктор Мартинс,– гласил первый вопрос,– из чего состоит комета Рэндла?»
«Состав сложный,– отвечал астроном,– и все время меняется по мере удаления кометы от Солнца. Хвост преимущественно из аммиака, метана, углекислого газа, водяных паров, циана…»
«Циана? Но ведь это ядовитый газ! Что было бы, если б Земля попала в такую струю?»
«Ничего. Несмотря на свой эффектный вид, хвост кометы, по нашим земным понятиям, чуть ли не вакуум. В объеме, равном объему Земли, газа столько же, сколько воздуха в пустой спичечной коробке».
«Но это разреженное вещество образует такое красочное зрелище!»
«Как и любой сильно разреженный газ в электрическом поле. И по той же причине. Солнце бомбардирует хвост кометы частицами, которые несут электрический заряд. И получаются как бы светящиеся космические письмена. Только бы рекламные конторы не додумались использовать это – распишут всю солнечную систему своими объявлениями!»
«Ужасная мысль… Хотя, уверен, найдутся такие, которые назовут это торжеством прикладной науки. Но оставим хвост. Скажите, скоро мы достигнем сердца кометы – или ядра, как вы его, кажется, называете?»
«Догонять в кильватер всегда трудно. Не меньше двух недель нужно, чтобы подойти к ядру. Будем идти внутри хвоста и постепенно изучим всю комету в продольном сечении. До ядра еще двадцать миллионов миль, но мы уже кое-что знаем о нем. Во-первых, оно чрезвычайно мало, меньше пятидесяти миль в поперечнике. И не сплошное; похоже, что ядро – это облако из тысяч роящихся частиц».
«Мы сможем проникнуть внутрь ядра?»
«Заранее трудно сказать. Возможно, безопасности ради мы исследуем его через наши телескопы с расстояния в несколько тысяч миль. Но сам я был бы очень разочарован, если бы мы не вошли внутрь. А вы?»
Пикетт выключил магнитофон. Что ж, все верно. Конечно, Мартинс был бы разочарован, тем более, что опасности как будто нет. Как будто? Комета вообще не приготовила никаких каверз, угроза таилась на борту их собственного корабля…
Одну за другой они пронизывали огромные, невероятно разреженные завесы: хотя комета Рэндла теперь мчалась прочь от Солнца, она все еще выделяла газ. И даже когда корабль подошел к самой плотной части кометы, их практически окружал вакуум. Светящийся туман, который простерся на много миллионов миль, почти беспрепятственно пропускал звездный свет. А прямо по курсу яркое пятнышко ядра, подобно блуждающему огоньку, манило их за собой вперед и вперед.
Электрические возмущения в окружающем веществе возросли настолько, что нарушилась связь с Землей. Сигналы их главного передатчика пробивались с трудом, и последние несколько дней космонавты ограничивались тем, что передавали ключом «ОК». Когда корабль вырвется из кометы и возьмет курс на Землю, связь восстановится, а пока они почти так же обособлены, как землепроходцы в старину, когда радио еще не было. Неудобно, конечно, но ничего страшного. Пикетт был даже рад, больше времени оставалось на канцелярию. Хотя «Челенджер» шел к сердцу кометы – путешествие, о котором до двадцатого столетия не мог мечтать ни один капитан! – кому-то надо было вести учет продовольствия и прочих запасов…
Медленно, осторожно, прощупывая радаром пространство во всех направлениях, «Челенджер» проник в ядро кометы и замер там среди льдов.
Фред Уипл, сотрудник Гарвардской обсерватории, еще в сороковых годах угадал истину. Но даже теперь, когда они все увидели своими глазами, трудно было поверить: маленькое – относительно – ядро кометы оказалось гроздью айсбергов, которые, летя по общей орбите, в то же время кружили, меняясь местами. В отличие от ледяных гор земных океанов они не были ослепительно белыми и состояли не из замерзшей воды. Грязно-серые, ноздреватые, словно подтаявший снег, со множеством «карманов» метана и аммиака, они то и дело, нагретые солнечными лучами, извергали исполинские струи газа. Зрелище великолепное, но поначалу Пикетту некогда было любоваться им.
Зато теперь времени хоть отбавляй…
Джордж Пикетт проверял наличные запасы, когда столкнулся с бедой, причем он даже не сразу осознал ее масштабы. Ведь на складе все было в порядке, запасов хватит на весь обратный путь до Земли. Он сам в этом убедился, оставалось только свериться с данными, которые хранились в крохотной – с булавочную головку – ячейке электронной памяти корабля, отведенной для бухгалтерии.
Когда на экране вспыхнули первые несусветные цифры, Пикетт решил, что нажал не тот тумблер. Он стер итог и повторил задание вычислительной машине.
Было шестьдесят ящиков вакуумированного мяса, израсходовано семнадцать, осталось… Ответ гласил: 99999943!
Он пробовал снова и снова – с тем же успехом. И тогда, озадаченный, но еще далеко не встревоженный, Пикетт пошел искать доктора Мартинса.
Он нашел астронома в «Камере пыток» – миниатюрном гимнастическом зале, втиснутом между кладовками и переборкой главной цистерны горючего. Каждый член экипажа был обязан упражняться здесь по часу в день, чтобы мышцы не ослабли в невесомости. Мартинс сражался с набором тугих пружин, и лицо его выражало мрачную решимость. Он еще больше помрачнел, выслушав доклад Пикетта.
Несколько манипуляций на щите управления – и все стало ясно.
– Электронный мозг свихнулся,– сказал Мартинс– Не может даже ни складывать, ни вычитать.
– Ничего, починим!
Мартинс покачал головой. От его обычной вызывающей самоуверенности не осталось и следа. Он больше всего напоминал резиновую куклу, из которой начал выходить воздух.
– Даже его создатели не справились бы. Тут несчетное множество микроцепей, они упакованы так же плотно, как в мозгу человека. Запоминающее устройство еще действует, но вычислитель никуда не годится. Он просто делает винегрет из поступающих в него чисел.
– Что же будет? – спросил Пикетт.
– Всем нам крышка, – просто ответил Мартинс.– Без вычислительной машины мы пропали. Не сможем рассчитать орбиту для возвращения на Землю. Чтобы с карандашом и бумагой сделать все вычисления, понадобилась бы целая армия математиков, да и то ушла бы не одна неделя.
– Но это смехотворно! Корабль в полном порядке, продовольствия и горючего вдоволь, а вы говорите, что мы погибнем из-за каких-то пустяковых расчетов.
– Пустяковых расчетов? – К Мартинсу даже вернулась частица прежней энергии.– Выйти из кометы на орбиту, ведущую к Земле, – это же серьезный маневр, нужно около ста тысяч вычислительных операций. Даже машина тратит на это несколько минут.
Пикетт не был математиком, но достаточно разбирался в астронавтике, чтобы понять, в чем дело. На корабль, летящий в космосе, действует множество небесных тел. Главная сила, которая определяет его движение, – притяжение Солнца, прочно удерживающее все планеты на их орбитах. Но и планеты тянут корабль в разные стороны, конечно, намного слабее. Учесть соперничающие силы, а главное, использовать их, чтобы достичь желанной цели,– пусть до нее не один десяток миллионов миль,– задача головоломная. Пикетт понимал отчаяние Мартинса: ни один человек не может работать без необходимого в его деле инструмента, и нет дела, для которого требовался бы более хитроумный инструмент.
Даже после того, как начальник экспедиции объявил всем о поломке и состоялось чрезвычайное совещание, прошел не один час, пока люди уразумели, что их ожидает. До рокового конца было еще много месяцев, и он казался просто нереальным. Им грозила смертная казнь, но исполнение приговора откладывалось. К тому же за иллюминаторами по-прежнему была великолепная картина.
Сквозь облако пылающей мглы – это облако станет вечным небесным памятником погибшей экспедиции – они видели могучий маяк Юпитера, ярче любой звезды. Что же, если остальные предпочтут покончить с собой сразу, кто-то из экипажа, возможно, еще доживет до встречи с самым рослым из детей Солнца. «Стоит ли прожить несколько лишних недель,– спрашивал себя Пикетт,– чтобы воочию увидеть картину, которую первым в свой самодельный телескоп наблюдал Галилей четыре столетия назад: спутников Юпитера, снующих взад-вперед, будто шарики на невидимой проволоке?»
Шарики на проволоке. Вдруг из подсознания Джорджа вырвалось полузабытое воспоминание детства. Видимо, оно уже несколько дней зрело – и вот наконец проклюнулось.
– Нет! – крикнул он.– Чепуха! Меня поднимут на смех!
«Ну и что же? – возразила другая половина его сознания.– Тебе нечего терять, и по крайней мере, каждый будет занят своим делом, а не думать о продовольствии и кислороде».
Искра надежды лучше, чем безнадежность…
Джордж Пикетт перестал крутить свой магнитофон; уныние как рукой сняло. Он отстегнул эластичный пояс, встал с кресла и пошел на склад искать нужные материалы.
– Такие шутки,– сказал три дня спустя доктор Мартинс, – до меня не доходят.
И он презрительно посмотрел на самоделку из дерева и проволоки, которую держал в руке Пикетт.
– Я знал, что вы так скажете,– миролюбиво ответил журналист.– Но сперва послушайте меня. Моя бабушка была японка, и в детстве я слышал от нее историю, которую вспомнил только теперь, несколько дней назад. Кажется, это может нас спасти. После второй мировой войны устроили однажды соревнование – в быстроте счета состязались американец, вооруженный электрическим арифмометром, и японец с абаком вроде этого. Победил абак.
– Плохой был арифмометр или оператор никудышный.
– Нарочно отобрали лучшего во всех вооруженных силах США. Но не будем спорить. Проведем испытание, назовите два трехзначных числа для умножения.
– Ну… 856 на 437.
Пальцы Пикетта забегали по шарикам, молниеносно гоняя их по проволокам. Всего проволок было двенадцать, это позволяло производить действия над любыми числами от единицы до 999 999 999 999 или, разбив абак на секции, одновременно делать несколько вычислений.
– 374072,– ответил Пикетт почти мгновенно.– А теперь посмотрим, как вы управитесь с помощью карандаша и бумаги.
Прошло около минуты, наконец Мартинс, который, как и большинство математиков, был не в ладах с арифметикой, крикнул:
– 375072!
Проверка тотчас показала, что Мартинс ошибся, хотя умножал в три раза дольше, чем Пикетт.
Удивление, ревность, интерес смешались на лице астронома.
– Кто вас научил этому фокусу? – спросил он. – Я думал, на такой штуке можно только складывать и вычитать.
– А что такое умножение, если не многократное сложение? Я семь раз сложил 856 в ряду единиц, три раза – в ряду десятков, четыре раза – в ряду сотен. То же самое делаете вы на бумаге. Конечно, есть приемы для ускорения, но если вам показалось, что я считаю быстро, посмотрели бы вы на брата моей бабушки! Он служил в банке в Иокогаме. Как пойдет щелкать – пальцев не видно. Он меня кое-чему научил, да ведь с тех пор больше двадцати лет прошло. Я еще только два дня упражняюсь, пока считаю медленно. И все-таки надеюсь, что мне удалось хоть немного убедить вас.
– Еще бы! Я просто поражен. Вы и делить можете так же быстро?
– Почти, надо только руку набить.
Мартинс взял абак, погонял шарики взад-вперед. Потом вздохнул.
– Гениально… Но нас это не выручит, даже если бы на нем можно было считать вдесятеро быстрее, чем на бумаге. Машина в миллион раз эффективнее.
– Я подумал об этом,– ответил Пикетт, теряя самообладание. (Этот Мартинс рохля какой-то, нет у него воли к борьбе. Хоть бы задумался, как управлялись астрономы сто лет назад, когда не было никаких счетных машин!) -Вот что я предлагаю, – а вы скажите, если я ошибаюсь…
Он обстоятельно, не торопясь, изложил во всех подробностях свой план. Слушая его, Мартинс заметно воспрянул духом и даже рассмеялся; впервые за много дней Пикетт слышал смех на борту «Челенджера».
– Вижу лицо начальника экспедиции,– воскликнул астроном,– когда он услышит, что нам всем придется вернуться в детский сад и играть в шарики!
Никто не хотел верить в абак, пока Пикетт сам не показал, как на нем считают. Люди, выросшие в мире электроники, никак не ожидали, что нехитрая комбинация проволоки и шариков способна на такие чудеса. Но задача была увлекательная, а речь шла о жизни и смерти, и они горячо взялись за дело.
Как только инженеры изготовили несколько достаточно совершенных копий грубого оригинала, сделанного Пикеттом, все начали учиться. Основные правила он объяснил за несколько минут, главное была практика, многочасовые упражнения, чтобы пальцы автоматически, без участия мысли, перебрасывали шарики. Некоторые и через неделю непрерывных занятий не смогли развить достаточной скорости и точности, зато другие быстро превзошли самого Пикетта.
Космонавтам снились шарики и проволока, во сне они продолжали считать… Когда они хорошо освоили простейшие приемы, экипаж разбили на группы, которые азартно состязались между собой, совершенствуя свое умение. В конце концов лучшие научились за пятнадцать секунд перемножать четырехзначные числа, и они могли это делать несколько часов подряд.
Все это была чисто механическая работа, которая не требовала большой смекалки, а только навыка. По-настоящему трудная задача выпала на долю Мартинса, и тут ему никто не мог помочь. Ему пришлось забыть привычные приемы работы с вычислительными машинами и составлять задания так, чтобы их механически выполняли люди, совершенно не представляющие себе смысла обрабатываемых чисел. Астроном сообщал данные, они вычисляли по указанной им схеме, и через несколько часов живой математический конвейер выдавал ответ. А чтобы застраховаться от ошибок, две группы работали параллельно и время от времени сверяли свои итоги.
– Итак,– обратился Пикетт к своему микрофону, когда время наконец позволило ему вспомнить о слушателях, с которыми он было навсегда распрощался,– мы создали счетную машину из людей вместо электронных ячеек. Конечно, она действует в несколько тысяч раз медленнее, не справляется с очень большими числами и легко устает, но все-таки делает свое дело. Рассчитать весь обратный путь нельзя, это чересчур сложно, но мы хоть определим орбиту, которая позволит достичь зоны радиосвязи. Как только корабль уйдет от электрических помех, мы сообщим свои координаты на Землю, и оттуда электронные машины подскажут, как нам быть дальше. Мы уже вышли из ядра кометы и не летим к границам солнечной системы. Наш новый курс подтверждает точность расчетов, насколько вообще можно говорить о точности. Правда, корабль еще внутри кометного хвоста, но от ядра нас отделяют миллионы миль, мы больше не увидим этих аммиачных айсбергов. Они мчатся к звездам, в леденящую ночь межсолнечного пространства, мы же возвращаемся домой…
– Алло, Земля… Земля! Вызывает «Челенджер», я «Челенджер»! Отвечайте, как только услышите нас, помогите нам с арифметикой, пока мы не стерли пальцы до кости!
Очнувшись, Колин Шеррард долго не мог сообразить, где он. Он лежал в какой-то капсуле на круглой вершине холма, крутые склоны которого запеклись темной коркой, точно их опалило жаркое пламя; вверху простерлось черное, как смоль, небо с множеством звезд, и одна из них, над самым горизонтом, напоминала крохотное яркое солнце.
Солнце?! Неужели он так далеко от Земли? Не может быть. Память подсказывала ему, что Солнце близко, угрожающе близко, оно никак не могло обратиться в маленькую звезду. Вдруг в голове у него прояснилось. Шеррард знал, где он, знал точно, и мысль об этом была так страшна, что он едва опять не потерял сознания.
Никто из людей не бывал еще так близко к Солнцу.
Поврежденный космокар лежал не на холме, а на сильно искривленной поверхности маленького – всего две мили в поперечнике – космического тела. И быстро опускающаяся к горизонту на западе яркая звезда – это огни «Прометея», корабля, который доставил Шеррарда сюда, за миллионы миль от Земли. Товарищи, конечно, уже недоумевают, почему не вернулся его космокар – замешкавшийся почтовый голубь. Пройдет немного минут, и «Прометей» исчезнет из поля зрения, уйдет за горизонт, играя в прятки с Солнцем…
Колин Шеррард проиграл эту игру.
Правда, он пока на ночной стороне астероида, укрыт в его прохладной тени, но быстротечная ночь на исходе. Четырехчасовой икарийский день надвигается стремительно и неотвратимо, близок грозный восход, когда яркий солнечный свет – в тридцать раз ярче, чем на Земле – выплеснет на эти камни жгучее пламя. Шеррард великолепно знал, почему все кругом опалено до черноты. Хотя Икар будет в перигелии только через неделю, уже теперь полуденная температура на его поверхности близка к тысяче градусов по Фаренгейту.
Не до юмора ему было, и все-таки вдруг вспомнилось, что капитан Маклеллан сказал об Икаре: «Ох, горяча земля, поневоле будешь чужими руками жар загребать».
Несколько дней назад они воочию убедились, сколь справедлива эта шутка; помог один из тех простейших ненаучных опытов, которые действуют на воображение куда сильнее, чем десятки графиков и кривых.
Незадолго до восхода один из космонавтов отнес на бугорок деревянную чурку. Стоя в укрытии на ночной стороне, Шеррард видел, как первые лучи Солнца коснулись бугорка. Когда его глаза оправились от внезапного взрыва света, он разглядел, что чурка уже чернеет, обугливаясь. Будь здесь атмосфера, дерево тотчас вспыхнуло бы ярким пламенем.
Вот что такое восход на Икаре…
Правда, пять недель назад, когда они пересекли орбиту Венеры и впервые высадились на астероид, было далеко не так жарко. «Прометей» подошел к Икару в момент его наибольшего удаления от Солнца. Космический корабль приноровил свой ход к скорости маленького мирка и лег на его поверхность легко, как снежинка. (Снежинка – на Икаре!… Придет же на ум такое сравнение.) Тотчас на пятнадцати квадратных милях колючего никелевого железа, покрывающего большую часть астероида, рассыпались ученые – они расставляли приборы, разбивали триангуляционную сеть, собирали образцы, делали множество наблюдений.
Все было задумано и тщательно расписано много лет назад, когда еще только готовились к Международному астрофизическому десятилетию. Икар предоставлял исследовательскому кораблю неповторимую возможность: под прикрытием железокаменного щита двухмильной толщины подойти к Солнцу на расстояние всего семнадцати миллионов миль. Защищенный Икаром, корабль мог без опаски облететь вокруг могучей топки, которая согревает все планеты и от которой зависит всякая жизнь.
Подобно легендарному Прометею, добывшему для человечества огонь, космолет, названный его именем, доставит на Землю новые знания о поразительных тайнах небес…
Члены экспедиции успели установить все приборы и провести заданные исследования, прежде чем «Прометею» пришлось взлететь, чтобы отступить вместе с ночной тенью. Да и потом оставалось в запасе еще около часа, во время которого человек в космокаре – миниатюрном, длиной всего десять футов, космическом корабле – мог работать на ночной стороне, пока не подкралась полоса восхода. Казалось бы, в мире, где рассвет приближается со скоростью всего одной мили в час, ничего не стоит вовремя улизнуть! Но Шеррард не сумел этого сделать, и теперь его ожидала кара: смерть.
Он и сейчас не совсем понимал, как это случилось.
Колин Шеррард налаживал передатчик сейсмографа на Станции 145, которую они между собой называли Эверестом: она на целых девяносто футов возвышалась над поверхностью Икара! Работа пустяковая. Правда, делать ее приходилось с помощью выдвигающихся из корпуса космокара механических рук, но Шеррард уже наловчился металлическими пальцами он завязывал узлы почти так же сноровисто, как собственными. Двадцать минут, и радиосейсмограф опять заработал, сообщая в эфир о толчках и трясениях, число которых стремительно росло по мере того, как Икар приближался к Солнцу.
Теперь на лентах записана и «его» кривая, да много ли ему от этого радости…
Убедившись, что передатчик действует, Шеррард расставил вокруг прибора солнечные отражатели. Трудно поверить, что два хрупких, не толще бумаги, листа металлической фольги могли преградить путь потоку лучей, способному в несколько секунд расплавить олово или свинец! И однако первый экран отражал более девяноста процентов падающего на его поверхность света, а второй – почти все остальное; вместе они пропускали совершенно безобидное количество тепла.
Шеррард доложил на корабль, что задание выполнено, получил «добро» и приготовился возвращаться на борт. Мощные прожекторы «Прометея» – без них на ночной стороне астероида вряд ли удалось бы что-либо разглядеть – были безошибочным ориентиром. Всего две мили отделяли его от корабля, и будь на Шеррарде планетный скафандр с гибкими сочленениями, инженер мог бы просто допрыгнуть до «Прометея», ведь здесь почти полная невесомость. Ничего, маленькие ракетные двигатели космокара за пять минут доставят его на борт…
Гироскопами он направил космокар на цель, потом включил вторую скорость и нажал стартер. Сильный взрыв под ногами – Шеррард взлетел, удаляясь от Икара… и от корабля!
«Неисправность!» – подумал он с ужасом. Его прижало к стенке, он никак не мог дотянуться до щита управления. Работал только один мотор, поэтому астронавт летел кувырком, вращаясь все быстрее. Шеррард лихорадочно искал кнопку стопа, но вращение сбило его с толку, и когда он наконец дотянулся до ручек, его первое движение только все ухудшило: он включил полную скорость – как нервный шофер сгоряча вместо тормоза нажимает акселератор. Всего секунда ушла на то, чтобы исправить ошибку и заглушить мотор, но за эту секунду вращение усилилось настолько, что звезды стали светящимися колесами…
Все случилось так быстро, что Колин Шеррард не успел даже испугаться; но главное, он не успел вызвать корабль и сообщить о катастрофе. В конце концов, опасаясь, как бы не натворить еще худших бед, он оставил ручки в покое. Чтобы выйти из штопора, надо было осторожно маневрировать не меньше двух-трех минут; у него оставались считанные секунды – скалы мелькали все ближе и ближе.
Шеррард вспомнил совет на обложке «Наставления астронавта»: «Если не знаешь, что делать,– не делай ничего». Он честно продолжал следовать этому совету, когда Икар обрушился на него, и звезды померкли…
…Просто чудо, что оболочка космокара цела, и он не дышит космосом. (Сейчас он радуется, а что будет через полчаса, когда сдаст теплоизоляция?) Конечно, совсем без поломок не обошлось, сорваны оба зеркала заднего обзора, которые были укреплены на прозрачном круглом гермошлеме, придется повертеть шеей, но это пустяки – гораздо хуже то, что одновременно покалечило антенны. Он не может вызвать корабль, и корабль не может вызвать его. Из динамика доносился лишь слабый треск, скорее всего от каких-нибудь неполадок в самом приемнике. Колин Шеррард был отрезан от людей.
Положение отчаянное, но не безнадежное. Нет, он не совсем беспомощен. Хотя двигатели подкачали (видимо, в правой пусковой камере, хоть конструкторы и уверяли, что такого случиться не может, изменилась направленность взрыва и забило форсунки), он может двигаться: у него есть руки.
Вот только куда ползти? Шеррард совсем растерялся. Взлетел он с «Эвереста», но далеко ли его отбросило – на сто футов? На тысячу? Ни одного знакомого ориентира в этом крохотном мире, только быстро удаляющаяся звездочка «Прометея» может его выручить. Теперь лишь бы не потерять из виду корабль… Его хватятся через несколько минут, если уже не хватились. Конечно, без помощи радио товарищам, пожалуй, придется искать долго. Как ни мал Икар, эти пятнадцать квадратных миль изборожденной трещинами ничьей земли – надежный тайник для цилиндра длиной десять футов. На поиски может уйти и полчаса, и час; все это время он должен следить за тем, чтобы его не настиг убийца – восход.
Шеррард вложил пальцы в полые рычаги механических конечностей. Тотчас снаружи, в суровой среде космоса ожили его искусственные руки. Вот опустились, уперлись в железную кору астероида, приподняли космокар… Шеррард согнул «руки», и капсула, словно причудливое двуногое насекомое, поползла вперед. Правой, левой, правой, левой…
Это оказалось проще, чем он ожидал, и Шеррард почувствовал себя увереннее. Конечно, механические руки созданы для тонкой и точной работы, но в невесомости достаточно малейшего усилия, чтобы сдвинуть с места капсулу. Тяготение Икара составляло одну десятитысячную земного; вместе с космокаром Шеррард весил здесь около унции. Придя в движение, он дальше буквально парил, легко и быстро, будто во сне.
Однако легкость эта таила в себе угрозу… Шеррард уже прошел так несколько сот ярдов, он быстро настигал светящееся пятно «Прометея», но тут успех ударил ему в голову. Как скоро сознание переходит от одной крайности к другой! Давно ли он думал, как достойнее встретить смерть, а теперь ему уже не терпелось вернуться на корабль к обеду.
Впрочем, возможно, беда случилась потому, что уж очень новый и необычный это был способ передвижения. Может быть, он к тому же не совсем оправился после крушения. В самом деле: как и все астронавты, Шеррард отлично умел ориентироваться в космосе, привык жить и работать в условиях, когда земные понятия о «верхе» и «низе» теряют смысл. В таком мире, как Икар, надо внушить себе, что «под» ногами у тебя самая настоящая планета, ты двигаешься над горизонтальной плоскостью. Стоит развеяться этому невинному самообману, и тебе грозит космическое головокружение.
И вот – внезапный приступ. Вдруг исчезло чувство, что Икар внизу, а звезды – вверху. Вселенная повернулась на девяносто градусов; Шеррард, словно альпинист, карабкался вверх по отвесной скале. И хотя разум говорил ему, что это чистейшая иллюзия, чувства решительно спорили с рассудком. Сейчас тяготение сорвет его с скалы, и он будет падать, падать милю за милей, пока не разобьется вдребезги!…
Но мнимая вертикаль качнулась, будто компасная стрелка, потерявшая полюс, и вот уже над ним каменный свод, он словно муха на потолке. Миг – потолок опять стал стеной, но теперь астронавт неудержимо скользил по ней вниз, в пропасть…
Шеррард потерял власть над космокаром; обильный пот на лбу подтверждал, что он вот-вот утратит власть и над самим собой. Оставалось последнее средство. Плотно зажмурив глаза, он сжался в комок и стал внушать себе, что снаружи ничего нет, ничего!… Он настолько сосредоточился на этой мысли, что до его сознания не сразу дошел негромкий стук нового столкновения.
Когда Колин Шеррард наконец решился открыть глаза, он увидел, что космокар уткнулся в каменный горб. Механические руки смягчили толчок – но какой ценой? Хотя капсула здесь была почти невесомой, пятьсот фунтов массы, двигаясь со скоростью около четырех миль в час, развили инерцию, которая оказалась чрезмерной для хрупких конечностей. Одна из них совсем сломалась, вторая безнадежно погнулась.
На мгновение ярость заглушила отчаяние. Он был уверен в успехе, когда космокар заскользил над безжизненной поверхностью Икара. И вот – полный крах из-за секундной физической слабости… Космос не делает человеку никаких скидок, кто об этом забывает, тому лучше сидеть дома.
Что ж, догоняя корабль, он выиграл у восхода драгоценное время, минут десять, если не больше. Десять минут… Что они ему принесут: продление мучительной агонии – или спасительную отсрочку, которая позволит товарищам найти его?
Скоро он узнает ответ.
Кстати, где они? Наверно, розыски уже начались! Шеррард устремил пристальный взгляд на яркую звезду корабля, надеясь увидеть на фоне медленно вращающегося небосвода огоньки идущих к нему на выручку космокаров. Увы, никого…
Значит, надо взвесить свои собственные скромные возможности. Через несколько минут «Прометей» уйдет за край астероида, исчезнут прожектора, будет полный мрак. Ненадолго… Но, может быть, он еще успеет укрыться от наступающего дня? Вот эта глыба, на которую он налетел,– не годится?
Что ж, в ее тени и впрямь можно отсидеться до полудня.
А там?… Если Солнце пройдет как раз над Шеррардом, его ничто не спасет. Но ведь может оказаться, что он находится на такой широте, где Солнце в это время икарийского года, длящегося четыреста девять дней, не поднимается высоко над горизонтом. Тогда есть надежда выдержать несколько дневных часов. Больше надеяться не на что – конечно, если товарищи не разыщут его до рассвета.
Ушел за край света «Прометей», и тотчас сильнее засверкали звезды. Но всего ярче, такая прекрасная, что при одном взгляде на нее перехватывало горло, сияла Земля; вот и Луна рядом. На Земле Шеррард родился, по Луне ступал не раз – доведется ли ему когда-либо еще побывать на них?…
Странно, до этой секунды ему не приходила в голову мысль о жене и детях, обо всем том, чем он дорожил в такой далекой теперь земной жизни. Даже как-то стыдно. Впрочем, чувство вины тотчас прошло. Ведь несмотря на сто миллионов космических миль, разделивших его и семью, узы любви не ослабли, просто сейчас было не до этого. Он превратился в примитивное существо, всецело поглощенное битвой за свою жизнь. Мозг был его единственным оружием в этом поединке, сердце могло только помешать, затуманить рассудок, подорвать решимость.
То, что Шеррард увидел в следующий миг, окончательно вытеснило все мысли о далеком доме. Над горизонтом позади него, словно обволакивая звезды молочным туманом, всплыл конус призрачного света – глашатай Солнца, его прекрасная жемчужная корона, видимая на Земле лишь во время полных солнечных; затмений. Теперь совсем близка минута, когда Солнце поразит своим гневом этот маленький мир.
Предупреждение было кстати. Теперь Шеррард мог довольно точно определить, в какой точке появится Солнце и астронавт медленно, неуклюже перебирая обломками металлических рук, отполз туда, где глыба сулила ему лучшую тень. Едва он спрятался, как Солнце зверем набросилось на скалу, все вокруг словно взорвалось светом.
Шеррард поспешил перекрыть смотровое окошко темными фильтрами, чтобы защитить глаза. За пределами широкой тени, которую глыба отбрасывала на поверхность астероида, будто разверзлась раскаленная топка. Беспощадное сияние высветило каждую мелочь в окружающей пустыне. Никаких полутонов – слепящая белизна и кромешный мрак. Ямы и трещины напоминали чернильные лужи, а выступы точно

объяло пламя, хотя с начала восхода прошла всего одна минута.
Не удивительно, что палящий зной миллиарды раз повторявшегося лета выжег из скал весь газ до последнего пузырька, превратив Икар в космическую головешку. «Что заставляет человека,-горько спросил себя Шеррард,– ценой таких затрат и риска пересекать межзвездные пучины ради того, чтобы попасть на вращающуюся гору шлака?» Он. знал ответ: то самое, что некогда побуждало людей пробиваться к полюсам, штурмовать Эверест, проникать в самые глухие уголки Земли. Приключения заставляли сердце биться чаще, открытия окрыляли душу. Эх, много ли радости в этом сознании теперь, когда он вот-вот будет, точно окорок, поджарен на вертеле Икара…
Первое дыхание зноя коснулось его лица. Глыба, подле которой лежал Колин Шеррард, заслоняла его от прямых солнечных лучей, но прозрачный пластик шлема пропускал тепло, отражаемое скалами. Чем выше Солнце, тем сильнее будет жар… И выходит, у него в запасе меньше времени, чем он думал.
Тупое отчаяние вытеснило страх; Шеррард решил – если хватит выдержки, – дождаться, когда солнечный свет падет на него. Как только термоизоляция космокара сдаст в неравном поединке – пробить отверстие в корпусе, выпустить воздух в межзвездный вакуум…
А пока можно еще поразмышлять несколько минут, прежде чем тень от глыбы растает под натиском света. Астронавт не стал насиловать мысли, дал им полную волю. Странно, он сейчас умрет лишь потому, что в сороковых годах, задолго до его рождения, кто-то из сотрудников Паломарской обсерватории высмотрел на фотопластинке пятнышко света; открыл и метко назвал астероид именем юноши, который взлетел слишком близко к Солнцу…
Быть может, вот тут, на вздувшейся волдырями равнине, когда-нибудь воздвигнут памятник. Интересно, что они напишут? «Здесь погиб во имя науки инженер-астронавт Колин Шеррард». Это про него-то, который не понимал и половины того, над чем корпели ученые!
А впрочем, они и его заразили своей страстью. Шеррард вспомнил случай, когда геологи, очистив обугленную корку астероида, обнажили и отполировали металлическую поверхность. И глазам их предстал странный узор, линии и черточки, вроде абстрактной живописи декадентов, которые вошли в моду после Пикассо. Но это были осмысленные линии: они запечатлели историю Икара, и геологи сумели ее прочесть. От ученых Шеррард узнал, что железокаменная глыба астероида не всегда одиноко парила в космосе. Некогда, в очень далеком прошлом, она испытала чудовищное давление, а это могло означать лишь одно: миллиарды лет назад Икар был частью огромного космического тела, быть может, планеты, подобной Земле. Почему-то планета взорвалась; Икар и тысячи других астероидов – осколки этого космического взрыва.
Даже сейчас, когда к нему подползала раскаленная полоса, Шеррард с волнением думал о том, что лежит на ядре погибшего мира, в котором, возможно, существовала органическая жизнь. Следовательно, его дух не один будет витать над Икаром; все-таки утешение.
Шлем затуманился. Ясно: охлаждение сдает. А оно честно послужило – даже сейчас, когда камни в нескольких метрах от него накалены докрасна, температура внутри капсулы вполне терпима. Конец охлаждающей установки будет и его концом.
Шеррард протянул руку к красному рычагу, который должен был лишить Солнце добычи. Но прежде чем нажать рычаг, хотелось в последний раз посмотреть на Землю. Он осторожно сдвинул фильтры так, чтобы они, по-прежнему защищая глаза от слепящих скал, не мешали глядеть на небо.
Звезды заметно поблекли, бессильные состязаться с сиянием короны. А как раз над глыбой – его ненадежным щитом – вздымался язык алого пламени, грозно указующий перст самого Солнца.
Последние секунды на исходе…
Вон Земля, вон Луна… Прощайте… Прощайте, друзья и близкие.
Солнечные лучи лизнули край космокара, и первое прикосновение огня заставило Шеррарда непроизвольно поджать ноги. Нелепое и бесполезное движение.
Но что это? В небе над ним, затмевая звезды, вспыхнул яркий свет. На огромной высоте парило, отражая солнечные лучи, исполинское зеркало. Вздор, этого не может быть. Галлюцинация, только и всего, пора кончать. Пот катил с него градом, через несколько секунд космокар превратится в печь, больше ждать невозможно.
Напрягая последние силы, Шеррард нажал рычаг аварийного люка, готовый встретить смерть.
Рычаг не поддался. Астронавт снова и снова нажимал рукоятку, но ее безнадежно заело. А он-то надеялся на легкую смерть, мгновенный милосердный конец…
Вдруг, осознав весь ужас своего положения, Колин Шеррард потерял власть над собой и закричал, словно зверь в западне.
Услышав тихий, но вполне отчетливый голос капитана Маклеллана, Шеррард сразу понял, что это новая галлюцинация. Все-таки чувство дисциплины и остатки самообладания заставили его взять себя в руки; стиснув зубы, астронавт слушал знакомый строгий голос.
– Шеррард! Держитесь! Мы вас запеленговали, только продолжайте кричать!
– Слышу! – завопил он.– Ради бога, поторопитесь! Я горю!
Рассудок еще не совсем покинул его, и он понял, что произошло. Пеньки обломанных антенн излучали в эфир слабенький сигнал, и спасатели услышали его крик, а раз он слышит их, значит, они совсем близко! Эта мысль придала ему сил.
Колин Шеррард напряг зрение, пытаясь сквозь туманный пластик разглядеть странное зеркало в небесах. Вот оно! И тут он сообразил, что обманчивость перспективы в космосе сбила его с толку. Зеркало не было исполинским и не парило на огромной высоте. Оно висело как раз над ним, быстро снижаясь.
Он еще продолжал кричать, когда зеркало заслонило собой лик восходящего Солнца и накрыло его благословенной тенью. Словно прохладный ветер из самого сердца зимы, пролетев многие километры над снегом и льдом, дохнул на него. Вблизи Шеррард сразу определил, что роль зеркала играл большой термоэкран из металлической фольги, поспешно снятый с какого-нибудь прибора. Тень от экрана позволила товарищам искать его, не боясь смертоносных лучей.
Держа одной парой рук экран, над глыбой парил двухместный космокар; две руки протянулись за Шеррардом. И хотя зной еще туманил голову и шлем, астронавт различил обращенное вниз встревоженное лицо капитана Маклеллана.
Так Колин Шеррард узнал, что значит родиться на свет.
Конечно, ведь он все равно что заново родился! Предельно измученный, он не ощущал благодарности – это чувство придет потом,– но отрываясь от раскаленного ложа, астронавт отыскал глазами яркий кружок Земли.
– Я здесь,– тихо произнес он.– Я возвращаюсь!
Он возвращался, заранее предвкушая, как будет радоваться всем прелестям мира, который считал утраченным навсегда. Впрочем, нет, не всем.
Он больше никогда не сможет радоваться лету.
Если вы жили только на Земле, вы не видели Солнца. Конечно, мы смотрели на него не прямо, а через мощные фильтры, которые умеряли его яркость, делая ее терпимой для глаз. Солнце неизменно висело над низкими зазубренными утесами к западу от обсерватории, не восходя и не заходя, лишь описывая небольшой круг на небе за год, который в нашем маленьком мире длился восемьдесят восемь земных дней. Не совсем верно говорить о Меркурии, что он всегда обращен к Солнцу одной стороной: планета чуть покачивается на своей оси, поэтому есть узкий сумеречный пояс, где применимы такие обычные земные понятия, как утренняя и вечерняя заря.
Мы находились на краю сумеречной области; можно было воспользоваться прохладными тенями и вместе с тем постоянно наблюдать Солнце, парящее над утесами. Круглосуточная работа для пяти десятков астрономов и иных научных сотрудников; лет через сто мы, возможно, будем кое-что знать о небольшой звезде, давшей Земле жизнь.
Не было той области солнечного излучения, исследованию которой не посвятил бы свою жизнь кто-нибудь из сотрудников обсерватории; и уж следили мы, как коршуны. От рентгеновских лучей до самых длинных радиоволн – на всех частотах мы расставили свои ловушки и капканы; стоило Солнцу придумать что-нибудь новое – мы уж тут как тут. Так мы полагали…
Пылающее сердце Солнца пульсирует в медленном, одиннадцатилетнем ритме, и как раз приближалась вершина цикла. Два пятна, чуть ли не самые крупные, какие когда-либо наблюдались (одно из них – достаточно большое, чтобы поглотить сто земных шаров), проплыли вдоль солнечного диска, словно исполинские черные воронки, уходящие далеко в глубь беспокойных верхних слоев звезды. Разумеется, черными они казались только рядом с окружающим их ослепительным сиянием; даже их темные, прохладные ядра жарче и ярче вольтовой дуги. Мы как раз проследили, как второе пятно исчезло за краем диска (интересно, уцелеет ли оно, появится ли вновь через две недели), и вдруг на экваторе выросла шапка взрыва!
Сперва зрелище было не особенно эффектное, потому что выброс произошел как раз в середине солнечного диска. Случись он возле края, с проекцией на космос, картина, наверно, была бы потрясающая.
Представьте себе одновременный взрыв миллиона водородных бомб. Не можете? Никто не может. И однако же нечто в этом роде видели мы. Прямо к нам из вращающегося солнечного экватора со скоростью сотен миль в секунду мчалось выброшенное взрывом вещество. Сперва – узкой струей, однако края струи быстро превратились в бахрому под действием противоборствующих ей магнитных и гравитационных сил. Но ядро летело дальше, и вскоре стало очевидно, что оно совсем оторвалось от Солнца и устремилось в космос, причем мы – его ближайшая мишень.
Хотя такое случалось уже не раз, мы всегда одинаково волновались. Ведь можно будет поймать толику солнечного вещества, летящего в гигантском облаке ионизированного газа. Опасности никакой: пока вещество достигнет нас, оно окажется слишком разреженным, вреда не причинит. Больше того, нужны очень чувствительные приборы, чтобы вообще его обнаружить.
Одним из таких приборов был радар обсерватории; он постоянно нащупывал невидимые ионизированные слои, на миллионы миль опоясавшие Солнце. Это была моя работа. И как только появилась надежда выделить на фоне Солнца надвигающееся облако, я направил на него свое гигантское «радиозеркало».
Вот он, отчетливо виден на «дальнобойном» экране – огромный лучезарный остров, удаляющийся от Солнца со скоростью сотен миль в секунду. Пока не видно никаких подробностей, он слишком далеко, волны радара не одну минуту тратили на то, чтобы проделать путь в оба конца и доставить информацию на мой экран. Несмотря на скорость – около миллиона миль в час,– вырвавшийся протуберанец лишь через двое суток достигнет орбиты Меркурия и умчится дальше, к другим планетам. Но ни Венера, ни Земля не отметят его прохождения, так как он пролетит в стороне от них.
Шли часы. Солнце утихомирилось после непостижимой конвульсии, которая безвозвратно извергла столько миллионов тонн материи в межпланетное пространство. А вскоре медленно извивающееся и вращающееся облако размером в сто раз больше Земли окажется достаточно близко, чтобы радар показал нам его строение.
Сколько лет я здесь работаю, а до сих пор не могу без волнения видеть, как светящийся след, сопряженный с пучком радиоволн передатчика, рисует изображение на экране. Я иногда кажусь себе слепцом, который прощупывает окружающее его пространство палкой длиной в сто миллионов миль. Ведь человек и впрямь слеп, если говорить о предметах, которые я изучаю. Исполинские облака ионизированного газа, улетающие далеко прочь от Солнца, вовсе невидимы глазу, их не заметит даже самая чувствительная фотографическая пластинка. Они – призраки, всего лишь несколько часов витающие в солнечной системе. Если бы они не отражали волн, излученных нашими радарами, и не влияли на наши магнитометры, мы бы о них и не знали.
Изображение на экране напоминало фотоснимок спиральной туманности: медленно вращаясь, облако на десятки тысяч миль вокруг разбросало лохматые щупальца газа. А можно сравнить его с наблюдаемым сверху циклоном в атмосфере Земли. Внутреннее строение облака было чрезвычайно сложно, и оно ежеминутно менялось под воздействием сил, далеко не изученных нами. Реки огня скользили в причудливых руслах, которые могли быть созданы только электрическими полями. Но почему они возникали из ничего и вновь исчезали, точно происходило сотворение и уничтожение материи? И что это за мерцающие гранулы, каждая размером больше Луны, подобные валунам в бурном потоке?
Уже меньше миллиона миль отделяло облако от нас; еще какой-нибудь час, и оно будет здесь. Автоматические съемочные камеры фиксировали каждый кадр на экране радара, накапливая свидетельства, которых нам хватило на много лет спора. Магнитное возмущение, опережающее облако, уже достигло нас; кажется, во всей обсерватории не было прибора, который так или иначе не отзывался бы на стремительное приближение призрака.
Я изменил настройку радара; сразу изображение выросло настолько, что на экране умещалась только его центральная часть.
Одновременно я стал менять частоту импульсов, стараясь различить слои. Чем короче волна, тем глубже можно проникнуть в толщу ионизированного газа. Таким способом я надеялся получить своего рода рентгеновский снимок внутренности облака.
Казалось, оно меняется у меня на глазах по мере того, как я проникал сквозь разреженную оболочку с ее щупальцами и приближался к более плотному ядру. Слово «плотный» применимо здесь, конечно, лишь относительно; по нашим земным меркам даже самые компактные участки облака были вакуумом. Я почти достиг предела моей шкалы частот и уже не мог получать более коротких волн, когда приметил почти посредине экрана необычный по виду, яркий след отраженного сигнала.
Он был овальный, с четко очерченными краями, гораздо более ясный, чем «гранулы» газа, которые мы видели в струях пламенного потока. С первого взгляда я понял – это что-то странное, необычное, такого еще никто не наблюдал. Электронный луч нарисовал еще дюжину кадров, наконец я подозвал своего ассистента, который стоял у радиоспектрографа, определяя скорости летящих к нам газовых вихрей.
– Глянь-ка, Дон,– сказал я ему.– Видел ты когда-нибудь что-либо подобное?
– Нет,-ответил он, приглядевшись.-Какие силы его образуют? Вот уже две минуты очертания не меняются.
– Это-то меня и озадачивает. Что бы это ни было, ему давно пора распадаться, такая свистопляска вокруг! А оно все остается неизменным.
– А размеры его, по-твоему?
Я включил шкалу и быстро снял показания.
– Длина около пятисот миль, ширина вдвое меньше.
– А покрупнее сделать нельзя?
– Боюсь, что нет. Придется подождать – подойдет ближе, тогда и разглядим, откуда такая плотность.
Дон нервно усмехнулся.
– Нелепо, конечно,– сказал он,– но знаешь, что оно мне напоминает? Точно я разглядываю в микроскоп амебу.
Я не ответил: та же мысль, будто откуда-то извне, пронизала мое сознание.
Мы даже позабыли об остальной части облака, но, к счастью, автоматические камеры продолжали свою работу и ничего не упустили. А мы не сводили глаз с ясно очерченной газовой чечевицы, которая, поминутно увеличиваясь на экране, мчалась к нам. И когда до облака оставалось не больше, чем от Земли до Луны, стали выделяться первые подробности внутреннего строения. Это было какое-то странное крапчатое образование, и каждый последующий кадр развертки давал иную, новую картину.
Уже половина сотрудников обсерватории столпилась в радарной, но парила тишина, все смотрели, как на экране стремительно растет загадка. Она летела прямо на нас; еще несколько минут – и «амеба» столкнется с Меркурием где-то в его дневной части. Столкнется и погибнет… От первого детального изображения и до той секунды, когда экран снова опустел, прошло не больше пяти минут. Эти пять минут на всю жизнь запомнились каждому из нас.
Мы видели некий прозрачный овал, внутренность которого была пронизана сетью едва видимых линий. В местах пересечения линий словно пульсировали крохотные узелки света. А может быть, это нам только почудилось? Ведь радар тратил почти минуту на то, чтобы дать на экране полное изображение, а объект успевал за это время переместиться на несколько тысяч миль. Но сетка существовала, в этом никто не сомневался, и камеры ясно ее запечатлели.
Иллюзия, будто мы смотрим на нечто плотное, была настолько сильна, что я на секунду оторвался от экрана радара и поспешно навел резкость направленного в небо оптического телескопа. Конечно, я ничего не увидел, даже намека на какой-нибудь силуэт на фоне помеченного оспинами солнечного диска. Это был один из тех случаев, когда глаз оказывается бессильным и только электрические органы чувств радара могут что-то уловить. Летящий к нам из солнечного чрева предмет был прозрачным, как воздух, и куда более разреженным.
Истекали последние секунды; и мы все – я уверен – уже пришли к одному и тому же выводу, ждали только, кто первый его выскажет. Да, это невозможно – и все-таки доказательство у нас перед глазами… Мы видели жизнь там, где жизнь существовать не может!
Извержение вырвало это создание из его обычной среды в недрах пылающей атмосферы Солнца. Оно чудом пережило долгое путешествие в космосе, но теперь, видимо, умирало, по мере того как силы, управляющие исполинским невидимым телом, теряли власть над ионизированным газом, его единственной субстанцией.
Теперь, когда я сотни раз просмотрел заснятые пленки, мысль эта уже не кажется мне столь необычной. Ведь что такое жизнь, как не организованная энергия? Что за энергия, не так уж важно – химическая, известная нам по Земле, или чисто электрическая, как это, видимо, было тут… Не род субстанции главное, а ее организация. Но тогда я не думал об этом. Потрясенный сознанием великого чуда, я смотрел, как доживает последние секунды это, детище Солнца.
Было ли оно разумным? Понимало ли, какой необычный рок его постиг? Можно задать тысячу подобных вопросов и никогда не получишь на них ответа. Трудно допустить, чтобы создание, родившееся в горниле самого Солнца, могло что-либо знать о внешней вселенной или хотя бы вообразить нечто столь невыразимо холодное, как жесткая негазообразная материя. Падающий на нас из космоса живой остров не мог, будь он трижды разумен, представить себе мир, к которому так стремительно приближался.
Уже он заполнил наше небо и, быть может, в эти последние секунды понял, что впереди появилось что-то необычное. То ли воспринял обширное магнитное поле Меркурия, то ли ощутил рывок гравитационных сил нашего маленького мира. Во всяком случае, он стал меняться: светящиеся волокна (хочется сравнить их с нервной системой) стягивались вместе, образуя новые узоры, смысл которых я бы не прочь разгадать. Быть может, я заглянул в мозг не наделенного разумом чудовища, охваченного страхом, или небожителя, который прощался со вселенной…
И вот экран радара пуст, светящийся след все с него стер в своем беге. Создание упало за пределами нашего горизонта, скрытое кривизной планеты. Где-то на жаркой дневной стороне Меркурия, в аду, куда сумело проникнуть всего человек десять – и еще меньше вернулось живыми,– оно незримо и беззвучно разбилось о моря расплавленного металла, о горы медленно ползущей лавы. Сам по себе удар для такого существа не играл никакой роли, но встреча с непостижимым холодом плотной материи оказалась роковой.
Да, да, холодом. Оно упало в самом жарком месте солнечной системы, температура здесь никогда не опускается ниже семисот градусов по Фаренгейту, а порой достигает и тысячи. Но для него это было несравненно холоднее, чем для обнаженного человека самая суровая арктическая зима.
Мы не видели его смерти в леденящем пламени, существо очутилось за пределами досягаемости наших приборов, ни один из них не зарегистрировал кончины. И все-таки каждый из нас знал, когда наступила та секунда, вот почему мы безучастно слушаем тех, кто смотрел только фильмы, но уверяют нас, будто мы наблюдали обыкновенное природное явление.
Как описать, что мы ощущали в тот последний миг, когда половина нашего маленького мира была опутана распадающимися щупальцами исполинского, хотя и бестелесного, мозга? Могу только сказать, что это было вроде беззвучного крика, исполненного предельной тоски, выражение смертной муки, которое проникло в наше сознание, минуя ворота чувств. Ни тогда, ни после никто из нас не сомневался, что был свидетелем гибели гиганта.
Быть может, мы первые и последние люди, кому довелось наблюдать столь величественную кончину. Кем бы они ни были, эти обитатели невообразимого мира в солнечных недрах, возможно, что наши пути уже никогда более на скрестятся. Трудно представить себе, чтобы мы могли вступить в контакт с ними, даже если их разум превосходит наш.
И так ли это? Может быть, нам же лучше не знать ответа… Возможно, они живут внутри Солнца со времени зарождения вселенной и достигли таких вершин мудрости, на какие нам никогда не подняться. Быть может, будущее принадлежит им, а не нам: быть может, они уже переговариваются через тысячи световых лет со своими собратьями внутри других звезд.
Настанет, возможно, день, когда они посредством того или иного присущего им особенного чувства обнаружат нас, вращающихся вокруг их могучей древней родины, нас, гордых своими знаниями, почитающих себя властелинами мироздания. И возможно, открытие их не обрадует, ведь для них мы будем всего лишь червяками, точащими кору планет, которые чересчур холодны, чтобы своими силами очиститься от заразы органической жизни.
И тогда, если это в их силах, они сделают то, что сочтут нужным. Солнце покажет свою мощь и оближет лица своих детей, и планеты продолжат путь такими, какими были изначально: чистыми, гладкими… и стерильными.
Никогда еще весенний Вашингтон не казался ему таким прекрасным… Последняя весна, мрачно подумал сенатор Стилмен. Даже теперь, хотя слова доктора Джордена не оставляли места для сомнений, трудно было примириться с истиной. Прежде он всегда находил выход, пусть полный крах порой казался неизбежным. Если его предавали люди, он увольнял их, даже сокрушал в назидание другим. На этот раз измена таилась в нем самом. Так и кажется, что чувствуешь тяжелый ход своего сердца, а вскоре оно и вовсе остановится. Никакого смысла готовиться к президентским выборам 1976 года; хорошо, если он доживет до выдвижения кандидатур…
Конец мечтам и честолюбию, и нет утешения в мысли о том, что рано или поздно всех ждет конец. Рано, слишком рано! Недаром Сесиль Родс – один из его идеалов – воскликнул перед смертью: «Столько дела – и так мало времени отведено!» Родс не дожил и до пятидесяти лет; он намного старше, а совершил гораздо меньше.
Машина увозила его прочь от Капитолия. В этом есть что-то символическое, но лучше не задумываться… Вот и Нью-Смитсониен, могучий комплекс музеев, которые ему было вечно некогда посетить, а ведь сколько раз проезжал мимо за те годы, что прожил в Вашингтоне. Сколько упущено в непрестанной погоне за властью, с горечью сказал он себе. Мир культуры и искусства был по сути дела закрыт для него, и ведь это лишь часть цены. Он стал чужим в собственной семье, растерял былых друзей. Любовь принесена в жертву на алтарь честолюбия, а жертва оказалась напрасной. Есть ли на всем свете хоть один человек, который станет оплакивать его кончину?
Конечно, есть. У него стало легче на душе, чувство беспредельного одиночества поумерилось. Беря телефонную трубку, сенатор со стыдом подумал, что вынужден справиться о номере у секретаря, хотя память удерживает множество куда менее важных вещей…
(Вот Белый дом, залитый ярким светом весеннего солнца. Впервые в жизни он скользнул по нему равнодушным взглядом. Белый дом уже принадлежал иному миру – миру, до которого ему больше нет и не будет дела).
В автомобиле не было видеоустройства, но сенатор и без того уловил оттенок удивления и даже намек на радость в голосе Айрин.
– Здравствуй, Рени, как вы там поживаете?
– Отлично, папа. Когда мы тебя увидим?
Вежливая формула, к которой дочь всегда прибегала в тех редких случаях, когда он звонил. И всегда, исключая рождество или дни рождения, сенатор отвечал неопределенным обещанием как-нибудь заглянуть…
– Я хотел спросить, – произнес он медленно, извиняющимся тоном,– можно ли заехать за ребятишками. Давно мы с ними нигде не были, и надоело все сидеть в канцелярии.
– Конечно, заезжай! – Голос Айрин потеплел.– Они будут рады. Когда тебя ждать?
– Давай, завтра. Приеду около двенадцати и повезу их в зоопарк или Смитсониен, куда захотят.
Вот теперь она изумилась – ведь он один из самых занятых людей в Вашингтоне, его время расписано на недели вперед… Будет спрашивать себя, что произошло; хоть бы не догадалась. Да нет, не должна, ведь даже его секретарь ничего не знает об острых болях, которые в конце концов вынудили сенатора обратиться к врачу.
– Чудесно! Как раз вчера они говорили о тебе, спрашивали, когда же ты опять приедешь.
Глаза сенатора увлажнились. Хорошо, что Рени его не видит.
– Значит, в полдень,– поспешно сказал он, боясь, как бы голос не выдал его.– Обнимаю вас всех.
Он отключился, не дожидаясь ответа, и со вздохом облегчения откинулся на спинку сиденья. Первый шаг к перестройке своей жизни сделан – без всякой подготовки, вдруг. Он упустил собственных детей, но мост, соединяющий его со следующим поколением, цел. В оставшиеся месяцы нужно хотя бы сберечь и укрепить этот мост.
Вряд ли доктор посоветовал бы ему пойти в Музей естественной истории с двумя любознательными непоседами, но он с этим не считался. Джо и Сьюзен заметно подросли с их последней встречи, требовалось не только физическое, но и умственное напряжение, чтобы поспевать за ними. Едва войдя в ротонду, дети галопом бросились к огромному слону, занимавшему самое видное место в мраморном зале.
– Что это? – вскричал Джо.
– Это же слон, дурачок, – снисходительно ответила Сьюзен; ведь ей уже было целых семь лет.
– Знаю, что слон,– отрезал Джо.– А как его зовут?
Сенатор Стилмен обратился к дощечке, но не нашел там ответа. Самое время действовать по принципу: «Смелость города берет»…
– Его зовут, гм, Джумбо! – выпалил он.– Погляди, какие клыки!
– А у него болели зубы?
– Что ты, никогда.
– А как он чистил зубы? Мама говорит, если я не буду чистить зубы…
Стилмен угадал, куда клонит Джо, и поспешил переменить тему.
– Дальше будет еще много интересного! С чего начнем – с птиц, змей, рыб, млекопитающих?
– Змей! – решительно потребовала Сьюзен.– Я хотела посадить змею в банку, а папа не позволил. Ты попроси его, может он передумает?
– А что такое – млекопитающие? – спросил Джо, прежде, чем Стилмен успел придумать ответ для Сьюзен.
– Пойдемте,– твердо сказал он.– Я покажу.
Они шли по залам и переходам, дети сновали от одного экспоната к другому, и на душе у сенатора было хорошо. Ничто не действует на человека так умиротворяюще, как музей; здесь все повседневное обретает свои истинные размеры. Изобретательность волшебницы-природы неисчерпаема, и ему вспомнились забытые было истины. Он всего лишь один из миллиона миллионов обитателей планеты Земля. Весь человеческий род с его чаяниями и тревогами, победами и безрассудствами – быть может, только эпизод в истории мира. Стоя перед чудовищным скелетом диплодока (даже дети благоговейно примолкли), он ощутил дыхание вечности. И с улыбкой подумал о своем честолюбивом убеждении, будто он – тот человек, который нужен нации. Какой нации, коли на то пошло? Декларация о независимости подписана всего каких-нибудь двести лет назад, а вот этот древний американец пролежал в земле Уты сто миллионов лет…
Он устал к тому времени, когда они вошли в Зал океанической жизни, где выразительный экспонат подчеркивал, что на Земле и в наши дни есть животные, превосходящие размерами все известное в прошлом. Девяностофутовый кит, житель пучин, и прочие стремительные охотники морей напомнили ему часы, которые он провел на маленькой, влажно блестящей палубе, под крылатым белым парусом. Хорошо – плеск рассекаемой килем воды, вздохи ветра в снастях… Тридцать лет как не ходил на яхте; еще одна радость, которой он пренебрег.
– Я их не люблю, рыб этих,– пожаловалась Сьюзен.– Хочу к змеям пойти!
– Сейчас,– ответил он.– И куда ты спешишь? У нас еще много времени.
Он сам не заметил, как у него вырвались эти слова. Сенатор размеренным шагом побрел дальше, а дети умчались вперед. Вдруг он улыбнулся, улыбнулся без горечи. Что ж, в каком-то смысле это верно. Времени, действительно, много. Каждый день, каждый час может вместить в себя целый мир впечатлений, нужно только разумно их тратить. В последние недели своей жизни он начнет жить.
Пока никто в конторе ничего не заподозрил. Даже его вылазка с внуками не вызвала особенного удивления; случалось и прежде, что он вдруг отменял все деловые встречи, предоставляя своим помощникам выкручиваться. До сих пор в его действиях не было ничего необычного, но через несколько дней приближенным станет ясно: что-то случилось. Он обязан возможно скорее сообщить им – и своим политическим коллегам – неприятную новость; но прежде чем свертывать свои дела, надо основательно обдумать и решить множество личных вопросов.
И еще одно заставляло его медлить. За всю свою карьеру он почти не знал неудач и никого не щадил в острых политических схватках. Теперь, перед лицом конечного краха, он с ужасом думал о потоке соболезнований, который тотчас обрушат на него многочисленные противники. Глупо, конечно, остаток непомерного самолюбия, которое слишком крепко сидит в нем, чтобы исчезнуть даже перед лицом смерти.
Больше двух недель он хранил тайну. На заседаниях комиссии, в Белом доме, в Капитолии, в лабиринтах вашингтонского света сенатор играл, как никогда еще за всю свою карьеру, и некому было оценить его игру. Наконец программа действий была разработана, оставалось только отправить несколько писем, которые он сам написал от руки, и позвонить жене.
Секретариат отыскал ее в Риме. Глядя на возникшее на экране лицо, сенатор подумал, что она еще хороша собой, вполне достойна звания Первой Дамы государства – супруги президента – и это отчасти вознаградило бы ее за утерянные годы. Кажется, она мечтала об этом – впрочем, разве он когда-нибудь знал по-настоящему, о чем она мечтает?
– Здравствуй, Мартин,– сказала жена.– Я ждала твоего звонка. Хочешь, чтобы я приехала?
– А ты? – тихо спросил он.
Мягкость его голоса заметно ее удивила.
– Было бы глупо ответить «нет», верно? Но если тебя не изберут, я уеду опять. Ты уж не возражай.
– Меня не изберут. Даже не выдвинут моей кандидатуры. Ты первая, кому я об этом говорю, Диана. Через полгода меня не будет в живых.
Жестокая откровенность, но он намеренно так поступил. Доля секунды, которая требовалась радиоволнам, чтобы достичь спутников связи и вернуться на Землю, никогда еще не казалась ему столь долгой. А затем – да, впервые ему удалось сорвать эту красивую маску. Ее глаза расширились, одну руку она порывисто прижала к губам.
– Ты шутишь!
– Такими вещами? Нет, это правда. Сердце износилось. Мне сказал об этом две недели назад доктор Джорден. Конечно, я сам виноват, но не будем сейчас вдаваться в подробности.
– Вот почему ты всюду водишь внуков… Я не могла понять, в чем дело.
Можно было ждать, что Айрин позвонит матери. Но до чего дошел Мартин Стилмен, если внимание к собственным внукам насторожило его близких!…
– Да,– откровенно признался он.– Боюсь, я поздно спохватился. Теперь пытаюсь наверстать упущенное. Все остальное меня как-то не волнует.
Они молча глядели в глаза друг другу, разделенные кривизной земного шара и пустыней лет, проведенных врозь. Потом Диана ответила дрогнувшим голосом:
– Я начинаю собираться.
Теперь, когда его секрет был всеобщим достоянием, сразу стало легче на душе. Даже сочувствие противников оказалось не так уж трудно переварить. Тем более, что противников вдруг не стало. Люди, годами поминавшие его только бранными словами, слали письма, в искренности которых нельзя было сомневаться. Старые ссоры забывались или оказывались основанными на недоразумениях. Жаль, что об этом узнаёшь только перед смертью…
Он узнал также, что не так-то просто умирать, когда ты занимаешь видный пост, нужно основательно потрудиться: подобрать преемников, распутать правовые и финансовые узлы, закончить дела в комиссии, в государственных органах. Дело, которому отдана целая жизнь, нельзя оборвать вдруг, поворотом выключателя. Просто поразительно, сколько у него накопилось обязанностей и как трудно от них избавиться. Он никогда не любил делиться с кем-либо своей властью (и многие подчеркивали этот роковой недостаток в человеке, который собирался стать президентом), сейчас нужно было с этим поспешить, пока власть не выскользнула навсегда из его рук.
Словно кончался завод больших часов и некому подкрутить пружину. Передавая свои папки, читая и уничтожая старые письма, закрывая ненужные счета и дела, диктуя последние наставления, составляя прощальные заметки, он порой ловил себя на том, что все происходящее кажется ему нереальным. Боли прошли, и будто впереди еще много лет деятельной жизни. Но путь в будущее преградили какие-то закорючки на кардиограмме – словно шлагбаум или анафема на загадочном языке, понятном лишь докторам.
Почти ежедневно Диана, Айрин или ее муж привозили к нему внуков. Прежде он плохо ладил с Биллом, теперь убедился, что сам был в этом повинен. Нельзя требовать от зятя, чтобы он заменил сына, несправедливо винить Билла в том, что тот не годится для роли Мартина Стилмена-младшего. Билл человек вполне самостоятельный, он хорошо заботится об Айрин, она счастлива с ним, у них есть дети. Конечно, отсутствие честолюбия изъян (полно, изъян ли?), но такой, который можно простить.
Он мог даже без горечи и боли думать о собственном сыне, который раньше него закончил свой жизненный путь и покоился – один крест среди многих – на кладбище ООН в Кейптауне. Ему не довелось побывать на могиле Мартина. Когда у него было время для этого, белый человек не пользовался любовью в бывшей Южно-Африканской Республике. Теперь можно съездить – но вправе ли он подвергать таким страданиям Диану? Его недолго будут преследовать воспоминания, ей же еще много лет жить с ними…
Все– таки надо посетить Кейптаун, это его долг. А для внуков это будет настоящий праздник, увлекательное путешествие в неведомый край, ничуть не омраченное мыслями об умершем дяде, ведь они его никогда не видели. И он начал собираться в путь, но тут опять -во второй раз за месяц – в его жизни все перевернулось вверх дном.
Даже теперь у дверей его кабинета каждое утро ожидал десяток-другой посетителей. Не так много, как в былые дни, однако вполне достаточно. Но чтобы среди них оказался доктор Хакнесс?!…
При виде этой худой нескладной фигуры он невольно замедлил шаг. Кровь ударила в лицо и сердце забилось чаще от воспоминания о былых схватках на заседаниях комиссии и бурных радиотелефонных разговорах, от которых в эфире искры летели. Тут же он взял себя в руки. Все это позади, ушло безвозвратно – во всяком случае для него.
Хакнесс встал и нерешительно подошел к нему. За последние недели Стилмен привык к этому: каждый, кого он встречал, испытывал замешательство и неловкость от старания избежать запретной темы.
– Здравствуйте, доктор,– сказал он.– Ничего не скажешь: сюрприз. Вот не ждал увидеть здесь вас.
Он не мог удержаться от этого маленького выпада, и приятно было убедиться, что стрела попала в цель. Впрочем, укол был безболезненным, он понял это по улыбке доктора.
– Сенатор, – Хакнесс говорил очень тихо, Стилмену пришлось даже нагнуться, чтобы его расслышать. – У меня есть для вас чрезвычайно важное известие. Мы можем переговорить наедине? Всего несколько минут.
Стилмен кивнул, хотя у него было свое собственное мнение – что теперь важно, а что нет, и слова ученого не пробудили в нем особенного любопытства.
Хакнесс заметно изменился с их последней встречи семь лет назад. Теперь он выглядел куда более уверенным в себе, даже самонадеянным, исчезла нервозность, из-за которой его свидетельские показания звучали так неубедительно.
– Сенатор,– заговорил гость, едва они вошли в кабинет.– То, что я сейчас скажу, потрясет вас. По-моему, вас можно вылечить.
Стилмен тяжело упал в кресло. Этого он никак не ожидал. С самого начала он твердо сказал себе: никаких тщетных надежд, только глупец тратит силы на борьбу с неотвратимым – и примирился с судьбой.
На мгновение он онемел, потом взглянул на своего старого врага и через силу заговорил:
– Откуда вы это взяли? Все мои врачи…
– Бог с ними, они не виноваты, что отстали на десять лет. Посмотрите вот это.
– Что это такое? Я не понимаю по-русски.
– Последний выпуск советского «Вестника Космической Медицины». Пришел несколько дней назад, и мы сразу, как обычно, сделали перевод. Вот, я отчеркнул, заметка о новейших исследованиях на космической станции «Мечников».
– Что за станция?
– Как, вы не знаете? Это же их Космическая больница, они смонтировали ее как раз под Большим радиационным поясом.
– Продолжайте.– Стилмен говорил с трудом.– Просто я забыл название.
Он надеялся спокойно закончить свою жизнь, но прошлое настигло его…
– Конечно, заметка довольно скупая, но многое можно вычитать между строк. Это, так сказать, первая ласточка, чтобы закрепить за собой приоритет, пока будет написан полный отчет. Заголовок: «Терапевтическое воздействие невесомости на болезни кровеносной системы». Они искусственно вызывали сердечные заболевания у кроликов и хомяков, потом забрасывали их на космическую станцию. Там же, на орбите, все невесомо, нагрузки на сердце и мышцы почти никакой. А в итоге – то самое, что я пытался втолковать вам еще несколько лет назад. Приостанавливается развитие даже самых тяжелых заболеваний, а многие и вовсе излечиваются. Небольшой кабинет с полированными панелями, который столько лет был центром его мира, ареной множества совещаний, кузницей всевозможных планов, вдруг стал нереальным. Воспоминания были куда ярче: он снова был на заседании, состоявшемся осенью 1969 года, когда обсуждали – и яростно критиковали – итоги первых десяти лет деятельности Национального управления аэронавтики и космонавтики.
Он никогда не занимал поста председателя сенатской Комиссии по астронавтике, зато был ее самым деятельным и речистым членом. Именно там он завоевал славу блюстителя казны, человека трезвого, которого никаким ученым мечтателям-утопистам не провести. Он вполне преуспел, и с тех пор его имя редко сходило с первых полос. И не потому, чтобы он очень увлекался наукой и космосом, просто у него было безошибочное чутье на злободневные вопросы.
Точно в его мозгу включилась запись давнишних событий…
– Доктор Хакнесс, вы – Технический директор Национального управления аэронавтики и космонавтики?
– Совершенно верно.
– Здесь передо мной лежат данные о расходах НУАК за период 1959 – 1969 годов, цифры внушительные. Истрачено 82 547 450 000 долларов, на 1969/70 финансовый год вы запрашиваете более десяти миллиардов. Хотелось бы услышать, что мы можем ожидать взамен?
– С удовольствием расскажу, сенатор. Так начался тот разговор: строго, но не враждебно. Враждебные нотки появились чуть погодя. Он сам знал, что они неоправданны: у любой большой организации бывают слабости и неудачи. А когда речь идет об организации, которая в буквальном смысле слова метит в звезды, стопроцентного успеха требовать нельзя. С самого начала было ясно, что штурм космоса обойдется в деньгах и в человеческих жизнях по меньшей мере так же дорого, как завоевание воздуха. За десять лет погибло около ста человек – на Земле, в космосе, на бесплодной поверхности Луны. И теперь, когда поунялась лихорадка, отличавшая начало шестидесятых годов, общественность начала задавать вопрос: «Ради чего?». Стилмен сразу смекнул, что не худо стать рупором вопрошающих голосов. Он действовал холодно и расчетливо; требовался козел отпущения – к несчастью доктора Хакнесса, он был словно создан для этой роли.
– Хорошо, доктор Хакнесс, я понимаю, как много сделали космические исследования для улучшения коммуникаций и прогнозов погоды. Уверен, что все это ценят. Но это почти целиком достигнуто с помощью автоматических ракет без экипажа. Меня – и не только меня – тревожит иное: огромные расходы на программу «Человек в космосе» и ее весьма ограниченная отдача. Начиная с первых циклов программы – «Дайна-Сор» и «Аполлон»,– мы запустили в космос миллиарды долларов. А итог? Горстка людей может провести несколько не таких уж приятных часов за пределами атмосферы и достичь при этом не более того, что можно сделать с помощью телевидения и автоматических приборов – притом гораздо лучше и дешевле. А человеческие жертвы? Никто из нас не забудет криков, которые неслись в эфир, когда ИКС-21 сгорел, возвращаясь на Землю. Что дает нам право посылать людей на такую смерть?
Он хорошо помнил напряженную тишину, которая воцарилась в зале заседаний после его выступления. Он задал обоснованные вопросы, и на них надо было отвечать. Разумеется, нечестно было облекать их в столь риторическую форму, а главное – припирать к стене человека, не способного постоять за себя. Против фон Брауна или, скажем, Риковера Стилмен никогда бы не применил такую тактику, они сумели бы дать ему сдачи. Но Хакнесс не обладал даром оратора; если он и был способен на сильные чувства, то держал их про себя. Он был видный ученый, способный организатор – и никудышный докладчик. Хакнесс оказался легкой добычей для Стилмена. Газетчики наслаждались; кто-то из них поспешил приклеить ему прозвище: неудачник Хакнесс.
– Теперь, доктор, о вашей космической лаборатории на пятьдесят человек… Во сколько она обойдется?
– Я уже говорил: около полутора миллиардов.
– А ежегодные эксплуатационные расходы?
– Не больше двухсот пятидесяти миллионов.
– Вы извините нас, если мы, учитывая судьбу прежних расчетов, отнесемся к этим цифрам с известным недоверием. Но даже если допустить, что расчет верен,– что мы получим за эти деньги?
– Мы сможем учредить нашу первую крупную исследовательскую лабораторию в космосе. До сих пор приходилось ставить эксперименты в тесных кабинах плохо приспособленных кораблей, выполняющих, как правило, другие задания. Нужна постоянная лаборатория-спутник с людьми на борту. Без этого не будет дальнейшего прогресса. Астробиология не может развернуться по-настоящему…
– Астро… как вы сказали?
– Астробиология, изучение живых организмов в космосе. Русские основали эту науку, когда запустили на Втором спутнике Лайку, и они по-прежнему опережают нас в этой области. Однако исследование насекомых и. беспозвоночных по сути дела еще не начиналось. Вообще изучались только собаки, мыши, обезьяны.
– Понятно. Правильно ли будет сказать, что вы просите ассигнований на создание зоопарка в космосе?
Смех, прокатившийся по залу, помог похоронить проект. И его самого, подумал теперь Стилмен…
И кроме себя, некого упрекать. Доктор Хакнесс, пусть не очень убедительно, пытался обрисовать выгоды, которые могла бы дать космическая лаборатория. Особенно он подчеркнул медицинскую сторону вопроса, ничего определенного не обещал, но перечислил возможности. Так, хирурги, по его словам, могли бы разработать новые операции в условиях, где все органы невесомы; свободный от груза тяготения человек будет, вероятно, жить дольше, ведь сердцу и мышцам там придется гораздо легче. Да-да, он говорил и о сердце, но это нисколько не занимало тогда сенатора Стилмена – здорового, честолюбивого, озабоченного тем, чтобы дать хороший материал газетам…
– Почему вы пришли ко мне с этой новостью? – глухо сказал он.– Нельзя было дать мне умереть спокойно?
– В том-то и дело, что рано терять надежду! – нетерпеливо ответил Хакнесс.
– Только потому, что русские вылечили несколько хомяков и кроликов?
– Они сделали гораздо больше. Я показал вам предварительные сообщения, новости годичной давности. Они не хотят возбуждать ложных надежд, вот и не шумят.
– Откуда вам это известно?
На лице Хакнесса отразилось недоумение.
– Очень просто: я позвонил своему коллеге, профессору Станюковичу. Он сейчас на станции «Мечников», уже это показывает, сколь большое значение они придают этим исследованиям. Мы с ним старые друзья, и я позволил себе сказать о вашей болезни.
Проблеск надежды может произвести действие столь же мучительное, как и ее исчезновение. Вдруг стеснилось в груди… Уж не последний ли это приступ? Но судорога, вызванная волнением, тотчас прошла, звон в ушах стих, и он услышал голос доктора Хакнесса:
– Он спросил, можете ли вы сейчас прибыть в Астроград? Я обещал узнать. Если вы готовы, завтра утром есть подходящий рейс, в десять тридцать из Нью-Йорка.
Завтра он обещал поехать с внуками в зоопарк; впервые он их подведет. Чувство вины кольнуло его, и понадобилось некоторое усилие, чтобы ответить:
– Я готов.
Несколько минут огромный межконтинентальный ракетоплан, постепенно гася скорость, падал вертикально вниз из стратосферы, но полюбоваться Москвой сверху не пришлось. На время посадки телеэкраны выключались, пассажиры очень плохо переносили зрелище летящей навстречу земли.
В Москве он пересел в уютный, хотя и несколько устаревший турбовинтовой самолет. Летя на восток, навстречу ночи, он наконец смог улучить минуту, чтобы поразмыслить. Казалось бы, чего тут колебаться, и все же: так ли уж он рад тому, что его участь оказалась под вопросом? Совсем недавно все было предельно просто, а теперь жизнь вдруг опять усложнилась, открылись возможности, на которых он уже поставил крест. Прав был доктор Джонсон: ничто не действует так умиротворяюще на душу человека, как сознание того, что завтра его повесят. Во всяком случае, обратное справедливо: ничто не вызывает такого смятения, как мысль о возможной отмене приговора.
Сенатор спал, когда они приземлились в Астрограде, «космической столице» СССР. Разбуженный легким толчком, он в первый миг нe мог понять, где находится. Уж не приснилось ли ему, что он облетел вокруг половины земного шара в погоне за жизнью? Нет, это не сон, но погоня вполне может оказаться тщетной.
Двенадцать часов спустя он все еще ждал ответа. Сняты показания приборов, кончилась полная грозного смысла пляска световых пятнышек на экране кардиографа… Привычная обстановка медицинского обследования и тихие, уверенные голоса врачей и сестер помогли ему успокоиться. Он отдыхал в неярко освещенной приемной, где его попросили обождать, пока совещаются специалисты. Только русские журналы да портреты бородатых пионеров советской медицины напоминали, что он не у себя на родине.
Сенатор был не единственным пациентом. Человек двенадцать мужчин и женщин всех возрастов сидели вдоль стены с журналами в руках, стараясь выглядеть непринужденно. Никто не разговаривал и не пытался привлечь внимания остальных, каждый замкнулся в своей хрупкой скорлупе, взвешенный между жизнью и смертью. Несчастье объединяло их, но не располагало к общению. Казалось, их отделяет от остального человечества такая же пропасть, Как если бы они уже летели в космические дали, где крылась их единственная надежда.
Но в дальнем углу комнаты можно было видеть исключение. Молодые люди – от силы двадцать пять лет каждому – прильнули друг к другу с видом такого отчаяния, что поначалу только раздражали Стилмена. Как ни тяжело их горе, строго сказал он себе, нужно же и с другими считаться. Надо уметь скрывать свои чувства, особенно в таком месте.
Однако досада быстро сменилась жалостью. Кто может равнодушно смотреть на страдания двух искренне любящих сердец? В полной тишине, прерываемой лишь шелестом страниц да скрипом стульев, текли минуты, и постепенно его сочувствие переросло в душевную боль.
Интересно, кто они? У молодого человека нервные умные черты; возможно, художник, или ученый, или музыкант – трудно сказать. Его подруга ждет ребенка. Простое крестьянское лицо, как у многих русских женщин… Ее нельзя назвать красавицей, но грусть и любовь придали ей необычную прелесть. Стилмен не мог оторвать от нее глаз; казалось бы, никакого сходства, и все-таки она чем-то напоминала ему Диану. Тридцать лет назад, когда они вместе выходили из церкви, он видел тот же свет в глазах своей жены. Он почти успел его забыть… Кто виноват в том, что свет потускнел – она или он сам?
Вдруг кресло под ним вздрогнуло. Неожиданный сильный толчок тряхнул здание, будто где-то за много миль ударил по земле исполинский молот. Землетрясение? Но тут же Стилмен вспомнил, где находится, и стал считать секунды.
На шестидесятой он сдался: видимо, звукоизоляция настолько надежна, что воздушная звуковая волна до него не дошла. Лишь ударная волна, передавшись сквозь почву, говорила о том, что в небо ушел тысячетонный груз. А еще через минуту он услышал далекий, но явственный звук – словно где-то на краю света бушевала гроза. Выходит, расстояние намного больше, чем он думал. Какой же гул стоит в месте запуска?…
Но Стилмен знал: когда он взлетит в небо, гром не будет его беспокоить, стремительная ракета опередит звук. И перегрузки он не почувствует, ведь его тело будет покоиться в ванне, наполненной теплой водой. Удобнее даже, чем в этом мягком кресле.
Далекий гул еще несся от рубежей космоса, когда отворилась дверь и сестра поманила сенатора. Он чувствовал, как много глаз провожают его, но не обернулся, идя за приговором.
На всем пути обратно из Москвы телеграфные агентства настойчиво пытались связаться с ним, но он отказывался подойти к радиотелефону.
– Скажите, я сплю и меня нельзя беспокоить,– попросил он стюардессу.
Кто напустил их? – спрашивал он себя. Его злило это вторжение в его личную жизнь, а ведь сколько лет он чурался уединения, и лишь за последние недели познал его прелесть. Так можно ли корить репортеров и комментаторов, если они считают его прежним Стилменом?
Когда ракетоплан приземлился в Вашингтоне, сенатора ждали. Он знал большинство журналистов по имени, среди них были старые друзья, искренне обрадованные новостью, которая опередила его.
– Ну как, сенатор,– спросил Маколей из «Таймс»,– приятно вернуться в строй? Ведь это верно, русские берутся вас вылечить?
– Они хотят попробовать,– осторожно ответил Стилмен.– Речь идет о новой области медицины, точно ничего сказать нельзя.
– Когда вы отправляетесь в космос?
– Через несколько дней, как только улажу здесь кое-какие дела.
– И когда вы вернетесь, если лечение поможет?
– Трудно сказать. Даже если все пройдет благополучно, я пробуду там не меньше полугода.
Он невольно взглянул на небо. На рассвете и на закате – даже днем, если точно знать, куда смотреть,– «Мечников» отчетливо выделялся на небе, он был ярче любой звезды. Впрочем, теперь спутников стало так много, что только специалист мог отличить один от другого.
– Полгода,– произнес один из журналистов.– Значит, выборы семьдесят шестого года пройдут без вас.
– Ничего, впереди еще восьмидесятый,– возразил другой.
– И восемьдесят четвертый,– добавил третий под общий смех: стало уже обычным острить по поводу года, который читателям романа «1984» некогда казался очень далеким и который (дай Бог!) довольно скоро уйдет в прошлое как рядовой год.
Уши и микрофоны ждали ответа сенатора. Стоя у трапа, вновь очутившись в центре всеобщего внимания, он ощутил былой подъем. Это будет эффектно: он вернется из космоса новым человеком и опять выйдет на политическую арену! Кто из кандидатов сможет соперничать с ним!… Он уже чувствовал себя жителем Олимпа, полубогом и заранее представлял себе, как использует это в предвыборной кампании.
– Дайте мне время во всем разобраться, – сказал он.– Потом я займусь планами. Обещаю, мы еще встретимся до того, как я покину Землю.
«До того, как я покину Землю». Отличная, драматическая фраза. Он все еще в уме смаковал ее ритм, когда увидел выходящую из здания аэропорта Диану.
Она уже переменилась (да и он сегодня не тот, каким был вчера). В ее глазах появились настороженность и отчужденность, которых не было два дня назад. Яснее любых слов лицо Дианы говорило: «Значит, все начинается сызнова?» И хотя день был теплый, ему вдруг стало холодно, точно он простудился на далеких сибирских равнинах.
Но Джо и Сьюзен с прежним пылом бросились к деду. Он подхватил их, обнял и спрятал лицо в пушистых волосах, чтобы камеры не заметили внезапно брызнувших слез. И, ощутив теплые токи чистой, бескорыстной детской любви, он понял, какой выбор сделает.
Только внуки видели его свободным от зуда честолюбия – так пусть же навсегда запомнят его таким, если они вообще будут его помнить.
– Вы заказывали селекторный разговор, мистер Стилмен,– доложил секретарь.– Включаю на ваш личный экран.
Повернувшись вместе с креслом, сенатор очутился лицом к лицу с серым прямоугольником на стене. Одновременно прямоугольник раскололся пополам. В правой половине он видел кабинет, напоминающий его собственный и удаленный от него всего на несколько миль. Зато в левой…
Профессор Станюкович, одетый лишь в шорты и фуфайку, парил в воздухе в полуметре над своим креслом. При виде посторонних он ухватился за спинку, подтянулся, сел и пристегнулся матерчатым поясом. Позади него выстроилась целая батарея различных аппаратов. А за переборкой простирался космос.
Первым, с правого экрана, заговорил доктор Хакнесс.
– Мы ждали вашего звонка, сенатор. Профессор Станюкович говорит, что все готово.
– Следующий корабль будет через два дня, – сказал русский ученый.– С ним я возвращусь на Землю, но надеюсь сперва встретить вас на станции.
Его голос звучал неожиданно звонко в оксигелиевой атмосфере. Но только это и напоминало о расстоянии, помехи отсутствовали. Хотя Станюкович был в тысячах миль от Земли и мчался в космосе со скоростью четырех миль в секунду, его было видно так хорошо, словно он сидел в одном кабинете со Стилменом. Сенатор слышал даже тихое жужжание электромоторов в отсеке ученого.
– Профессор,– заговорил Стилмен,– мне хотелось бы сперва задать несколько вопросов.
– Пожалуйста!
Вот теперь расстояние дало себя знать: ответ Станюковича дошел не сразу; видимо, станция сейчас летит над противоположной стороной Земли.
– В Астрограде я видел в клинике много других пациентов. Можно узнать – по какому принципу отбирают больных для лечения?
Пауза затянулась, на этот раз явно не из-за медлительности радиоволн. Наконец Станюкович ответил:
– Отбирают тех, у кого больше надежд на излечение.
Но у вас, наверное, очень мало места. А кроме меня,– еще много желающих.
– Я не совсем понимаю…– вмешался доктор Хакнесс озабоченно. Чересчур озабоченно. Глаза Стилмена обратились к правому экрану. В человеке, смотревшем на него оттуда, было трудно узнать докладчика, который всего несколько лет назад не знал, как защититься от его уколов. Горький урок пошел впрок Хакнессу. Стилмен оказался его крестным отцом на поприще политики, и ученый не терял зря времени.
Его побуждения были очевидны сенатору с самого начала. Все правильно, Хакнесс тоже человек. Можно ли представить себе месть более сладкую, чем это выразительное подтверждение его правоты. Как директор Управления космонавтики

Хакнесс великолепно понимает, что битва за ассигнования будет наполовину выиграна, едва мир узнает, что возможный кандидат на пост президента США лечится в русской космической больнице – потому что его собственной стране такая больница оказалась не по карману.
– Доктор Хакнесс, – мягко произнес Стилмен, – это мое дело. Я жду вашего ответа, профессор.
Дело нешуточное, но он от души веселился. Ясно, как день: обоим ученым одинаково важно добиться успеха. Станюковичу тоже нелегко, можно представить себе, сколько этот вопрос обсуждали в Астрограде и Москве, и с какой охотой советские космонавты ухватились за такую возможность… Что ж, они вправе пожинать плоды своих усилий.
Да, положение, и ведь всего десять лет назад оно было немыслимо. НУАК и Комитет по космонавтике СССР работают рука об руку, используя его в своих общих интересах. Стилмен никого не осуждал – на их месте он поступил бы точно так же. Но он не желает быть пешкой в чужой игре, пока еще он сам собой распоряжается.
– Совершенно верно, – неохотно признал Станюкович. – Мы можем принять очень мало пациентов. Но ведь «Мечников» – всего-навсего научная лаборатория, а не стационар.
– Сколько? – допытывался Стилмен.
– Ну… не больше десяти,– еще более неохотно ответил Станюкович.
Старая проблема, только он никогда не думал, что она коснется его. Вспомнилась газетная заметка, которую он читал давным-давно. Когда открыли пенициллин, лекарство это на первых порах было настолько редким, что если бы стал вопрос о жизни и смерти Черчилля и Рузвельта, пришлось бы кем-то пожертвовать…
Не больше десяти. В Астрограде он видел двенадцать пациентов, а сколько их еще во всем свете? Снова – в который раз за последние дни – Стилмен вспомнил безутешную молодую пару в приемной. Возможно, он все равно их не выручит; поди, узнай.
Зато он знал другое. На его плечах лежит ответственность, от которой не уйти. Конечно, никому не дано заглянуть в будущее, предугадать все последствия своих поступков. И все-таки, если бы не он, сейчас у его страны могла быть своя собственная космическая лечебница в заатмосферных высях. Сколько жизней соотечественников на его совести? Вправе ли он принять то, в чем отказал другим? Прежде Стилмен сделал бы это – прежде, но не теперь.
– Джентльмены,– заговорил он,– я могу говорить с вами откровенно, ведь ваши интересы совпадают. (Так, видно: ирония дошла).– Я благодарен вам за помощь, ценю заботу, жаль, что все это впустую. Нет-нет, не возражайте, это не внезапная прихоть и не донкихотство. Будь я моложе лет на десять… Теперь же я чувствую, что эта возможность должна быть предоставлена кому-нибудь другому. Особенно учитывая мой послужной список.– Он приметил растерянную улыбку Хакнесса.– Есть и другие причины, личного свойства. В общем, ничто не заставит меня передумать. Прошу вас, не сочтите меня невежливым, но мне больше не хочется обсуждать этот вопрос. Еще раз большое спасибо, до свиданья.
Он повернул выключатель, удивленные лица ученых растаяли, и в душе сенатора вновь утвердился покой.
Незаметно весну сменило лето. Отпраздновали ожидавшееся с таким нетерпением двухсотлетие; впервые Стилмен встретил День независимости как частное лицо. Он мог сидеть спокойно, глядя, как выступают другие; мог при желании вообще не смотреть на них.
Не так-то просто порвать с тем, чему отдана целая жизнь, и не хотелось упускать последнего случая повидать старых друзей, поэтому он много часов провел у телевизора, следя за ходом съездов обеих партий и внимательно слушая комментаторов. Теперь, когда он все видел в свете вечности, можно было не горячиться. Мартин Стилмен вполне оценил и суть, и умение спорить, но уже как посторонний, будто наблюдатель с другой планеты. Маленькие крикливые фигурки на экранах были потешными марионетками в забавном спектакле, и только.
Не то для его внуков, которым когда-нибудь предстоит выйти на те же подмостки. Он не забывал об этом; они были его вкладом в завтрашний день, пусть даже этот день окажется совсем непохожим на сегодняшний. А чтобы понять будущее, надо знать прошлое.
И он повез их в прошлое. Машина мчалась по Мемориальной Аллее. Диана была за рулем, Айрин – рядом с ней, сам Стилмен сидел сзади с внуками, показывая им знакомые места. Знакомые ему, но не им. Пусть они еще слишком малы, чтобы понять все увиденное, во всяком случае хоть что-нибудь запомнят.
Мимо мраморной тишины Арлингтона (он опять вспомнил Мартина, покоящегося в могиле на противоположной стороне земного шара) и вверх, по пригоркам. Позади, точно мираж, в летнем мареве трепетал и колыхался Вашингтон; но вот и он исчез за поворотом.
В Маунт-Верноне царил мир и покой – рабочий день, посетителей мало. Выйдя из машины и направляясь к зданию, Стилмен спрашивал себя, что сказал бы первый президент Соединенных Штатов, очутись он здесь теперь. Думал ли он, что его дом в полной сохранности завершит свое второе столетие – неизменяемый островок в бурном потоке времени.
Они медленно прошли по исполненным великолепной гармонии комнатам, терпеливо отвечая на бесконечные расспросы детей и вдыхая аромат несравненно более простого, покойного образа жизни. (Но казался ли он простым и покойным людям той поры?) До чего же трудно представить себе мир без электричества, без радио, когда единственным источником энергии были мускулы, ветер, вода. Мир, где скачущая лошадь воплощала предел скорости и большинство людей умирало не дальше нескольких миль от места своего рождения.
Жара, пешее хождение и неиссякаемый поток вопросов оказались более утомительными, чем ожидал Стилмен. И когда они достигли «Музыкальной комнаты», он решил отдохнуть. На террасе стояли очень заманчивые скамейки, можно посидеть на свежем воздухе, любуясь зеленой травой газона.
– Встретимся на террасе,– сказал он Диане.– Вы посмотрите кухню и конюшни, а я посижу немного.
– Тебе нездоровится? – тревожно спросила она.
– Никогда не чувствовал себя так хорошо, но лучше поберечь силы. И дети совсем меня замучили вопросами, я не знаю, что говорить. Ты уж постарайся, придумай, как-никак кухня по твоему ведомству.
Диана улыбнулась.
– Кажется, я никогда не отличалась особым талантом… Ладно, постараюсь, за полчаса управимся.
Оставшись один, он медленно спустился по ступенькам на газон. Здесь, двести лет назад стоял Вашингтон – глядел, как Потомак прокладывает себе путь к морю, и размышлял о прошедших войнах и предстоящих задачах. И здесь мог бы через несколько месяцев стоять Мартин Стилмен, тридцать восьмой президент США, не рассуди судьба иначе.
Незачем притворяться, что он ни о чем не сожалеет. Иные достигают и власти, и счастья; ему это не было дано. Рано или поздно собственное честолюбие сожрало бы его. Последние недели он был вполне удовлетворен; за это ничего не жаль отдать.
Он все еще дивился своему чудесному спасению, когда его время истекло и Смерть бесшумно слетела вниз с летнего неба.
До Ватикана три тысячи световых лет. Некогда я полагал, что космос над верой не властен; точно так же я полагал, что небеса олицетворяют великолепие творений господних. Теперь я ближе познакомился с этим олицетворением, и моя вера, увы, поколебалась. Смотрю на распятие, висящее на переборке над ЭСМ-VI, и впервые в жизни спрашиваю себя: уж не пустой ли это символ?
Пока что я никому не говорил, но истины скрывать нельзя. Факты налицо, запечатлены на несчетных милях магнитоленты и тысячах фотографий, которые мы доставим на Землю. Другие ученые не хуже меня сумеют их прочесть, и я не такой человек, чтобы пойти на подделки, вроде тех, которые снискали дурную славу моему ордену еще в древности.
Настроение экипажа и без того подавленное; как-то мои спутники воспримут этот заключительный иронический аккорд?… Среди них мало верующих, и все-таки они не ухватятся с радостью за это новое оружие в войне против меня, скрытой, добродушной, но достаточно серьезной войне, которая продолжалась на всем нашем пути от Земли. Их потешало, что Главный астрофизик – иезуит, а доктор Чендлер вообще никак не мог свыкнуться с этой мыслью (почему врачи такие отъявленные безбожники?). Нередко он приходил ко мне в обсервационный отсек, где свет всегда приглушен и звезды сияют в полную силу. Стоя в полумраке, Чендлер устремлял взгляд в большой овальный иллюминатор, за которым медленно кружилось небо,– нам не удалось устранить остаточного вращения, и мы давно махнули на это рукой.
– Что ж, патер,– начинал он,– вот она, вселенная, нет ей ни конца, ни края, и, возможно, что-то ее сотворило. Но как вы можете верить, будто этому чему-то есть дело до нас и до нашего маленького мирка, – вот тут я вас не понимаю. И разгорался спор, а вокруг нас, за идеально прозрачным пластиком иллюминатора, беззвучно описывали нескончаемые дуги туманности и звезды…
Должно быть, больше всего экипаж забавляла кажущаяся противоречивость моего положения. Тщетно я ссылался на свои статьи – три в «Астрофизическом журнале», пять в «Ежемесячных записках Королевского астрономического общества». Я напоминал, что мой орден давно прославился своими научными изысканиями, и пусть нас осталось немного, наш вклад в астрономию и геофизику, начиная с восемнадцатого века, достаточно велик.
Так неужели мое сообщение о туманности Феникс положит конец нашей тысячелетней истории? Боюсь, не только ей…
Не знаю, кто дал туманности такое имя; мне оно кажется совсем неудачным. Если в нем заложено пророчество – это пророчество может сбыться лишь через много миллиардов лет. Да и само слово «туманность» неточно: ведь речь идет о несравненно меньшем объекте, чем громадные облака материи неродившихся звезд, разбросанные вдоль Млечного пути. Скажу больше, в масштабах космоса туманность Феникс – малютка, тонкая газовая оболочка вокруг одинокой звезды. А вернее – того, что осталось от звезды…
Портрет Лойолы (гравюра Рубенса), висящий над графиками данных спектрофотометра, точно смеется надо мной. А как бы ты, святой отец, распорядился знанием, обретенным мной здесь, вдали от маленького мира, который был всей известной тебе вселенной? Смогла бы твоя вера, в отличие от моей, устоять против такого удара?
Ты смотришь вдаль, святой отец, но я покрыл расстояния, каких ты не мог себе представить, когда тысячу лет назад учредил наш орден. Впервые разведочный корабль ушел так далеко от Земли к рубежам изведанной вселенной. Целью нашей экспедиции была туманность Феникс. Мы достигли ее и теперь возвращаемся домой с грузом знаний. Как снять этот груз со своих плеч? Но я тщетно взываю к тебе через века и световые годы, разделяющие нас.
На книге, которую ты держишь, четко выделяются слова: АД МАЙОРЕМ ДЕИ ГЛОРИАМ. К вящей славе Божией…
Нет, я больше не могу верить этому девизу. Верил бы ты, если бы видел то, что нашли мы?
Разумеется, мы знали, что представляет собой туманность Феникс. Только в нашей галактике ежегодно взрывается больше ста звезд. Несколько часов или дней они сияют тысячекратно усиленным блеском, затем меркнут, погибая. Обычные новые звезды, заурядная космическая катастрофа. С начала моей работы в Лунной обсерватории я собрал спектрограммы и кривые свечения десятков таких звезд.
Но трижды или четырежды в тысячелетие происходит нечто такое, перед чем новая бледнеет, кажется пустячком.
Когда звезда превращается в сверхновую, она какое-то время превосходит яркостью все солнца галактики, вместе взятые. Китайские астрономы наблюдали это явление в 1054 году, не зная, что наблюдают. Пятью веками позже, в 1572 году, в созвездии Кассиопеи вспыхнула столь яркая сверхновая, что ее было видно с Земли днем. За протекшую с тех пор тысячу лет замечено еще три сверхновых.
Нам поручили побывать там, где произошла такая катастрофа, определить предшествовавшие ей явления и, если можно, выяснить их причину. Корабль медленно пронизывал концентрические оболочки газа, который был выброшен шесть тысяч лет назад и все еще продолжал расширяться. Огромные температуры, яркое фиолетовое свечение отличали эти оболочки, но газ был слишком разрежен, чтобы причинить нам какой-либо вред. Когда взорвалась звезда, поверхностные слои отбросило с такой скоростью, что они улетели за пределы ее гравитационного поля. Теперь они образовали «скорлупу», в которой уместилась бы тысяча наших солнечных систем, а в центре пылало крохотное поразительное образование– Белый Карлик, размерами меньше Земли, но весящий в миллион раз больше ее. Светящийся газ окружал нас со всех сторон, потеснив густой мрак межзвездного пространства. Мы очутились в сердце космической бомбы, которая взорвалась тысячи лет назад и раскаленные осколки которой все еще неслись во все стороны. Огромный размах взрыва, а также то обстоятельство, что осколки заполнили сферу поперечником в миллиарды миль, не позволяли простым глазом уловить движение. Понадобились бы десятилетия, чтобы без приборов заметить, как движутся клубы и вихри взбаламученного газа, но мы хорошо представляли себе этот яростный поток.

Выверив, уточнив свой курс, мы вот уже несколько часов размеренно скользили по направлению к маленькой лютой звезде. Когда-то она была солнцем вроде нашего, но затем в какие-то часы расточила энергию, которой хватило бы на миллионы лет свечения. И вот стала сморщенным скрягой, который промотал богатство в юности, а теперь трясется над крохами, пытаясь хоть что-то сберечь.
Никто из нас не рассчитывал всерьез, что мы найдем планеты. Если они и существовали до взрыва, катаклизм должен был обратить их в облака пара, затерявшиеся в исполинской массе светила. Тем не менее мы провели обязательную при подходе к любому неизвестному солнцу разведку и неожиданно обнаружили вращающийся на огромном расстоянии вокруг звезды маленький мир. Так сказать, Плутон этой погибшей солнечной системы, бегущий вдоль границ ночи. Планета была слишком удалена от своего солнца, чтобы на ней когда-либо могла развиваться жизнь, но эта удаленность спасла ее от страшной участи, постигшей собратьев.
Неистовое пламя запекло скалы окалиной и выжгло сгусток замерзших газов, который покрывал планету до бедствия. Мы сели, и мы нашли Склеп.
Его создатели позаботились о том, чтобы его непременно нашли. От монолита, отмечавшего вход, остался только оплавленный пень, но уже первые телефотоснимки сказали нам, что это след деятельности разума. Чуть погодя мы отметили обширное поле радиоактивности, источник которой был скрыт в скале. Даже если бы пилон над Склепом был начисто срезан, все равно сохранился бы взывающий к звездам неколебимый, вечный маяк. Наш корабль устремился к огромному «яблочку», словно стрела к мишени.
Когда воздвигали пилон, он, наверное, был около мили высотой; теперь он напоминал оплывшую свечу. У нас не было подходящих орудий, и мы неделю пробивались сквозь переплавленный камень. Мы астрономы, а не археологи, но умеем импровизировать. Забыта была начальная цель экспедиции; одинокий памятник, ценой такого труда воздвигнутый на предельном расстоянии от обреченного солнца, мог означать лишь одно. Цивилизация, которая знала, что гибель ее близка, сделала последнюю заявку на бессмертие.
Понадобятся десятилетия, чтобы изучить все сокровища, найденные нами в Склепе. Очевидно, Солнце послало первые предупреждения за много лет до конечного взрыва, и все, что они пожелали сохранить, все плоды своего гения они заранее доставили на эту отдаленную планету, надеясь, что другое племя найдет хранилище и они не канут бесследно в Лету. Поступили бы мы так же на их месте – или были бы слишком поглощены своей бедой, чтобы думать о будущем, которого уже не увидеть и не разделить?.
Если бы у них в запасе оказалось еще время! Они свободно сообщались с планетами своей системы, но не научились пересекать межзвездные пучины, а до ближайшей солнечной системы было сто световых лет. Впрочем, овладей они высшими скоростями, все равно лишь несколько миллионов могли рассчитывать на спасение. Быть может, лучше, что вышло именно так.
Даже если бы не это поразительное сходство с человеком, о чем говорят их скульптуры, нельзя не восхищаться ими и не сокрушаться, что их постигла такая участь. Они оставили тысячи видеозаписей и аппараты для просмотра, а также подробные разъяснения в картинках, позволяющие без труда освоить их письменность. Мы изучили многие записи, и впервые за шесть тысяч лет ожили картины чудесной, богатейшей цивилизации, которая во многом явно превосходила нашу. Быть может, они показали нам только самое лучшее – и кто же их упрекнет. Так или иначе, мир их был прекрасен, города великолепнее любого из наших. Мы видели их за работой и игрой, через столетия слышали певучую речь. Одна картина до сих пор стоит у меня перед глазами: на берегу, на странном голубом песке играют, плещутся в волнах дети – как играют дети у нас на Земле. Причудливые деревья, крона – веером, окаймляют берег, и на мелководье, никого не беспокоя, бродят очень крупные животные.
А на горизонте погружается в море солнце, еще теплое, ласковое, животворное, солнце, которое вскоре вероломно испепелит безмятежное счастье.
Не будь мы столь далеко от дома и столь чувствительны к одиночеству, мы, возможно, не были бы так сильно потрясены. Многие из нас видели в других мирах развалины иных цивилизаций, но никогда это зрелище не волновало до такой степени. Эта трагедия была особенной. Одно дело, когда род склоняется к закату и гибнет, как это бывало с народами и культурами на Земле. Но подвергаться полному уничтожению в пору великолепного расцвета, исчезнуть вовсе – где же тут Божья милость?
Мои коллеги задавали мне этот вопрос, я пытался ответить, как мог. Быть может, отец Лойола, вы преуспели бы лучше меня, но в «Экзерсициа Спиритуалиа» я не нашел ничего, что могло бы мне помочь. Это не был греховный народ. Не знаю, каким богам они поклонялись, признавали ли вообще богов, но я. смотрел на них через ушедшие столетия, и в лучах их сжавшегося солнца перед моим взглядом вновь оживало то прекрасное, на сохранение чего были обращены их последние силы. Они многому могли бы научить нас – зачем же было их уничтожать?
Я знаю, что ответят мои коллеги на Земле. Вселенная – скажут они – не подчинена разумной цели и порядку, каждый год в нашей Галактике взрываются сотни солнц, и где-то в пучинах космоса в этот самый миг гибнет чья-то цивилизация. Творил ли род добро или зло за время своего существования, это не повлияет на его судьбу: Божественного правосудия нет, потому что нет Бога.
А между тем ничто из виденного нами не доказывает этого. Говорящий так руководствуется чувствами, не рассудком. Бог не обязан оправдывать перед человеком свои деяния. Он создал вселенную и может по своему усмотрению ее уничтожить. Было бы дерзостью, даже богохульством с нашей стороны говорить, как он должен и как не должен поступать.
Тяжко видеть, как целые миры и народы гибнут в пещи огненной, но я и это мог бы понять. Однако есть предел, за которым начинает колебаться даже самая глубокая вера, и глядя на лежащие передо мной расчеты, я чувствую, что достиг этого предела.
Пока мы не исследовали туманность на месте, нельзя было сказать, когда произошел взрыв. Теперь, обработав астрономические данные и сведения, извлеченные из скал уцелевшей планеты, я могу с большой точностью датировать катастрофу. Я знаю, в каком году свет исполинского аутодафе достиг нашей Земли. Знаю, сколь ярко эта сверхновая, что мерцает за кормой набирающего скорость корабля, некогда пылала на земном небе. Знаю, что на рассвете она ярким маяком сияла над восточным горизонтом.
Не может быть никакого сомнения; древняя загадка наконец решена. И все же, о всевышний, в твоем распоряжении было столько звезд! Так нужно ли было именно этот народ предавать огню лишь затем, чтобы символ его бренности сиял над Вифлеемом?
Приводимый ниже отрывок, – он только что расшифрован по поручению Межпланетной археологической комиссии, – один из самых примечательных документов, найденных на Марсе. Он обогащает нас новыми данными о научных знаниях и мышлении, наших исчезнувших соседей. Документ относится к эпохе раннего урана марсианской цивилизации (то есть к последней эпохе в истории марсиан); это значит, что он написан за тысячу с небольшим лет до нашей эры.
Перевод можно считать вполне точным, хотя кое-где отмечены трудные для толкования обороты. Там, где это оказалось необходимо, марсианские термины и единицы измерения для большей ясности заменены земными.
(Прим. перев.)
В связи с приближением к нам планеты Земля снова возникла дискуссия, есть ли жизнь на нашем ближайшем соседе в космосе. Этот вопрос безуспешно обсуждался много столетий, однако новые астрономические приборы позволили нам получить вполне достоверные данные о других планетах. Мы еще не можем окончательно судить о наличии или отсутствии земной жизни, но у нас теперь есть гораздо более точные сведения о Земле, и можно вести дискуссию на научной почве.
Дело сильно осложняется тем, что мы не видим Землю, когда она ближе всего к нам. В это время Земля расположена между нами и Солнцем и обращена к нам теневой стороной. Чтобы рассмотреть сколько-нибудь значительную часть ее освещенной поверхности, приходится ждать, пока Земля не станет утренней или вечерней звездой. Но тогда нас разделяет сто пятьдесят миллионов километров. В это время Земля представляется в телескоп сияющим полумесяцем, возле которого висит одна огромная луна. Бросается в глаза разница в цвете этих двух небесных тел: луна серебристо-белая, Земля нездорового сине-зеленого цвета. (Точный смысл эпитета неизвестен, во всяком случае, он отнюдь не лестный. Предлагаются варианты: «отвратительного», «ядовитого».– Прим. перев.)
По мере вращения Земли – ее сутки всего на полчаса короче наших – различные области планеты выходят из тени и оказываются освещенными. Продолжительные наблюдения позволили составить карты всей поверхности, и выявилось поразительное обстоятельство: более двух третей планеты Земля покрыто жидкостью.
Много столетий длились ожесточенные споры, но теперь мы почти уверены, что эта жидкость – вода. Хотя вода редкость на Марсе, у нас есть убедительные свидетельства, что в отдаленном прошлом немалая часть нашей планеты была покрыта огромным количеством этого своеобразного соединения. Отсюда следует, что Земля ныне пребывает в состоянии, отвечающем состоянию нашего мира много миллиардов лет назад. Мы не можем пока определить глубину земных «океанов» (таково научное наименование), но некоторые астрономы утверждают, что их толщина достигает ни много, ни мало – трехсот метров.
Далее, планету Земля окружает значительно более густая атмосфера, чем наша; расчеты показывают, что она минимум в десять раз плотнее. До недавнего времени нельзя было судить о составе земной атмосферы, но теперь спектроскоп решил эту задачу. Ответ оказался поразительным. Плотная пелена газа, облекающая Землю, богата ядовитым и химически очень активным элементом кислородом, которого в нашем воздухе почти нет. В атмосфере Земли довольно много углекислого газа, а также водяных паров – они образуют огромные облака, которые подчас сохраняются много дней и затеняют обширные участки планеты.
Так как Земля процентов на двадцать пять ближе к Солнцу, чем Марс, температура на ее поверхности намного выше, чем в нашем мире. Термоэлементы, сопряженные с, нашими крупнейшими телескопами, говорят об огромных температурах в районах земного экватора. В более высоких широтах условия благоприятнее, а большие ледяные шапки у обоих полюсов – признак того, что там бывают вполне сносные температуры. Ледяные шапки полюсов, в отличие от наших, даже летом не исчезают совсем, что свидетельствует об их колоссальной мощности.
Земля намного крупнее Марса (ее диаметр вдвое больше), поэтому на ней несравненно сильнее тяготение, так что человек, весящий 77 килограммов, на Земле будет весить 225 килограммов, то есть в три раза больше. Мощная гравитация должна повлечь за собой много важных последствий, всего даже нельзя предугадать. Во всяком случае, крупные организмы невозможны, их раздавила бы собственная тяжесть. Парадоксально, что на Земле есть горы значительно выше марсианских; это тоже говорит о том, что речь идет, по-видимому, о молодой, примитивной планете, чья девственная поверхность еще не сглажена эрозией.
Все эти хорошо проверенные факты позволяют судить,– может ли быть жизнь на Земле. Скажем сразу, это кажется нам очень сомнительным; будем, однако, терпимы и не станем отвергать даже самых невероятных, на первый взгляд, предположений, пока они не противоречат научным законам.
Серьезное возражение против возможности земной жизни (многие специалисты считают даже, что этого достаточно) – высокая токсичность атмосферы. Ученые пока не могут ответить, откуда на Земле весь этот кислород. Этот элемент настолько химически активен, что обычно не может находиться в свободном состоянии; например, у нас он в соединениях с железом образует красивые красные пустыни, покрывающие обширные части планеты. На Земле нет таких областей, отсюда ее неприятный зеленоватый цвет.
Очевидно, на Земле идет какой-то неизвестный нам процесс, высвобождающий огромные объемы этого газа. Некоторые литераторы с богатой фантазией полагают, что кислород выделяют земные организмы в ходе обмена веществ. Прежде чем отвергать эту идею как чересчур фантастическую, полезно заметить – нечто в этом роде наблюдалось у многих примитивных, ныне вымерших форм марсианской растительности. И все-таки чрезвычайно трудно поверить, чтобы на Земле и впрямь были несметные количества растений, которые производили бы весь этот свободный кислород. (Мы-то знаем, что это так. Весь кислород Земли произведен растениями, первоначально атмосфера нашей планеты, как на Марсе теперь, не содержала кислорода.– Прим. перев.)
Даже если допустить, что на Земле есть существа, способные выжить в такой ядовитой и химически активной атмосфере, обилие кислорода должно повлечь за собой два последствия. Первое мало заметное, оно только недавно установлено после тонких теоретических исследований, ныне полностью подтвержденных наблюдениями.
Похоже, что на определенной высоте-тридцать, сорок или пятьдесят километров – атмосферный кислород Земли образует газ, именуемый озоном и содержащий, в отличие от обычного кислорода, в молекуле не два, а три атома. Хотя этого газа немного и он достаточно удален от поверхности планеты, его воздействие на земные условия чрезвычайно велико. Он почти совсем поглощает ультрафиолетовые лучи Солнца, не пропуская их на Землю.
Однако этого достаточно, чтобы на Земле не могло быть известных нам форм жизни. Ультрафиолетовое излучение Солнца, беспрепятственно достигающее поверхности Марса, необходимо для нашего здоровья и дает нам большую часть нужной нам энергии. Даже если бы мы могли перенести едкую атмосферу Земли, мы погибли бы без жизненно важного излучения.
Гораздо более пагубно другое следствие высокой концентрации кислорода. С ней связано грозное явление, известное у нас только в лабораториях и названное учеными «огонь».
Многие распространенные элементы, если их погрузить в атмосферу, сходную с земной, вступают с ней в бурную реакцию, которая длится, пока вещество не окислится полностью. При этом выделяется неимоверное количество тепла и света, а также облака вредных газов. Наблюдавшие это явление в лабораториях описывают его как нечто ужасное; наше счастье, что оно невозможно на Марсе.
Между тем на Земле оно должно быть довольно обычным, и мы не можем представить себе организма, который мог бы жить в таких условиях. Наблюдая теневую сторону Земли, часто видишь раскаленные области, где бушует огонь. Правда, некоторые исследователи-оптимисты говорят, что свет – от городов, однако эта теория неприемлема. Слишком непостоянны очаги свечения; как правило, они не привязаны к определенному месту и быстро гаснут. (Несомненно, речь идет о лесных пожарах и вулканических извержениях, которых на Марсе не знали. Печальная ирония судьбы: еще несколько тысяч лет – и марсианские астрономы действительно увидели бы свет наших городов. Мы разошлись во времени на какую-то миллионную долю возраста наших планет.– Прим. перев.)
Плотная, насыщенная влагой атмосфера, мощная гравитация и близость к Солнцу делают Землю миром сильнейших климатических контрастов. Бури непостижимой мощи отмечены над обширными площадями планеты, причем некоторые сопровождаются сильнейшими электрическими разрядами – их легко улавливают на Марсе чувствительные радиоприемники. Трудно поверить, чтобы какая-либо форма жизни могла вынести подобные конвульсии природы, а они происходят на Земле почти непрестанно.
Хотя разница температур между зимой и летом на Земле не так велика, как в нашем мире, это не возмещает других неудобств. На Марсе любые подвижные формы жизни легко могут уйти от зимы. Нет ни гор, ни морей, которые преграждали бы путь. Наша планета меньше Земли, а наш год длиннее земного – это упрощает сезонные перемещения, ведь достаточно отступать со средней скоростью пятнадцать километров в сутки. Ничто не вынуждает нас оставаться на месте, и мало кто зимует.
Иное дело на Земле. Если учесть большие размеры планеты и короткий год (шесть наших месяцев), земные существа должны перемещаться со скоростью около восьмидесяти километров в сутки, чтобы уйти от суровой зимы. Даже если допустить, что такая скорость вообще возможна (это крайне невероятно при мощном тяготении), горы и океаны создают неодолимые препятствия.
Некоторые авторы научно-фантастических произведений ищут ответ в том, что на Земле будто бы могли развиться организмы, способные перемещаться по воздуху. В подтверждение этой очень сомнительной идеи они подчеркивают, что плотная атмосфера позволяет относительно легко летать, однако умалчивают о том, что большая гравитация сводит на нет это кажущееся преимущество. Как ни увлекательна мысль о летающих животных, ни один уважающий себя биолог не может принять ее всерьез.
Более основательной выглядит другая теория. Она гласит, что если на Земле есть животные, они могут обитать лишь в обширных океанах, покрывающих большую часть планеты. Полагают, что на нашей планете жизнь первоначально возникла в существовавших некогда марсианских морях; так что это отнюдь не фантастика. К тому же в океанах животным Земли не пришлось бы преодолевать колоссальную силу тяготения. И хотя нам трудно вообразить себе организмы, способные жить в воде, все-таки на Земле океаны представляются нам более благоприятной средой, нежели суша.
В самое последнее время серьезный удар этой интересной догадке нанесла математическая физика. Как известно, у Земли есть только одна огромная луна – очевидно, одно из самых лучезарных тел на земном небе. Она примерно в двести раз больше наиболее крупного из наших спутников, и несмотря на огромное расстояние, ее притяжение должно заметно влиять на планету, особенно на воду земных океанов, заставляя их изменять свой уровень на много метров. Очевидно, из-за «приливно-отливных» сил все низменные области Земли затопляются дважды в сутки. Трудно представить себе наличие живых – будь то водных или наземных – организмов в таких условиях, когда море и суша непрестанно сменяются.
Все говорит о том, что наш сосед Земля – весьма негостеприимный мир, там не может быть ни одной формы жизни, известной на Марсе. Даже растительность вряд ли могла бы переносить постоянные дожди и бури; правда, многие астрономы как будто наблюдали в некоторых областях изменения окраски, которые они приписывают ежегодному цветению растений.
Что до животных, то это пустые догадки, опровергаемые всеми фактами. Если они даже есть, то должны обладать огромной силой и могучим сложением, чтобы преодолевать гравитацию; можно предположить, что у них несколько пар ног и ходят они очень медленно. Их неуклюжие тела должны быть покрыты толстым панцирем для защиты от непогоды и окисляющей атмосферы. Учитывая все это, можно совершенно сбросить со счетов возможность присутствия на Земле разумной жизни. Приходится смириться с мыслью, что мы единственные разумные существа во всей солнечной системе.
Романтикам, которые все еще надеются на более оптимистический ответ, остается ждать, когда Третья планета раскроет нам свои последние тайны. Это произойдет очень скоро, опыты с ракетной тягой показали, что можно создать космический корабль, способный оторваться от Марса и через космическую бездну достичь нашего загадочного соседа. Сильное тяготение не позволит нам высадиться на Землю, но мы сможем кружить на малой высоте и с расстояния в миллион раз меньшего, чем то, которое разделяет нас теперь, рассмотреть мельчайшие подробности. И мы пошлем радиоуправляемые роботы.
Наконец– то высвобождена безграничная энергия атомного ядра, и мы применим вскоре эту грозную силу, чтобы вырваться из цепей нашего мира. Земля с ее гигантским спутником лишь первые в ряду небесных тел, которые изучат будущие исследователи. Затем последуют…
(К сожалению, здесь рукопись обрывается. Остальное опалено настолько, что нельзя прочесть,– видимо, термоядерным взрывом, который уничтожил Императорскую библиотеку и весь город Уас. Примечательное совпадение: снаряды, которые положили конец марсианской цивилизации, были выпущены, когда происходило одно из важнейших событий классического периода истории человечества. В шестидесяти пяти миллионах километров от Марса греки штурмовали Трою, применяя не столь совершенное оружие.– Прим. перев.).