Книга: Подруга скорбящих
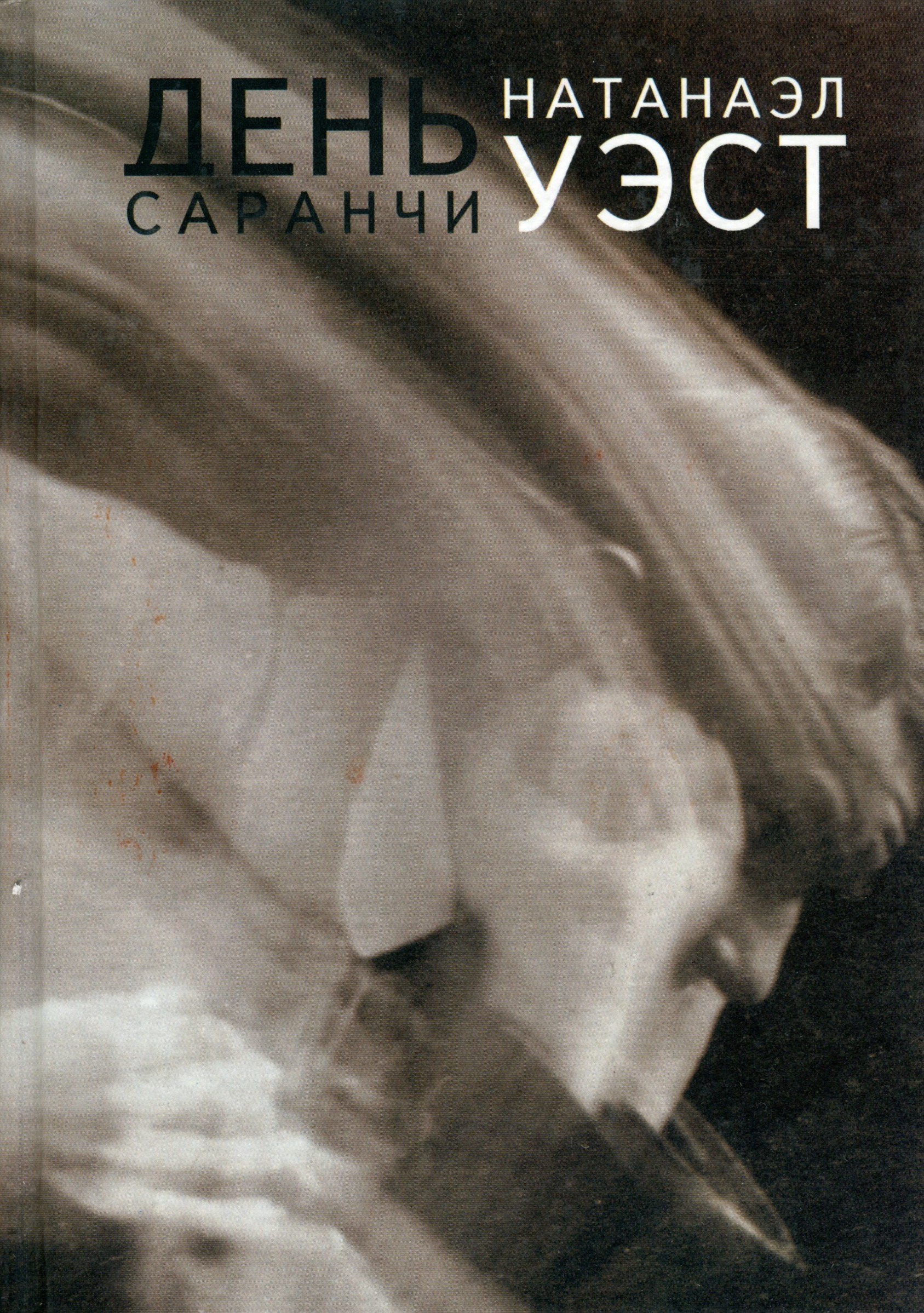
© Перевод. В. Голышева
Подруга скорбящих, помоги, помоги
Подруга скорбящих из нью-йоркской «Пост-диспетч» (У вас беда? Вам нужен совет? Пишите Подруге скорбящих, и она вам поможет) сидел за письменным столом, уставясь на полоску белого картона. На ней редактор отдела Шрайк напечатал молитву:
Дух Подруги с., восславь меня.
Тело Подруги с., напитай меня.
Кровь Подруги с., опьяни меня.
Слезы Подруги с., омойте меня.
Добрая Подруга с., прости мне мою мольбу,
И укрой меня в твоем сердце,
И защити меня от врагов моих.
Помоги мне, Подруга с., помоги, помоги.
Аминь.
Статью надо было сдать через четверть часа, а он все сидел над вступлением. Он дошел до: «Жизнь имеет смысл, потому что в ней - мечты и покой, нежность, и восторг, и вера, горящая, как белое пламя на темном мрачном алтаре». Но дальше дело не двигалось. Письма уже не смешили его. Он не мог смеяться одной и той же шутке тридцать раз в день, из месяца в месяц. А обычно писем приходило больше тридцати в день - и все одинаковые, нарубленные из теста бед сердцевидным ножом.
На столе лежали сегодняшние письма. Он стал их просматривать, ища зацепку для искреннего ответа.
Дорогая Подруга скорбящих, у меня такая боль не знаю что делать, иногда кажется убила бы себя так болят почки. А муж считает, что нельзя быть хорошей католичкой не имея детей несмотря на боль. Я честно венчалась в церкви, но не знала что такое семейная жизнь, потому что мне никто не рассказывал про мужа и жену. Бабушка мне не рассказала, а она мне была вместо матери и сделала большую ошибку что не рассказала, потому что неопытность выходит боком и от нее одни разочарования. Я родила 7-х за 12 лет и после 6-го все время болею. Меня два раза оперировали и муж обещал, что детей больше не будет по совету врача, потому что он сказал я могу умереть, но когда я вернулась из больницы он нарушил обещание, теперь я жду ребенка и наверно не выдержу, так болят почки. Мне очень больно и страшно, а аборт мне нельзя ввиду того что я католичка и муж чересчур религиозный. Я все время плачу от боли и не знаю что мне делать.
Уважающая вас
Нет Мочи.
Подруга скорбящих кинул письмо в открытый ящик и закурил.
Дорогая Подруга скорбящих!
Мне шестнадцать лет и я не знаю что делать и буду очень благодарна вам, если посоветуете что делать. Когда я была маленькой это было ничего, я привыкла, что соседские ребята дразнят меня, но теперь мне хочется, чтобы у меня тоже были мальчики, как у других девочек и гулять с ними в субботу вечером, но мальчики на меня не смотрят потому что я родилась без носа - хотя у меня хорошая фигура и хорошо танцую и папа покупает мне красивые платья.
Я сижу целыми днями смотрю на себя и плачу. Посреди лица у меня большая яма и не то что люди, я сама пугаюсь, а мальчики не виноваты, что не хотят меня приглашать. Мама меня любит, но ужасно плачет, когда смотрит на меня.
Чем я заслужила такое несчастье? Если я и сделала что плохое, то после года, а я ведь родилась такой. Я спросила папу, а он говорит, что не знает, но может я что-то сделала в другом мире до того, как родилась, а может быть это мне наказание за его грехи. Я не верю этому потому, что он очень хороший человек. Надо ли мне покончить с собой?
Ваша Отчаявшаяся.
Сигарета была с браком и не тянулась. Подруга скорбящих вынул ее изо рта и оглядел с яростью. Потом заставил себя успокоиться и закурил другую.
Уважаемая Подруга скорбящих, я пишу вам от моей сестренки Грейси, потому что с ней случилось что-то страшное и маме я боюсь сказать. Мне 15 лет, а Грейси 13, мы живем в Бруклине. Грейси глухонемая и выше меня, но не очень сообразительная, так как глухонемая. Она играет у нас на крыше дома и в школу не ходит кроме как в школу глухонемых два раза в неделю по вторникам и четвергам. Мама велит ей играть на крыше потому что мы боимся, что бы ее не переехало - она не очень сообразительная. А на прошлой неделе на крышу влез человек и сделал с ней что-то нехорошее. Она мне рассказал, а я не знаю как быть и боюсь рассказать маме потому что она наверно изобьет Грейси. Я боюсь, что у Грейси будет ребенок и вчера ночью я долго слушал ей живот - не слышно ли там ребенка, но ничего не слышно. Если я скажу маме, она ее страшно изобьет, потому что я один люблю Грейси, а в прошлый раз, когда она порвала платье ее заперли в чулане на два дня и если соседские мальчишки узнают про это, они будут говорить гадости, как про сестру Блохи Коннора когда ее застали на пустыре. Скажите, пожалуйста, что бы вы сделали, если бы это случилось в вашей семье.
Преданный вам Гарольд С.
Он перестал читать. Ответ был - Христос, но Подруга скорбящих был сыт этим по горло. Кроме того, над Христом особенно любил потешаться Шрайк. «Душа Подруги с., восславь меня. Тело Подруги с., напитай меня. Кровь Подруги…» Он повернулся к пишущей машинке.
Несмотря на модный дешевый костюм, в нем все равно легко было угадать сына баптистского священника. Ему бы пошла борода - она оттенила бы его библейскую внешность. Но и без бороды всякий распознал бы в нем пуританина из Новой Англии. Лоб у него был высокий и узкий. Нос длинный и костистый. Костлявый, раздвоенный подбородок формой напоминал копыто. Увидев его в первый раз, Шрайк улыбнулся и сказал: «Сюзанны Честер, Беатрисы Фэрфакс и Подруги скорбящих - жрецы Америки XX века».
Пришел курьер: Шрайк спрашивает, готов ли материал. Он нагнулся к машинке и застучал по клавишам. Но не успел написать и десятка слов, как над плечом его склонился Шрайк.
- Старая песня, - сказал он. - Выдал бы что-нибудь новенькое, обнадеживающее. Про искусство. А ну-ка, я продиктую:
«Выход - в искусстве.
Не позволяйте жизни взять верх над вами. Когда старые дороги завалены обломками крушения, ищите новых, свободных дорог. Такая дорога - искусство. Искусство настояно на страданиях. Как воскликнул сквозь роскошную русскую бороду мистер Польни- кофф, когда на восемьдесят седьмом году жизни закрыл свое дело, чтобы изучать китайский язык: „Мы еще только начинаем…"
Искусство - один из самых щедрых даров жизни.
Для тех, кто лишен творческих способностей, остается восприятие. Для тех, кто…»
Продолжай отсюда.
Подруга скорбящих и каменное лицо
Когда Подруга скорбящих вышел из редакции, оказалось, что на улице потеплело, и воздух пах так, будто его пропустили через калорифер. Он решил выпить в контрабандной пивной «Диленханти». Дорога туда вела через маленький парк.
Он вошел в парк через северные ворота, заглатывая густую тень, забившую арку. Пересек тень фонарного столба, которая лежала на дорожке, как пика. Она проткнула его, как пика.
Насколько он видел, весна тут ничем не дала себя знать. Прах, покрывший крапчатую землю, был не тот, на котором взрастает новая жизнь. Он вспомнил, что в прошлом году май не смог пробудить эти мусорные лужайки. Лишь лютый июль вымучил из черствой грязи несколько зеленых ростков.
Влаги - вот чего жаждал парк еще больше, чем он. Ни дождем, ни алкоголем тут не обойдешься. Завтра в своей колонке он попросит Убитых горем, Нет-Мочи, Отчаявшихся, Разочарованных-с-мужем-туберкулезником и остальных своих корреспондентов прийти сюда и оросить слезами почву. Тогда взойдут цветы - цветы, которые пахнут ногами.
- Ах, человечество… - Но тень тяготила его, и шутка околела на половине. Он попробовал ее оживить, посмеявшись над собой.
Хотя зачем смеяться над собой, если Шрайк ждет в баре и сделает это куда лучше? «Друг мой Подруга скорбящих, советую тебе давать читателям камни. Когда они просят хлеба, не раздавай им галеты, как Церковь, и не вели, как Государство, скушать пирожное. Объясни, что не хлебом единым жив человек, и дай им камни. Научи их молиться по утрам: „Камень наш насущный даждь нам днесь"».
Он роздал читателям много камней - так много, что сам остался с одним - с камнем, образовавшимся у него в груди.
Вдруг почувствовав усталость, он сел на скамью. Выкинуть бы этот камень. В поисках мишени он посмотрел на небо. Но серое небо выглядело так, как будто его стерли грязной резинкой. На нем не было ангелов, огненных крестов, голубей с оливковыми ветвями, ничего мудрено-сотворенного. Лишь газета корчилась в вышине, как воздушный змей с перебитым хребтом. Он встал и пошел к бару.
«Диленханти» был подвал в каменном доме, отличавшийся от своих добропорядочных соседей лишь железной дверью. Подруга скорбящих нажал потайную кнопку, и в двери открылся волчок. Налитый кровью глаз глянул из него, как рубин из старинной железной оправы.
Пивная была наполовину пуста. Подруга скорбящих нервно огляделся, ища Шрайка, но, к облегчению своему, не увидел. Однако после третьей рюмки, когда он погружался в теплую тину пьяной грусти, Шрайк схватил его за руку.
- А, мой юный друг! - закричал он. - В каком виде я тебя застаю? Опять, я вижу, мрачное раздумье.
- Кончай ты, ради бога.
Шрайк презрел эту просьбу.
- Ты ипохондрик, мой друг, ипохондрик. Забудь распятие, вспомни Возрождение. Мрачным раздумьям тогда не предавались. - Он поднял бокал, и в этом жесте была вся семья Борджиа. - Зову тебя к Возрождению. Какая эпоха! Какая пышность! Пьяные Папы… Прекрасные куртизанки… Внебрачные дети…
Хотя жесты у него были отточенные, лицо не выражало ничего. Он пользовался приемом кинокомиков - «каменным лицом». Какой бы причудливой и шумной ни была его речь, он сохранял непроницаемую маску. Под большим лоснящимся куполом лба его черты теснились мертвым серым треугольником.
- За Возрождение! - выкрикивал он. - За Возрождение! За бурые греческие манускрипты, за дам с большими мраморно-гладкими конечностями… Кстати, я жду одну из моих поклонниц - девушку с кротким взглядом и большой начитанностью. - При слове «начитанность» он изобразил в воздухе две огромные груди. - Она работает в книжном магазине. Но ты погляди, какой у нее зад.
Подруга скорбящих неосмотрительно выказал раздражение.
- А-а, к женщинам ты равнодушен, - да? И. X. - твоя зазноба. Иисус Христос, Царь Царей, Подруга скорбящих подруг скорбящих…
Тут, к счастью для Подруги скорбящих, к стойке подошла молодая женщина, которую ждал Шрайк. У нее были длинные ноги с толстыми щиколотками, большие руки, могучее тело, стройная шея и детское личико, казавшееся совсем крошечным из-за мужской стрижки.
- Мисс Фаркис, - сказал Шрайк, заставив ее поклониться, как чревовещатель - свою куклу. - Мисс Фаркис, познакомьтесь с Подругой скорбящих. Окажите ему такое же почтение, какое оказываете мне. Он тоже утешитель нищих духом и любитель Бога.
Она по-мужски пожала ему руку.
- А это - мисс Фаркис, - сказал Шрайк. - Мисс Фаркис работает в книжном магазине и в свободное время пописывает. - Он потрепал ее по крупу.
- О чем вы так горячо рассуждали?
- О религии.
- Попросите мне рюмку и продолжайте, пожалуйста. Я очень интересуюсь неотомистским синтезом.
Шрайк только того и ждал.
- Святой Фома! - воскликнул он. - За кого вы нас принимаете - за гнилых интеллигентов? Мы не какие-нибудь эрзац-евро- пейцы. Мы беседовали о Христе, Подруге скорбящих подруг скорбящих. У Америки - свои религии. А если вам нужен синтез - вот вам подходящая материя. - Он вытащил из бумажника газетную вырезку и прихлопнул ладонью к бару.
«Арифмометр 3 обряде западной секты
Цифровые молитвы за убийцу престарелого отшельника. Денвер, Колорадо, 2 февраля (А. П.).
Верховный понтифик Американской Либеральной церкви Фрэнк Райе объявил, что исполнит разработанный им обряд „козла и арифмометра" в память осужденного убийцы Уильяма Мойя, несмотря на возражения кардинала секты. Райе сообщил, что козел будет использован в службе „Посыплем голову пеплом" до и после казни Мойя, назначенной на 20 июня. Молитвы за упокой души осужденного будут составлены на арифмометре. Числа, пояснил Райе, это единственный универсальный язык. Мойя умертвил престарелого отшельника Джозефа Земпа в результате ссоры из-за небольшой денежной суммы».
Мисс Фаркис засмеялась, и Шрайк замахнулся на нее кулаком. Бармен, которого покоробил этот жест, поспешно попросил их перейти в заднюю комнату. Подруга скорбящих не хотел идти с ними, но Шрайк настаивал, а он слишком устал, чтобы спорить. Они уселись в кабинете. Шрайк снова сделал вид, что хочет ударить ее, но когда мисс Фаркис отпрянула, он вместо этого ее погладил. Обман удался. Она покорилась его руке, но когда ласки зашли чересчур далеко, оттолкнула ее.
Шрайк опять начал кричать; Подруга скорбящих понял, что на этот раз разыгрывается сцена соблазнения.
- Я великий святой, - кричал Шрайк, - я могу ходить по-маленькому как посуху. Вы что, не слышали про Шрайковы Страсти в Закусочной или Моления о Кружке Пива? Там я уподобил раны Христовы кошелькам, куда мы прячем мелочь наших грехов. Это - поистине замечательный образ. А теперь рассмотрим дыры в наших телах и куда открывают путь сии благодетельные раны. Под кожей человека - дивные джунгли, где жилы, как буйная тропическая зелень, стелются по перезрелым органам и подобные бурьяну кишки перевиваются и сплетаются в красных и желтых корчах. В этой чаще порхает с каменно-серых легких на золотые кишки, с печени на рубец и обратно на печень птица, называемая душой. Католики ловят ее на хлеб и вино, иудеи - на «поступай с другими так, как хочешь, чтоб с тобой поступали», протестанты со свинцовыми ногами - на слово-олово, буддисты - жестами, негры - на кровь. Я плюю на них всех. И вас призываю плюнуть. Тьфу. Вы набиваете чучела птиц? Нет, дорогие мои, таксидермия - не религия. Нет. Тысячу раз нет. Лучше, говорю вам, живая птица в джунглях тела, чем два чучела на библиотечной полке.
Ласки продолжались и во время проповеди. Закончив, он уткнул свое треугольное лицо ей в шею, словно томогавк.
Подруга скорбящих и ягненок
Подруга скорбящих поехал домой на такси. Он жил один в комнате, которая была полна теней, как старинная гравюра на стали. Там стояли кровать, стол и пара стульев. Стены были голые, если не считать Христа из слоновой кости, висевшего в ногах кровати. Подруга скорбящих снял фигуру с креста и приколотил к стене костылями. Но желаемого эффекта не получилось. Христос не корчился, а висел спокойно и декоративно.
Он сразу разделся и лег в постель с сигаретой и «Братьями Карамазовыми». Закладка была на главе о старце Зосиме:
«…любите человека и во грехе его, ибо сие уже подобие Божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах. Постигнешь однажды и уже неустанно начнешь ее познавать все далее и более, на всяк день. И полюбишь наконец весь мир уже все целою, всемирною любовью».
Прекрасный совет. Если бы он последовал ему, то преуспел бы в жизни. Его колонку распространили бы агентства печати, и мир научился бы любить. Наступило бы Царствие Небесное. Он сел бы одесную Агнца.
Но, серьезно говоря, он понимал, что если бы Шрайк и не отравил ему этот христианский хлеб, он все равно бы зря себя обманывал. Призвание его было другого рода. Мальчиком, в отцовской церкви он заметил, что, когда выкрикивает имя Христа, в нем что- то поднимается, - что-то тайное и мощное. Он играл с этим чувством, но никогда не давал ему полной воли.
Теперь он понимал, что это было: истерия, змея, чьи чешуйки - крохотные зеркальца, в которых мертвый мир обретает подобие жизни. А как мертв этот мир… мир дверных ручек. Он спросил себя: а так ли уж дорого в конце концов - заплатить истерией за его оживление?
Для него Христос был самым натуральным из возбудителей. Остановив взгляд на фигуре, прибитой к стене, он стал повторять нараспев: «Господи, Господи, Господи Иисусе. Господи, Господи, Господи Иисусе». Но едва змея стала разворачиваться в голове, он испугался и закрыл глаза.
Он уснул и увидел себя на сцене переполненного театра. Он был фокусником и проделывал фокусы с дверными ручками. По его приказу они кровоточили, цвели, разговаривали. Закончив номер, он хотел призвать публику к молитве. Но сколько он ни старался, молитва получалась та, которой научил его Шрайк, и произносил он ее голосом кондуктора, объявляющего остановки.
«Господи, мы не из тех, кто омывается вином, водой, мочой, уксусом, огнем, маслом, желудочными каплями, молоком, коньяком или борной кислотой. Господи, мы из тех, кто омывается исключительно кровью Агнца».
Декорация переменилась. Он очутился в студенческом общежитии. С ним были Стив Гарви и Джуд Хьюм. Они спорили о бытии Божьем с полуночи до рассвета и теперь, выпив все виски, решили сходить на рынок за яблочной водкой.
Путь их лежал по улицам спящего города и через открытое поле. Была весна; снова опьянев от солнца и запаха новорожденных овощей, они шатались между гружеными тележками. Фермеры смотрели на их возню благодушно. Загуляли студентики.
Они нашли бутлегера, купили четырехлитровый жбан виски и пошли в ряды, где торговали скотом. По дороге они остановились поиграть с ягнятами. Джуд предложил купить барашка и зажарить в лесу на костре. Подруга скорбящих согласился, но при условии, что, перед тем как зажарить, они принесут ягненка в жертву Богу.
Стив отправился в ножовый ряд за мясницким ножом, а они с Джудом остались торговать барашка. После долгого, на армянский лад, торга, в ходе которого Джуд показал свою крестьянскую закваску, выбрали самого молодого барашка, маленького, на шатких ножках - одна голова.
Они прошествовали с ягненком по базару. Впереди шел Подруга скорбящих с ножом, за ним Стив со жбаном и Джуд с животным. Маршируя, они распевали непристойный вариант «У Мери был барашек». Между базаром и холмом, где они собирались совершить жертвоприношение, лежал луг. По дороге они рвали маргаритки и лютики. На склоне холма они нашли большой камень и устлали его цветами. На цветы уложили ягненка. Подругу выбрали жрецом, Стив и Джуд были служителями. Они держали барашка, а Подруга, присев над ним, начал повторять нараспев: «Господи, Господи, Господи Иисусе. Господи, Господи, Господи Иисусе».
Когда они распалили себя, он ударил ножом. Удар был неверный, и нож пропорол только мышцы. Он снова занес нож, но на этот раз вообще не попал по судорожно дергавшемуся ягненку. Нож сломался о камень. Стив и Джуд отогнули ягненку голову, чтобы он перепилил ему глотку, но от лезвия остался только короткий обломок, и он не мог прорезать свалявшуюся шерсть.
Руки их были залиты липкой кровью, и ягненок выскользнул. Он заполз в кусты.
Яркое солнце очертило камень алтаря узкими тенями, и местность словно приготовилась для нового кровопролития. Приятели бросились наутек. Они мчались вниз по склону, пока не сбежали на луг, и там рухнули без сил в высокую траву.
Немного погодя Подруга скорбящих стал умолять их вернуться и прекратить мучения ягненка. Они отказались идти. Он отправился сам и нашел ягненка под кустом. Он размозжил ему голову камнем и оставил тушу мухам, роившимся над окровавленными цветами алтаря.
Подруга скорбящих и валенок
Подруга заметил, что в нем развивается граничащая с безумием чувствительность к беспорядку. Все должно было располагаться по системе: туфли под кроватью, галстуки на вешалке, карандаши на столе. Выглянув из окна, он компоновал горизонт так, чтобы массы зданий взаимно уравновешивались. Если в этом пространстве появлялась птица, он сердито закрывал глаза, дожидаясь, пока она пролетит.
Первое время он не сдавал позиций, но в один прекрасный день оказался приперт к стене. В этот день все неодушевленные предметы, которые он хотел починить, ополчились на него. Стоило ему дотронуться до вещи, как что-то проливалось или скатывалось на пол. Запонки от воротничка исчезли под кроватью, карандаш сломался, ручка бритвы отвалилась, штора не желала опускаться. Он сопротивлялся этому, но с излишней яростью, и потерпел окончательное поражение от пружины будильника.
Он бежал на улицу, но здесь был хаос тысячекратный. Прохожие спешили мимо беспорядочными группами, не образуя ни звезд, ни квадратов. Фонарные столбы расставились неравномерно, плиты мостовой были разнокалиберные. И ничего нельзя было сделать с грубым лязгом трамваев и резкими выкриками разносчиков. На ритм их не ложился никакой рефрен, и никакая гамма не могла придать им смысл.
Он тихо прислонился к стене, стараясь не видеть и не слушать. Тут он вспомнил Бетти. У него часто бывало ощущение, что, поправляя на нем галстук, она поправляет нечто большее. И однажды он подумал, что если бы ее мир был шире, был миром, она навела бы в нем такой же порядок, как на своем туалетном столике.
Он сказал шоферу такси адрес Бетти и велел поторапливаться. Но Бетти жила в другом конце города, и, пока они доехали, паника превратилась в раздражение.
Она открыла ему в свежем белом полотняном халатике с палевой отделкой. Протянула к нему руки - гладкие и круглые, как обкатанное прибоем дерево.
Смущение вернулось, и он почувствовал, что успокоить его сейчас может только грубость. Виновата, однако, была Бетти. Ее мир - не мир, и в нем нет места читателям его колонки. Ее уверенность проистекает из умения произвольно ограничивать свой опыт. Более того - его неразбериха осмысленна, а ее порядок - нет.
Он тоже хотел сказать ей «здравствуй», но язык превратился в валенок. Чтобы не разговаривать, он полез с поцелуем, затем счел нужным извиниться.
- Эти сцены примирения с возлюбленной - лишнее, я понимаю и… - Он нарочно запнулся, чтобы она сочла его смущение искренним. Но фокус не удался - она дожидалась продолжения.
- Прошу тебя, пойдем куда-нибудь пообедаем.
- Боюсь, что не смогу.
Улыбка ее превратилась в смех.
Она смеялась над ним. Желая отыграться, он попытался найти в ее смехе «горечь», «око видит, да зуб неймет», «надрыв», «гори все огнем». Но, к своему конфузу, не нашел ничего, над чем можно было бы посмеяться. Смех ее возник естественно, а не раскрылся, как зонтик, - а потом снова превратился в улыбку, не «кислую», не «ироническую» и не «загадочную».
Когда они перешли в гостиную, его досада усилилась. Бетти села на диван-кровать, поджав голые ноги и выпрямив спину. Позади нее на лимонных обоях цвело серебряное дерево. Он остался стоять.
- Бетти-Будда, - сказал он. - Бетти-Будда. У тебя сытая улыбка; только брюшка не хватает.
В голосе его было столько ненависти, что он сам удивился. Наступило неловкое молчание, и, потоптавшись немного, он наконец сел на диван, чтобы взять ее за руку.
Больше двух месяцев прошло с тех пор, как на этом самом диване он сделал ей предложение. Тогда Бетти согласилась, и они обсуждали совместную жизнь после женитьбы, его работу и ее полосатый передник, его шлепанцы, которые будут стоять у камина, и ее кулинарные способности. После этого он исчез. Он не чувствовал вины; только досадовал, что его обманом заставили поверить, будто такое решение возможно.
Скоро ему надоело держаться за руки, и он опять заерзал. Он вспомнил, что под конец прошлой встречи он засунул руку ей под одежду. И, не придумав ничего лучшего, повторил сейчас эту вылазку. Под халатом на ней ничего не было, и он нашел ее грудь.
Бетти ничем не показала, что чувствует его руку. Он был бы рад пощечине, но она молчала, даже когда он взял ее за сосок.
- Позволь сорвать эту розу, - сказал он, дернув. - Я хочу носить ее в петлице.
Бетти дотронулась до его лба.
- Что с тобой? - спросила она. - Ты болен?
Он начал кричать на нее, сопровождая выкрики жестами, которые слишком хорошо соответствовали словам, как у старомодного актера.
- Какая же ты стерва! Стоит человеку гнусно себя повести, как ты говоришь, что он болен. Все, кто мучает жен, кто насилует детей, - по-твоему, они все больные. Мораль ни при чем - только медицина. А я не болен! Не нужен мне твой аспирин. У меня комплекс Христа. Человечество… я возлюбил человечество. Каждого сломленного кретина… - Он закончил смешком, похожим на лай.
Она пересела с дивана в красное кресло, распираемое набивкой и тугими пружинами. В лоне этого кожаного монстра она потеряла всякое сходство с безмятежным Буддой.
Но гнев его не утих.
- В чем дело, милая? - спросил он, угрожающе поглаживая ее по плечу. - Тебе не понравилось представление?
Она не ответила, а подняла руку, словно заслоняясь от удара. Она была как котенок - такой мягкий и беззащитный, что ему хочется сделать больно.
- В чем дело? - спрашивал он снова и снова. - В чем дело? В чем дело?
Лицо у нее приобрело такое выражение, какое бывает у неопытного игрока, поставившего последние деньги на кон. Он уже потянулся за шляпой, но тут Бетти заговорила:
- Я тебя люблю.
- Ты меня - что?
Ей было трудно повторить, но она и тут постаралась не нагнетать драматизма.
- Я тебя люблю.
- И я тебя, - сказал он. - С проклятой твоей улыбкой сквозь слезы.
- Почему ты не можешь оставить меня в покое? - Она заплакала. - Мне было хорошо, пока ты не пришел, а теперь - паршиво. Уйди. Уйди, пожалуйста.
Подруга скорбящих и чистенький старик
Очутившись на улице, Подруга скорбящих задумался, что делать дальше. Аппетит от волнения пропал, а идти домой было страшно. Собственное сердце казалось ему бомбой, замысловатой бомбой, которая нехитрым взрывом разрушит мир, не шелохнув его.
Он решил выпить у Дилеханти. Возле стойки он увидел приятелей. Они с ним поздоровались и продолжали разговор. Один из них сетовал на засилье женщин в литературе.
- И у всех у них по три имени, - сказал он. - Мэри Роберте Уилкокс, Элла Вила Катетер, Форд Мэри Райнхарт…
Потом кто-то заметил, что все они скучают по хорошему изнасилованию, - и этим вызвал целый водопад рассказов.
- Я знал девицу, приятная была девица, пока не связалась с кружком и не ударилась в литературу. Начала пописывать в журнальчиках насчет того, как ей больно от ее Красоты, бросила парня, который расставлял кегли в кегельбане. Соседские ребята разозлились и как-то ночью отвели ее на пустырь. Человек восемь. Они ее…
- Похожая история была с другой писательницей. Когда пошла эта кровяная струя, она бросила свой топкий английский прононс и переключилась на «гоп-стоп». Стала ходить в шалман и вращаться среди бандюг - изучала жизнь. Ну, а бандюги не знали, что они живописны, и считали ее своей, пока хозяин не открыл им глаза. Увели ее в заднюю комнату, чтобы преподать ей новое учение, и показали, где зимуют раки. Не выпускали ее три дня. На третий день продавали билеты неграм.
Подруга скорбящих перестал слушать. Приятели будут развлекаться этими историями, пока язык ворочается. Они понимали, что это ребячество, но по-другому взять реванш не умели. В колледже и, наверное, первые годы после выпуска они верили в литературу, в Прекрасное, верили, что самовыражение - высшая цель. Потеряв эту веру, они потеряли все. Деньги и слава для них ничто. Они не от мира сего.
Подруга скорбящих пил размеренно. На лице его была невинная довольная улыбка - улыбка анархиста, который сидит в кинотеатре с бомбой в кармане. Если бы соседи знали, что у него в кармане! Скоро он выйдет из зала и убьет президента.
Только когда до него донеслось его имя, он перестал улыбаться и снова начал слушать.
- Он лепролиз. Шрайк говорит, что он облизывает прокаженных. Бармен! Одну проказу для джентльмена.
- Если нет проказы, дайте ему гуляш.
- Ну да, вот где изъян в его отношении к Богу. Литературщина - одноголосый хорал, латинские стихи, средневековая живопись, Гюисманс, витражи и прочая шелуха.
- Если у него и будет подлинное религиозное переживание, оно будет индивидуальным, а значит, непередаваемым - никому, кроме психиатра.
- Его беда, наша общая беда - что у нас нет внешней жизни, только внутренняя, да и та - по необходимости.
- Он эскепист. Он хочет возделывать свой внутренний садик. Но скрыться от мира нельзя, да и где он найдет рынок для плодов своей личности? Сельскохозяйственный совет себя не оправдал.
- В конце концов, я вам скажу, каждому надо зарабатывать на жизнь. Не все могут верить в Христа, а фермеру - какое дело до искусства? Он скинет ботинки и босыми ногами пощупает теплую жирную землю. В церкви ботинки не скинешь.
Подруга скорбящих опять улыбнулся. Подобно Шрайку, которому они все подражали, они были машинами, штампующими шутки. Пуговичная машина штампует пуговицы, что бы ни приводило ее в движение - нога, пар или электричество. Каковабы ни была тут движущая сила - смерть, любовь или Бог, - они штамповали шутки.
Неужели их вздор - единственное препятствие, спросил он себя. Неужели я закинулся перед таким низким барьером?
Виски было хорошее, он ощущал тепло и уверенность. В сизом табачном дыму красное дерево стойки сияло, как мокрое золото. Бокалы и бутылки с яркими бликами позванивали, как колокольчики, когда их сдвигал бармен. Подруга забыл, что его сердце - бомба, и вспомнил случай из детства. Однажды зимним вечером они с сестренкой дождались, когда придет из церкви отец. Сестре тогда было восемь лет, ему - двенадцать. В этом перерыве между игрой и едой ему стало грустно, и, сев за рояль, он начал пьесу Моцарта.
Он впервые сел за рояль добровольно. Сестра отложила свою книжку с картинками и стала танцевать под музыку. До этого она никогда не танцевала. Она двигалась старательно, с серьезным видом - танец был простой и вместе с тем чинный. Подруга скорбящих стоял у бара, покачиваясь под музыку, всплывшую в памяти, и представлял себе, как танцуют дети. Прямоугольник переходил в квадрат, сменялся кругом. Все дети, повсюду, все дети мира, до одного, танцевали серьезно и трогательно.
Он отступил от стойки и случайно наткнулся на человека с кружкой пива. Повернувшись, чтобы попросить прощения, он получил удар в зубы. Потом очутился за столиком в задней комнате - сидел, шевеля языком шатающийся зуб. Он удивился, почему стала мала шляпа, и нащупал на затылке шишку. Наверное, упал. Барьер оказался выше, чем он думал.
Гнев его искал мишень, описывая размашистые пьяные круги. Что еще за христианство, черт его дери? И чинные детские танцы? Попросит Шрайка перевести его в спортивную редакцию.
Заглянул Нед Гейтс - посмотреть, как он себя чувствует, - и предложил выйти на воздух. Гейтс тоже был очень пьян. Когда они выбрались из бара, на улице шел снег.
Гнев Подруги скорбящих сделался холодным и блеклым, как снег. Они плелись вдвоем свеся головы, сворачивая куда попало, пока не очутились перед сквером. В общественной уборной горел свет, и они зашли погреться.
В одной из кабинок сидел старик. Он сидел на крышке унитаза, а дверь кабинки была открыта.
Гейтс приветствовал его:
- Так, так, - тепло, светло, и мухи не кусают, а?
Старик испуганно вскочил, но в конце концов сумел ответить:
- А что вам надо? Оставьте меня, пожалуйста, в покое. - Голос у него был как флейта, - не вибрировал.
- Если нет подруги рядом, пусть будет чистенький старик, - пропел Гейтс.
Казалось, старик сейчас заплачет, но он неожиданно засмеялся. Под смехом возник страшный кашель - зародившись где- то на дне легких, он вырвался из горла. Старик отвернулся, чтобы отереть рот. Подруга скорбящих попробовал увести Гейтса, но тот не желал уходить без старика. Вдвоем они схватили старика и вытащили из кабинки, а затем - на улицу. Он обмяк у них в руках и захихикал. Подруга скорбящих подавил желание ударить его.
Снег перестал, сделалось очень холодно. Старик был без пальто, но заявил, что холод бодрит. Он был с тростью и в перчатках, потому что - пояснил он - не выносит красных рук.
Они не вернулись к Дилеханти, а пошли в итальянский подвальчик возле сквера. Старик убеждал их пить кофе, но они, посоветовав ему не лезть не в свое дело, заказали ржаное виски. У Подруги от виски защипало разбитую губу.
Гейтса раздражали изысканные манеры старика.
- Послушай, ты, - сказал он, - кончай джентльменничать и расскажи нам свою биографию.
Старик выпрямился, как маленькая девочка, когда она показывает брюшной пресс.
- А-а, кончай, - сказал Гейтс. - Мы ученые. Он - Хэвлок Эллис, а я Крафт-Эбинг. Когда вы впервые ощутили в себе гомосексуальные наклонности?
- Как вас понять, сэр? Я…
- Знаю, знаю, но все же чем, по-вашему, вы отличаетесь от других мужчин?
- Как вы смеете… - Старик возмущенно пискнул.
- Ну, ну, - сказал Подруга, - он не хотел вас обидеть. У всех ученых ужасные манеры… Однако вы страдаете извращением, не так ли?
Старик замахнулся тростью. Гейтс перехватил ее сзади и вырвал. Старик закашлялся и приложил ко рту черный атласный галстук. Не переставая кашлять, он добрел до стула в глубине комнаты.
У Подруги возникло такое же ощущение, как много лет назад, когда он случайно наступил на лягушку. При виде выдавленных внутренностей его охватила жалость, но когда он почувствовал мучения лягушки по-настоящему, жалость перешла в ярость, и он исступленно бил ее, пока не умертвил.
- Я вытяну из хрыча биографию, - крикнул он и двинулся к старику. Гейтс, смеясь, прошел за ним.
При их приближении старик вскочил. Подруга схватил его и усадил обратно.
- Мы психологи, - сказал он. - Мы хотим вам помочь. Как вас зовут?
- Джордж Б. Симпсон.
- «Б» - полностью?
- Брамхол.
- Ваш возраст и характер интересующих вас объектов?
- По какому праву вы спрашиваете?
- По праву ученого.
- Да хватит, - сказал Гейтс. - Старый пед сейчас заплачет.
- Нет, Крафт-Эбинг, сантиментам не должно путаться в ногах взыскующей науки.
Подруга обнял старика за плечи.
- Расскажите нам вашу биографию, - сказал он прочувствованным тоном.
- У меня нет биографии.
- Должна быть. У каждого есть биография.
Старик начал всхлипывать.
- Да, понимаю, повесть вашей жизни - печальная повесть. Расскажите ее, черт возьми, расскажите.
Но старик молчал, Подруга схватил его руку и стал выкручивать. Гейтс пробовал его оттащить, но он не отпускал. Он выкручивал руку всем больным и несчастным, сломленным и преданным, беспомощным и бессловесным. Он выкручивал руку Отчаявшейся, Нет- Мочи, Разочарованной-с-мужем-туберкулезником.
Старик закричал. Подругу скорбящих ударили сзади стулом.
Подруга скорбящих и жена Шрайка
Подруга скорбящих лежал на кровати одетый, как его свалили накануне ночью. Голова болела, и мысли крутились внутри боли, как зубчатка в зубчатке. Когда он открыл глаза, комната, как третья зубчатка, закрутилась вокруг боли в голове.
С кровати был виден будильник. Он показывал половину четвертого. Когда зазвонил телефон, Подруга вылез из кислой постели. Шрайк осведомился, намерен ли он идти на службу. Он ответил, что вчера перепил, но постарается прийти.
Он медленно разделся и залез в ванну. От горячей воды телу было приятно, но сердце так и осталось куском застывшего сала. Вытеревшись, нашел в аптечке остатки виски и выпил. Алкоголь согрел только изнанку желудка.
Он побрился, надел чистую рубашку, отглаженный костюм и вышел поесть.
Допив вторую чашку обжигающего кофе, он обнаружил, что идти на работу уже поздно. Но беспокоиться не стоило - Шрайк никогда его не уволит. Он слишком удобная мишень для шуток. Однажды он попробовал добиться увольнения, порекомендовав в своей колонке самоубийство. Но Шрайк сказал только: «Помни, пожалуйста, что твоя задача - расширять подписку на нашу газету. Самоубийства же, подсказывает нам логика, не способствуют достижению этой цели».
Он расплатился за завтрак и вышел из кафетерия. Может быть, его согреет ходьба. Решил идти поживее, но скоро устал и, добравшись до сквера, плюхнулся на скамью напротив обелиска в память о войне с Мексикой.
Каменный столб бросал на дорожку длинную жесткую тень. Он сидел, глядя на нее неизвестно почему, и вдруг заметил, что тень удлиняется не так, как обычно тени, а короткими толчками. Он испугался и быстро поднял взгляд на памятник. Столб казался красным и набрякшим в лучах вечернего солнца - словно вот-вот выбросит струйку гранитного семени.
Подруга скорбящих бросился прочь. На улице он рассмеялся. Да, пробовал и горячую воду, и виски, и кофе, и прогулку, но совсем забыл о женщине. Вот что нужно на самом деле. Он опять засмеялся, вспомнив, что все его приятели в колледже верили, будто половая жизнь успокаивает нервы, расслабляет мускулы и полирует кровь.
Но из всех знакомых только две женщины способны его выносить. С Бетти он уже все испортил, так что остается Мери Шрайк.
Целуя Мери, он чувствовал себя не таким посмешищем. Она целовала его, потому что ненавидела Шрайка. Но Шрайк и тут его побил. Сколько он ее ни упрашивал наставить Шрайку рога, она отказывалась.
Хотя Мери всегда постанывала и закатывала глаза, она не желала облечь свои переживания в более осязаемую форму. Когда он настаивал, она очень сердилась. В том, что стоны искренни, его убеждала перемена, происходившая в ней, когда он начинал усиленно ее целовать. Тогда ее тело издавало аромат, смешивающийся с синтетическим цветочным запахом духов, которыми она смазывала себя за ушами и над ключицами. В его же теле таких перемен не происходило. Его, как мертвеца, разогреть могло только трение, и только насилие могло вывести из неподвижности.
Он решил немного выпить, а потом позвонить Мери от Диленханти. Час был ранний, и пивная пустовала. Бармен подал ему и снова углубился в газету.
На зеркале за стойкой висела реклама минеральной воды. Там была изображена голая девушка, сохранявшая скромный вид благодаря туману, который поднимался от источника у ее ног. Зато ее грудь художник выписал с большим старанием, и соски торчали, как крохотные красные шляпки.
Он попробовал раздразнить себя мыслями о том, как Мери играет своей грудью. Она пользовалась ею так, как кокетки далекого прошлого - своими веерами. Один из приемов состоял в том, что она носила медаль очень низко. Когда он просил показать ее, Мери ее не вытаскивала, а наклонялась сама, чтобы он мог заглянуть. Хотя он часто просил показать медаль, ему так и не удалось выяснить, что на ней изображено.
Но волнения он не почувствовал. Скорее наоборот: когда он начал думать о женщинах, то еще больше остыл. Это не по его части. Тем не менее, упорствуя - от отчаяния, - он пошел звонить Мэри.
- Это ты? - спросила она и добавила, не дожидаясь ответа: - Нам надо срочно увидеться. Я с ним поссорилась. Между нами все кончено.
Она всегда изъяснялась заголовками, а ее взволнованный тон вынуждал его отвечать небрежно.
- Ладно, - сказал он. - Когда. Где.
- Все равно где, слышишь, я покончила с этой дрянью, покончила.
Она не в первый раз ссорилась со Шрайком, и он знал, что в обмен на обычное количество поцелуев ему придется выслушать больше обычного жалоб.
- Хочешь, встретимся здесь, у Диленханти?
- Нет, приходи ко мне. Мы будем одни, к тому же мне все равно надо принять ванну и одеться.
Придя к ней, он, возможно, застанет ее на коленях у Шрайка. Супруги будут рады ему, и втроем они пойдут в кино, где Мери будет тайком держать его за руку.
Он вернулся к стойке, чтобы выпить последнюю, потом купил литровую бутылку виски и взял такси. Дверь открыл Шрайк. Подругу скорбящих это не удивило, однако он смутился и, чтобы скрыть растерянность, прикинулся совсем пьяным.
- Заходи, заходи, разрушитель очага, - смеясь, сказал Шрайк. - Мадам через пять минут выйдет. Она в ванне.
Шрайк взял у него бутылку и откупорил. Потом принес газированной воды и налил себе и Подруге.
- Так, - сказал он, - значит, вот на что нас потянуло, а? На виски и на жену начальника.
Подруга скорбящих никогда не умел ему ответить. Все ответы, которые приходили в голову, были слишком общими или вытекали из слишком далекого прошлого в истории их отношений.
- Собираешь материал на местах, так я понимаю? - сказал Шрайк. - Ну, виски в счет служебных расходов не включай. Однако нам приятно видеть, что молодой человек вкладывает в дело свою душу. А то у тебя она была в пятках.
Подруга скорбящих сделал отчаянную попытку ответить остротой.
- А ты, - сказал он, - старый склочник и бьешь свою жену.
Шрайк стал смеяться, но слишком громко и слишком долго, и
закончил театральным вздохом.
- Увы, мой юный друг, - сказал он, - ты ошибаешься. Битьем занимается Мери.
Он основательно глотнул из бокала и снова вздохнул, еще театральнее.
- Мой добрый друг, я хочу поговорить с тобой по душам. Я обожаю задушевные разговоры, а в наши дни мало осталось людей, с кем можно по-настоящему поговорить. Все так очерствели. Я хочу признаться во всем чистосердечно, излить душу. Лучше излить душу, чем гноить в ней мучительную тайну.
Говоря это, он делал оживленное лицо, кивал головой и подмигивал, что, по-видимому, должно было внушать доверие и доказывать, что он - простецкий малый.
- Мой добрый друг, твое обвинение задело меня за живое. Вы, возвышенные любовники, думаете, что только вы страдаете. Но вы не правы. Хотя моя любовь лежит в плотской плоскости, я тоже страдаю. Страдание-то и бросает меня в объятья разных мисс Фаркис этого мира.
Непроницаемая маска спала, и в его голосе действительно послышалась боль.
- Она эгоистка. Эгоистическая стерва. Она была девушкой, когда мы поженились, и с тех пор сражается, чтобы таковой остаться. Спать с ней - все равно что спать с ножом в паху.
Настал черед Подруги посмеяться. Он сунулся лицом к Шрайку и засмеялся изо всех сил.
Защищаясь, Шрайк попытался обратить все в шутку:
- Утверждает, что я ее изнасиловал. Можешь себе представить, чтобы Вилли Шрайк, милый Вилли, кого-нибудь изнасиловал? Я, как ты, тоже из нежных любовников.
Мери вошла в халате. Она наклонилась к Подруге скорбящих и сказала:
- Не разговаривай с этой свиньей. Идем со мной, и захвати виски.
Войдя за ней в спальню, он услышал, как Шрайк хлопнул выходной дверью. Мери ушла в гардеробную одеваться. Он сел на кровать.
- Что тебе наговорила эта свинья?
- Он сказал, что ты эгоистка, Мери, - половая эгоистка.
- Какая наглость! Думаешь, почему он позволяет мне ходить с другими мужчинами? Из экономии. Знает, что разрешаю им меня обнимать, и, когда я прихожу домой, вся разгоряченная и растревоженная, - слышишь, заползает ко мне в постель и клянчит. Жадный паразит!
Она вышла из гардеробной в черной кружевной комбинации и стала причесываться перед туалетом. Подруга скорбящих наклонился и поцеловал ее в затылок.
- Ну, ну, - сказал она с шаловливым видом, - ты меня разлохматишь.
Он глотнул виски из бутылки, а ей налил с газированной. Когда он подал бокал, Мери его в награду чмокнула.
- Где мы будем есть? - спросила она. - Пойдем туда, где можно танцевать. Я хочу веселиться.
Они поехали на такси в ресторан «Эль гаучо». Когда они вошли, оркестр играл кубинскую румбу. Официант, наряженный южноамериканским пастухом, отвел их к столику. Мери сразу ударилась в испанщину, ее движения стали томными и развязными.
Но в знойной атмосфере он еще острее ощутил себя куском застывшего сала.
Не желая поддаваться этому чувству, он сказал себе, что это - ребячество. Где его доброе, отзывчивое сердце? Гитары, яркие шали, диковинная еда, заморские наряды - все это промышленность мечты. Ведь перестал он смеяться над рекламами, где обещают обучить ремеслу писателя, карикатуриста, инженера, развить бюст, нарастить бицепсы. Значит, он должен понимать, что люди, пришедшие в «Эль гаучо», - это те же самые люди, которые хотят писать и вести жизнь художников, быть инженерами, носить краги, хотят развить себе кисть, чтобы рукопожатие внушало уважение начальнику, хотят баюкать голову Рауля на своих налившихся грудях. Те же самые, которые просят помощи у Подруги скорбящих.
Но раздражение сидело слишком глубоко, чтобы подавить его таким способом. А пока мечты ничуть не грели - даже самые скромные.
- Мне тут нравится. Отдает, конечно, клюквой, зато весело - а мне так хочется веселиться.
Она поблагодарила его, предложив себя в формальной, неодушевленной пантомиме. На ней было облегающее, с блеском платье, похожее на облитую стеклом сталь, и ее жестикуляция производила впечатление чисто механическое.
- Почему ты хочешь веселиться?
- Каждый хочет веселиться - если он не болен.
Болен ли он? Громадной холодной волной читатели его колонки обрушились на музыку, на яркие шали, на живописных официантов, на ее глянцевитое тело. Чтобы спастись от них, он попросил показать медаль. Как девочка, помогающая старику перейти улицу, она наклонилась к нему, чтобы он мог заглянуть в вырез платья. Но он не успел ничего разглядеть - к столу подошел официант.
- Веселиться надо, веселя других, - сказал Подруга скорбящих. - Ты знаешь, как сделать меня весельчаком.
Голос его звучал безнадежно, и ей было легко пропустить его просьбу мимо ушей, но настроение у нее тоже упало.
- Мне тяжело жилось, - сказала она. - С самого начала тяжело жилось. Мать умерла у меня на глазах, когда я была маленькой. У нее был рак груди, и боли были ужасные. Она умерла, прислонившись к столу.
- Ну, я прошу тебя, - сказал он.
- Нет, давай потанцуем.
- Я не хочу. Расскажи мне про твою мать.
- Она умерла, прислонившись к столу. Боли были такие ужасные, что перед смертью она вылезла из кровати.
Мери навалилась на стол, показывая, как умерла мать, и он еще раз попытался рассмотреть медаль. Он увидели, что там изображен бегун, но надпись прочесть не смог.
- Отец с ней был очень жесток, - продолжала она. - Он был художник-портретист, человек гениальный, но…
Подруга перестал слушать и попробовал опять привести в действие свое доброе, отзывчивое сердце. Родители тоже - промышленность мечты. Мой отец был русский князь, мой отец был вождь индейцев-пиутов, мой отец был король овцеводов в Австралии, мой отец разорился на бирже, мой отец был художник-портретист. Люди вроде Мери не могут без таких историй. И рассказывают их потому, что хотят поговорить о чем-нибудь, кроме нарядов, службы, кинофильмов, - хотят поговорить о чем-нибудь поэтическом.
Когда она закончила, он сказал: «Бедная детка» - и нагнулся еще раз взглянуть на медаль. Она наклонилась, чтобы ему было виднее, и оттянула вырез платья. На этот раз ему удалось прочесть надпись: «Присуждена латинским факультетом Бостонского университета за первое место в беге на 100 ярдов».
Победа была маленькая, но удвоила его усталость, и он обрадовался, когда Мери предложила уйти. В такси он снова попросил ее отдаться. Она отказала. Он мял ее тело, как скульптор, рассердившийся на глину, но ласки его были слишком методичны, и оба они остались холодны.
Перед дверью квартиры она обернулась для поцелуя и прижалась к нему. В паху его зажглась искорка. Он не отпускал Мери, пытаясь разжечь из искры пламя. После долгого мокрого поцелуя она оттолкнула его лицо.
- Слушай, - сказал она. - Нам нельзя молчать. Надо разговаривать. Вилли, наверно, услышал лифт и подслушивает за дверью. Ты его не знаешь. Услышит, мы молчим, поймет, что целуемся, и откроет дверь. Всегдашний его номер.
Он обнимал ее и отчаянно старался сохранить искру.
- Не целуй меня в губы, - взмолилась она. - Я должна разговаривать.
Он поцеловал ее в шею, потом расстегнул платье и стал целовать грудь. Она боялась сопротивляться и боялась замолчать.
- Моя мать умерла от рака груди, - говорила она бодрым голосом девочки, которая читает гостям стихи наизусть. - Она умерла, прислонившись к столу. Отец был художник-портретист. Он вел рассеянный образ жизни. Он плохо обращался с матерью. У нее был рак груди. Она… - Он рванул платье, Мери стала мямлить и повторяться. Платье упало к ее ногам, он стал сдирать с нее белье и наконец совсем раздел ее под шубой. Он попытался повалить ее на пол.
- Не надо, не надо, - умоляла Мери. - Он войдет, застанет нас.
Он закрыл ей рот долгим поцелуем.
- Пусти меня, родной, - упрашивала она, - может, его нет дома. Если его нет, мы войдем.
Он отпустил ее. Она открыла дверь и вошла на цыпочках, пряча скатанную одежду под шубой. Он услышал, как она включила свет в передней, и понял, что Шрайк не стоял за дверью. Потом услышал шаги и юркнул за лифт. Дверь открылась, и в коридор выглянул Шрайк. На нем была только пижамная куртка.
Подруга скорбящих собирает материал на местах
В редакции на другой день было холодно и сыро, Подруга скорбящих сидел за столом, сунув руки в карманы и плотно сдвинув ноги. Пустыня, думал он, но не песчаная, а из ржавчины и телесной грязи, окруженная забором, к которому прицеплены плакаты с новостями дня. Мать убила пятерых топором, убила семерых, убила восьмерых… Бейб забил два, забил три… А за забором Отчаявшаяся, Убитая горем, Разочарованная-с-мужем-туберкулезником и остальные вдумчиво складывали из белых ракушек ПОДРУГА СКОРБЯЩИХ, словно украшая скверик захолустного полустанка.
Он не заметил, что к нему вразвалку подошел Голдсмит, и тяжелая рука опустилась на его шею, как шлагбаум. Он, заворчав, освободился. Голдсмиту злость Подруги показалась забавной, и улыбка собрала его толстые щеки в два валика, похожие на рулоны розовой туалетной бумаги.
- Ну, как наш пьяница? - спросил он, подражая Шрайку.
Подруга скорбящих знал, что Голдсмит вчера написал за него
колонку, и, боясь показаться неблагодарным, скрыл раздражение.
- Не за что, - сказал Голдсмит. - Почитать твою почту - одно удовольствие. - Он вынул из кармана розовый конверт и кинул на стол. - От поклонницы. - Он смачно подмигнул - толстое серое веко медленно съехало по влажному выпуклому глазу.
Подруга скорбящих взял письмо.
Дорогая Подруга скорбящих, я не очень умею писать письма, поэтому хотелось бы поговорить с вами лично. Мне всего 32 года, но я повидала в жизни много горя и неудачно вышла замуж за калеку. Мне до ужаса нужен умный совет, но я не могу рассказать свое дело в письме, потому что плохо пишу письма, а чтобы рассказать его, надо быть писателем. Я знаю, что вы мужчина, и это хорошо, потому что женщинам я не верю. Мне вас показали у Дилеханти - что это вы даете советы в газете, и я сразу почувствовала, что вы сумеете мне помочь. Когда я пришла туда с моим мужем-калекой, на вас был синий костюм и серая шляпа.
Мне не очень неудобно просить вас о встрече, потому что у меня такое чувство, как будто мы знакомы. Мой номер телефона: Берджес 7-7323, пожалуйста, позвоните мне, я ужасно хочу посоветоваться с вами о моей семейной жизни.
Ваша поклонница Фей Дойл.
С подчеркнутым отвращением он кинул письмо в корзину для бумаг.
Голдсмит засмеялся.
- Ты что это, Достоевский? - сказал он. - Так не годится. Не русского корчить надо, не самоубийство рекомендовать, а сделать даме ребенка, еще одного потенциального подписчика.
Чтобы избавиться от него, Подруга притворился занятым. Он сел за машинку и стал отстукивать статью.
«Жизнь большинству из нас кажется страшной борьбой, полной боли и горестей, безрадостной и безнадежной. Нет, дорогие мои читатели, это только так кажется. Каждый, как бы он ни был мал и беден, должен развить в себе чувство прекрасного. Увидьте небо в барашках облаков и море в пенных барашках… Как поется в популярной песне, „лучшее в жизни - бесплатно". А жизнь - это…»
Продолжать он не мог и вновь обратился к воображаемой пустыне, где Отчаявшаяся, Убитая горем и остальные все еще складывали его имя. Ракушки у них кончились, и теперь они клали выцветшие фотографии, замусоленные веера, расписания, игральные карты, сломанные игрушки, поддельные драгоценности - хлам, который сделала ценным память - гораздо более ценным, чем все, что можно взять у моря.
Он заглушил свое доброе, отзывчивое сердце смехом, потом достал из мусорной корзины письмо миссис Дойл. И, как розовую палатку, поставил его в пустыне. На фоне стола из черного дерева дешевая бумага заиграла теплыми телесными тонами. Он вообразил миссис Дойл палаткой с волосами и жилками, а себя маломощными мощами, черепом и костями с экслибриса ученого. Когда он запустил скелет в палатку, тот расцвел каждым суставом.
Но, несмотря на эти мысли, он чувствовал себя холодным и сухим, как отполированная кость, и сидел, пытаясь найти моральный аргумент против звонка к миссис Дойл. Если бы он верил в Христа, тогда прелюбодеяние было бы грехом, все стало бы просто, а ответить на письма - легче легкого.
Потерпев в этих поисках полную неудачу, он отправился звонить. Он вышел из редакции б холл, где стояли платные телефоны, потому что по служебным вести частные разговоры не полагалось. Стены кабины были покрыты похабными рисунками. Уставясь на два сиротливых органа, он назвал телефонистке номер Берджес 7-7323.
- Можно миссис Дойл?
- Алло, кто это?
- Мне надо миссис Дойл, - сказал он. - Это миссис Дойл?
- Да, это я. - Голос ее был напряженным, испуганным.
- Это Подруга скорбящих.
- Чья подруга?
- Подруга скорбящих - Подруга скорбящих, я веду колонку в газете.
Он хотел уже повесить трубку, но тут она проворковала:
- А-а, здравствуйте.
- Вы просили позвонить.
- Да, да… что?
Он догадался, что ей неудобно говорить.
- Когда мы можем встретиться?
- Сейчас. - Она все еще ворковала, и он почти ощутил в телефоне ее теплое влажное дыхание.
- Где?
- Решайте.
- Тогда так, - сказал он. - Приходите в сквер, к обелиску, примерно через час.
Он вернулся за стол, дописал статью и пошел в сквер. У обелиска он сел на скамью и стал ждать миссис Дойл. По-прежнему думая о палатке, он окинул взглядом небо и нашел, что оно имеет цвет холстины и плохо натянуто. Он оглядывал небо, как глупый сыщик, пытающийся найти разгадку к собственной бестолковости. Не найдя ничего, он направил наметанный глаз на небоскребы, угрожавшие скверу со всех сторон. В этих тоннах изнасилованного камня и замученной стали он обнаружил то, что ему показалось разгадкой.
Американцы растратили национальную энергию в оргии камне- дробления. За короткий свой век они разбили больше камня, чем египтяне при всех фараонах. Они занимались этим истерически, исступленно, словно зная, что в один прекрасный день камни раздробят их самих.
Сыщик увидел, что в сквер вошла крупная женщина и направилась к нему. Он наскоро составил опись: ноги как булавы, груди - аэростаты, лоб голубя. Несмотря на короткую клетчатую юбку, красный свитер, кроличий жакет и вязаный берет, она была похожа на начальника полиции.
Он ждал, чтобы она заговорила первой.
- Подруга скорбящих? Ах, здравствуйте.
- Миссис Дойл? - Он встал и взял ее под руку. На ощупь рука была как бедро.
- Куда мы идем? - спросила она, когда он повел ее прочь.
- Выпить.
- К Дилеханти мне нельзя. Меня там знают.
- Пойдем ко мне.
- А это прилично?
Отвечать было не нужно, потому что она уже шла. Поднимаясь за ней по лестнице своего дома, он наблюдал за работой ее тяжелых окороков: они вращались, как два громадных жернова.
Он разлил виски с содовой и сел рядом с ней на кровать.
- Вы, наверно, знаете женщин насквозь - по вашей работе, - сказала она со вздохом и положила руку ему на колено.
Всегда в роли преследователя выступал он, но теперь ему почему-то было приятно, что роли переменились. Он отстранился, когда она придвинулась для поцелуя. Она схватила его за голову и поцеловала в губы. Сперва тикало, как часы, потом тиканье стало мягче, глуше, перешло в стук сердца. С каждой секундной сердце стучало все чаще и громче. Подруге показалось, что оно сейчас взорвется, и он грубо вырвался.
- Не надо, - взмолилась она.
- Чего не надо?
- Ох, милый, погаси свет.
Он стоял в темноте и курил, слушая, как она раздевается. Это были звуки моря: хлопнуло, как парус; заскрипели канаты; потом, словно волна о причал, шлепнула по телу резина. Ее призыв поторопиться был подобен стону моря, и когда он лег, она вздымалась, как валы, послушные лунной тяге.
Минут через пятнадцать, словно обессиленный пловец из полосы прибоя, он выбрался из постели и рухнул в большое кресло у окна. Она сходила в ванную, вернулась и села к нему на колени.
- Мне стыдно, - сказала она. - Теперь ты не будешь меня уважать.
Он отрицательно помотал головой.
- Муж у меня так себе. Он калека - я тебе писала - и старше меня. - Она засмеялась. - Весь высох. Он уже сколько лет мне не муж. Ты знаешь, моя Люси - не его дочь.
Она ожидала, что он изумится, - он видел это, и заставил себя поднять брови.
- Это длинный рассказ, - продолжала она. - Из-за Люси мне и пришлось за него выйти. Ты, конечно, удивился, как это я - и вышла за калеку. Это - длинный рассказ.
Ее голос гипнотизировал, как тамтам, и был так же монотонен. Его тело и ум одолевала дремота.
- Длинный, длинный рассказ - поэтому я и не могла написать в письме. Я забеременела; мы тогда жили на Центральной улице, а Дойлы - над нами. Я его привечала, ходила с ним в кино, хотя он калека, а я была из первых девушек нашего квартала. Когда я забеременела, я не знала, что делать, и попросила у него денег на аборт. А денег у него не было, и вместо этого мы поженились. А все оттого, что я поверила паршивому итальяшке. Я думала, он джентльмен, а когда попросила его жениться - так он прогнал меня от дверей и даже денег на аборт не дал. Мол, если он даст мне деньги - значит, это от него, а у меня будет за него зацепка. Ну, слыхал ты когда-нибудь про такого подлеца?
- Нет, - ответил он. Жизнь, о которой она рассказывала, была тяжелее даже, чем ее тело. Словно гигантское живое письмо Подруге скорбящих в форме пресс-папье опустилось на его мозг.
- Когда я родила, я написала подлецу, но он даже не ответил, и года два назад я подумала, как это несправедливо, что Люси должна зависеть от калеки, хотя у нее есть все права. Я нашла его фамилию в телефонной книге и повела к нему Люси. Я и ему тогда сказала - что для себя ничего не хочу, а Люси должна иметь то, что ей причитается. Ну, продержал он нас час в прихожей - слышишь, я прямо кипела от злости, когда думала, сколько мыс дочкой терпели от него издевательств, - а потом дворецкий ведет нас в гостиную.
Очень тихо и благородно - потому что деньги это еще не все, а джентльмен из него такой же, как и меня дама, - итальяшка вшивый - я ему говорю, что он должен помогать Люси, раз он ей отец. А у него хватило наглости сказать, что он меня в первый раз видит и, если я не перестану ему надоедать, он меня посадит. Тут я вспылила и выдала подлецу - объяснила, что я о нем думаю. А пока мы ругались, вошла какая-то женщина, видно жена, - ну я и закричала: «Он отец моего ребенка, он отец моего ребенка». Они пошли к телефону, вызывать полицию, а я взяла дочку и удрала.
И тут начинается самая комедия. Муж у меня чудак, всегда делает вид, будто он ей отец, и даже мне говорит - «наш ребенок». Ну, пришли мы домой, а Люси все спрашивает, почему я чужого дядю называла ее папой. И допытывается, правда ли Дойл ей не папа. А на меня, наверно, затмение нашло - запомни, говорю, что твоего отца звать Тони Бенилли и что он меня обманул. Наплела ей всякой такой чепухи - кинофильмов, видно, насмотрелась. Ну, приходит он домой, а Люси первым делом говорит ему, что он ей не папа. Он разозлился и начал допытываться, что я ей наплела. А мне его гонор не понравился - и говорю: «Правду». И еще, видно, мне надоело, что он с ней так носится. Он на меня накинулся, отвесил оплеуху. Ну, такого я бы никакому мужику не спустила - дала ему сдачи; он на меня с палкой, но промазал, свалился на пол и стал плакать. А дочка тоже на полу плачет, ну и меня разобрало: не успела оглянуться - сама лежу на полу и реву.
Миссис Дойл подождала, что он скажет, но он молчал, пока она не подтолкнула его плечом.
- Наверно, муж любит вас и ребенка, - сказал он.
- Может, и так - но я была красивая девушка, могла бы выбрать получше. Кому охота коротать свой век с калекой, недомерком?
- Ты и сейчас красивая, - сказал он неизвестно почему - разве что с испугу.
Она наградила его поцелуем, потом потащила на кровать.
Подруга скорбящих в мрачной трясине
Вскоре после ухода миссис Дойл Подруга скорбящих захворал и перестал выходить из дому. Первые два дня болезни смыл сон, но на третий день его воображение опять заработало.
Он увидел себя в витрине ломбарда, заваленной меховыми шубами, бриллиантовыми перстнями, часами, охотничьими ружьями, рыболовными снастями, мандолинами. Все эти вещи были принадлежностями страдания. Изуродованный блик корежился на лезвии кинжала, обшарпанный рог кряхтел от боли.
Он сидел в витрине и думал. Человек стремится к порядку. Ключи в одном кармане, мелочь в другом. Строй мандолины: соль-ре- ля-ми. Физический мир стремится к беспорядку, к большой энтропии. Человек против природы… многовековая битва. Ключи хотят смешаться с мелочью. Мандолина старается расстроиться. Во всяком порядке скрыт зародыш разрушения. Всякий порядок обречен, но биться за него имеет смысл.
Труба с ярлыком «2 дол. 49 ц.» подала сигнал к бою, и Подруга скорбящих ринулся в схватку. Сначала из старых часов и резиновых сапог он сложил фаллос, потом из зонтиков и мушек для рыбной ловли - сердце, потом из шляп и музыкальных инструментов - бубну, после - круг, треугольник, квадрат, свастику. Но всем фигурам не хватало законченности, и он начал строить гигантский крест. Крест уже не вмещался в ломбард, и тогда он перенес его на берег океана. Тут каждая волна добавляла к его запасам больше, чем он успевал пристраивать к кресту. Труд его был титанический. Он брел от линии прибоя к своему творению, нагрузившись морским сором - бутылками, ракушками, кусками пробки, рыбьими головами, обрывками сетей.
Пьяный от изнеможения, он наконец заснул. Проснулся очень слабым, но умиротворенным.
В дверь робко постучали. Она была не заперта, и вошла Бетти со свертками в обеих руках.
Подруга скорбящих сделал вид, что спит.
- Здравствуй, - сказал он вдруг.
Бетти вздрогнула и обернулась.
- Мне сказали, что ты болен, - объяснила она, - я принесла поесть - горячего супу и всякое такое.
Он так устал, что даже не разозлился на Бетти за эту наивную опеку и позволил кормить себя с ложечки. Когда он поел, она отвори ла окно и перестелила постель. Наведя порядок в комнате, она собралась уходить, но он остановил ее:
- Посиди, Бетти.
Она придвинула к кровати стул и села молча.
- Извини меня за ту сцену, - сказал он. - Я, наверное, был нездоров.
Показывая, что прощает его, он помогла ему найти оправдание:
- Все из-за работы - из-за Подруги скорбящих. Почему ты не бросишь?
- И чем займусь?
- Поступишь в рекламное агентство или еще куда-нибудь.
- Ты не понимаешь, Бетти, - я не могу бросить. И если бы даже бросил - какая разница? Писем-то не забудешь, сколько ни старайся.
- Может, я и не понимаю, - сказала она, - но, по-моему, ты валяешь дурака.
- Попробую все-таки тебе растолковать. Начнем с самого начала. Человека берут в газету, чтобы он давал советы читателям. Сама рубрика - просто приманка для подписчиков, и вся редакция смотрит на это как на шутку. Он рад работе, потому что надеется перебраться отсюда в отдел светской хроники, а кроме того, ему надоело быть на побегушках. Он тоже смотрит на работу как на шутку, но проходит несколько месяцев, и шутка перестает его смешить. Он понимает, что большинство писем - это, в самом деле, смиренная мольба о нравственной и духовной помощи, что это косноязычные свидетельства подлинной муки. Оказывается, читатели принимают его всерьез. Впервые в жизни он вынужден рассмотреть ценности, составляющие основу его бытия. Рассмотрение приводит к выводу, что он вовсе не шутник, а жертва шутки.
Хотя он старался рассуждать здраво, он видел, что Бетти все равно считает его глупцом. Он закрыл глаза.
- Ты устал, - сказала она. - Я пойду.
- Нет, я не устал. Я просто устал говорить, поговори ты.
Она рассказал ему о своем детстве на ферме и о своей любви к животным, о деревенских звуках и деревенских запахах и о том, как все свежо и чисто в деревне. Она сказала, что ему надо пожить там, и когда он поживет там, он поймет, что все его неприятности - это городские неприятности.
Во время ее рассказа в комнату ворвался Шрайк. Он был пьян и сразу поднял крик, как будто думал, что Подруга скорбящих уже одной ногой в могиле и плохо слышит. Бетти ушла, не попрощавшись.
Шрайк, наверно, поймал конец сельской темы, - он сказал:
- Друг мой, я согласен с Бетти, ты эскепист. Но я не согласен, что сельская жизнь для тебя - правильный выход.
Подруга скорбящих отвернулся к стене и накрылся с головой. Но от Шрайка не было спасения. Он повысил голос и заговорил Подруге в затылок сквозь одеяло:
- Есть другие пути, и, дабы расширить твой кругозор, я тебе их обрисую. Но прежде о бегстве в Сельскую Жизнь, как советует Бетти.
Ты сыт по горло городом и его несметными толпами. Пути-дороги людские, - ибо, добывая, ссуживая, тратя, ты опустошаешь свой внутренний мир, - тебе не по нутру. Автобусом слишком долго, а метро набито битком. Куда податься? Ты покупаешь ферму и идешь за влажным задом лошадки, без запонок, душа нараспашку, пашешь свои просторные щедрые акры. Взрываешь черную жирную землю, а ветер несет над нивой запах сосны и навоза, и ритмы древнего, древнего труда вселяются в твою душу. И в этом ритме ты сеешь, и плачешь, и режешь скот без жалости и гнева средь тучных злаков и картошки. Твоя поступь - тяжелая чувственная поступь танцем пьяного индейца, и ты роняешь семя в матушку-землю. Ты сеешь не яблоки раздора, а овсо и просо… Ну, что скажешь, мой друг, Сельская Жизнь - по тебе?
Подруга скорбящих не ответил. Он думал о том, как Шрайк ускорил его болезнь, приучив держаться за единственную свою надежду, Христа, ватной варежкой слов.
- Твое молчание я воспринимаю как знак того, что Сельскую Жизнь ты отвергаешь. Согласен с тобой. Такая жизнь скучна и многотрудна. Рассмотрим теперь Жаркие Страны.
Ты живешь в тростниковой хижине с дочерью царя - это юная дева с гибким станом и древней мудростью в глазах. Груди ее - золотые крапчатые груши, живот подобен дыне, и пахнет она папоротником джунглей. Ввечеру над синей лагуной под бледной луной ты поешь о любви ей одной - нежные звукуки и словаки ее родного языкака. У тебя золотисто-шоколадное тело, как у нее, и лишь негодующий перст миссионера поможет туристам отличить тебя от соплеменников. Туристы завидуют твоей набедренной повязке, твоему беззаботному смеху, маленькой коричневой подруге и пальцам, заменившим вилку. А ты им не завидуешь, и когда прелестная светская девушка приходит ночью к тебе в хижину, чтобы разузнать секрет твоего блаженства, ты прогоняешь ее прочь, на яхту, которая переминается на горизонте, как нервная скаковая лошадь. И ты проводишь дни в мечтах, за рыбной ловлей, на охоте, в танцах, купании, поцелуях, собирании цветов, чтобы потом их вплели в твои волосы… Ну, мой друг, как ты смотришь на Жаркие Страны?
Подруга хотел остановить его и прикинулся спящим. Но Шрайк не поддался на обман.
- Опять молчание, - сказал он, - и опять ты прав. Жаркие Страны себя изжили, и мало проку подражать Гогену. Но не отчаивайся: мы только поскребли поверхность нашего предмета. Рассмотрим Гедонизм или - бери наличными, а кредит побоку.
Ты посвятил свою жизнь погоне за удовольствиями. Но без излишеств, учти, - ты знаешь, что твое тело - машина наслаждения, и обращаешься с ней бережно, чтобы получить от нее максимум. И гольф, и выпивка, и Джек О'Брайен Филадельфийский с его гантелями, и испанские танцовщицы. Не пренебрег ты и наслаждениями ума. Ты блудишь под холстами Пикассо и Матисса, ты пьешь из ренессансных бокалов и часто проводишь вечерок у камина с томиком Пруста и яблоком. Увы, после многого веселья наступает день, когда ты понимаешь, что должен умереть. Ты не раскис и решаешь закатить последний пир. Приглашаешь всех своих бывших любовниц, тренеров, художников, собутыльников. Гости в черном, прислуга черная, стол - гроб, сработанный для тебя Эриком Гиллом. Подают черную икру, чернику, лакричные конфеты, черный кофе. Когда танцовщицы закруглятся, ты встаешь и просишь тишины, ибо хочешь изложить свою жизненную философию. «Жизнь, - говоришь ты, - это клуб, где плакс не держат, где сдают только раз и нельзя сказать „пас". Так что если даже карты подтасованы и краплены рукой судьбы - играй, играй, как джентльмен и спортсмен». Пей до дна, хватай что есть на буфете, пользуйся девчонками из верхних комнат, но помни о ней, когда приходят тузы, и в ящик сыграй, как настоящий игрок, без нытья. Я даже не спрашиваю, как ты смотришь на такое бегство. У тебя нет денег, да и не настолько ты глуп, чтобы выдержать это. Зато теперь мы подошли к тому, что устроит тебя гораздо больше…
Искусство! Стать писателем или художником. Если ты замерз, грейся стронциановой Тициана, если голоден, насыщайся духовно благородными периодами Баха, гармонией Брамса, громами Бетховена. Не кажется ли тебе, что неспроста их фамилии начинаются с Б? Но не надо домыслов - оставь трех Б. и вспомни эти бессмертные строки: «Когда мелодии нежданной прощально эхо вторит меркнущего дня». Какой ритм! Скажи им: возьмите себе ваших светских шлюх и жареную утку в апельсинах. Тебе же - I'art vivant, живое искусство, как ты его называешь. Скажи им: я знаю, что башмаки у меня прохудились и что лицо у меня в прыщах, да, я кривозубый и косолапый, но мне все равно, потому что завтра в Карнеги-холле играют последние квартеты Бетховена, а дома у меня - полный Шекспир в одном томе.
После Искусства Шрайк обсудил самоубийство и наркотики. Покончив с ними, он подошел к тому, что, по его словам, было зерном его лекции.
- Мой друг, я, конечно, понимаю, что и Сельская Жизнь, и Жаркие Страны, и Гедонизм, и Искусство, и самоубийство, и наркотики для нас - пустой звук. Мы не из тех, которые глотают верблюдов, а высиживают комара. Единственное наше спасение - Бог. Церковь - единая наша надежда, Первая Церковь Христа Дантиста, где ему поклоняются как Предотвратителю Порчи. Церковь, чей символ - Троица в новом стиле: Отец, Сын и Жесткошерстный Фокстерьер… Итак, мой добрый друг, позволь продиктовать тебе письмо Христу:
Дорогая Подруга скорбящих подруг скорбящих, мне двадцать шесть лет, и я трублю в газете. Жизнь для меня - неутешительная пустыня. Ни от еды, ни от питья, ни от женщин я не получаю удовольствия, и даже искусство не приносит мне нынче радости. Леопард Недовольства бродит по улицам моего города, Лев Уныния притаился за стенами моей цитадели. Кругом - запустение и томление духа. Мне паршиво. Как мне верить, как хранить веру в такой день и час? Правда ли, что величайшие ученые опять в Вас верят? Я читаю Вашу колонку, и она мне очень нравится. Однажды Вы там написали: «Если же соль потеряет силу, кто вернет ей прежний вкус?» Правильна ли отгадка: «Не кто иной, как Иисус?» Заранее благодарю Вас за скорый ответ и остаюсь преданный Вам
Постоянный подписчик.
Подруга скорбящих за городом
Бетти навестила Подругу скорбящих на другой день и после этого стала приходить ежедневно. Она приносила ему суп и отварную курицу.
Судя по всему, она считала, что он не хочет выздоравливать, однако все ее распоряжения он выполнял, понимая, что болезнь его сама по себе ничего не значит. Это просто тело пустилось на .хитрость, чтобы дать выход болезни более глубокой.
Стоило ему заговорить о письмах или о Христе, она сразу меняла тему и потчевала его длинными рассказами о жизни на ферме. Она, очевидно, думала, что если тело выздоровеет, то и все остальное наладится. Он догадывался, что за ее рассказами о ферме кроется какой-то четкий план, но какой именно - сообразить не мог.
В первый же весенний день ему полегчало. Он провалялся больше недели и мечтал выйти. Бетти повела его в зоопарк, и он удивлялся ее нескрываемой вере в целительную силу животных. Она, очевидно, думала, что, глядя на буйвола, он тоже окрепнет.
Он хотел выйти на работу, но Бетти уговорила его отпроситься у Шрайка еще на несколько дней. Из благодарности он послушался. Тогда она открыла ему свой план. У тети до сих пор есть ферма в Коннектикуте, где она родилась, они поедут туда и поживут в пустом доме.
Приятель одолжил ей старый «форд». Они погрузили в него еду и вещи и с утра пораньше отправились. Когда они выехали на окраину, Бетти стала радоваться, как ребенок, с восторгом приветствуя деревья и траву.
Они проехали Нью-Хейвен и в Бремфорде свернули с шоссе на грунтовую дорогу, которая вела в Монкстаун. Дорога проходила через глухой лес, и им попались на глаза несколько рыжих белок и одна куропатка. Он вынужден был признаться - даже себе, - что бледные молодые листья, формой и раскраской напоминавшие огни свечек, красивы, а воздух пахнет жизнью и свежестью.
На ферме был пруд, и, подъезжая к дому, они увидели его за деревьями. Ключа у Бетти не было, дверь пришлось взломать. От тяжелого затхлого духа старой мебели и преющего дерева они раскашлялись. Он заворчал. Бетти сказала, что ей это не мешает - ведь запах нэ человечий. Она вложила столько в слово «человечий», что он рассмеялся и поцеловал ее.
Решили расположиться на кухне, потому что она была больше комнат и не так загромождена старой мебелью. Распахнули все четыре окна и дверь, чтобы проветрить.
Пока он разгружал машину, Бетти подмела и растопила плиту сломанным стулом. Формой и размерами плита напоминала паровоз, но тяга была хорошая, и огонь скоро разгорелся. Он принес воды из колодца и поставил кипятить. Когда вода нагрелась, они вымыли старый матрас, который нашли в одной из спален. Потом положили его сохнуть на солнце.
Только перед закатом Бетти позволила ему прекратить работу. Он сидел и курил, а она готовила ужин. На ужин были бобы, яйца, хлеб, фрукты, потом они выпили по две чашки кофе.
Ужинать кончили засветло и пошли смотреть пруд. Они сидели рядышком, спиной к толстому дубу, и наблюдали, как цапля охотится за лягушками. Когда собрались уходить, к пруду с той стороны подошли два оленя с олененком. Оленей донимали мухи - они вошли в воду и принялись щипать листья кувшинок. Бетти неосторожно пошевелилась, и олени убежали в лес.
Домой они вернулись в потемках. Зажгли керосиновую лампу, которую привезли с собой, втащили в кухню матрас и постелили на полу, возле печки.
Перед сном они вышли на крыльцо - выкурить по последней. Стало очень холодно, и ему пришлось сходить за одеялом. Они сели, прижавшись друг к другу, и укутались одеялом.
На небе было много звезд. Где-то в лесу совка подняла страшный шум, а когда она умолкла, ей ответила гагара на пруду. Почти так же громко, как гагара, кричали сверчки.
Холод проникал и под одеяло. Они ушли в дом, жарко растопили печку и, чтобы грела подольше, набили обломками дубового стола. Съели по яблоку, надели пижамы и легли. Он стал ее гладить, но когда она сказала, что она девушка, отстал и уснул.
Когда он проснулся, в глаза било солнце. Бетти уже хлопотала у плиты. Она отправила его на пруд, умываться, и к его приходу завтрак уже был готов. На завтрак были яйца, ветчина, картошка, жареные яблоки, хлеб и кофе.
После завтрака она принялась наводить уют, а он поехал в Монкстаун за фруктами и газетами. Он заправился в гараже «Эх, да поехали» и рассказал заправщику про оленей. Тот ответил, что у пруда до сих пор много оленей, потому что туда не добрались жиды. Он сказал, что олени не из-за охотников перевелись, а из-за жидов.
Вернулся он ко второму завтраку, а после еды они пошли гулять в лес. Под деревьями было очень грустно. Хотя весна уже хозяйничала в природе, тут, в глубокой тени, не было ничего, кроме смерти: гнилые листья, серые и белые грибы, и над всем - гробовая тишина.
Позже стало жарко, и они решили выкупаться. Влезли нагишом. Вода была такая холодная, что они почти сразу выскочили. Побежали домой, глотнули джину и сели на кухонном крыльце, погреться на солнышке.
Бетти не сиделось на месте. По дому делать было нечего, и она взялась стирать белье, в котором сюда ехала. Потом натянула между деревьями веревку.
Он сидел на крыльце и наблюдал за ее деятельностью. Волосы она повязала клетчатым платком, а больше на ней ничего не было. Она выглядела чуть толстоватой, но когда тянулась с чем-то к веревке, толщина исчезала. За руками кверху подтягивались груди и делались похожи на два больших пальца с розовыми кончиками.
Ни малейший ветерок не спорил с властью земного притяжения. Молодые зеленые листочки поникли и блестели на жарком солнце, как щиты лилипутского войска. В лесу пел дрозд. Голос его был похож на флейту, осипшую от слюны.
Бетти замерла с поднятыми руками, прислушиваясь к пению. Когда птица смолкла, она обернулась к нему с виноватой улыбкой. Он послал ей воздушный поцелуй. Она поймала его по-детски чувственным жестом. Он перелетел через перила крыльца и побежал поцеловать ее. Когда они упали, в ноздри ему ударил смешанный запах пота, мыла и примятой травы.
Подруга скорбящих возвращается
Через несколько дней они отправились обратно, в город. Когда они въехали в трущобы Бронкса, Подруга скорбящих понял, что Бетти не удалось исцелить его, а сам он не ошибся, сказав, что никогда не сможет забыть письма. От сознания этого ему стало легче, потому что он уже готов был считать себя дураком и притворой.
По улицам ожесточенно, как в сновидении, двигались толпы людей. Глядя на их изломанные руки и прорехи ртов, он томился желанием помочь, и оттого, что желание это было искренним, испытывал радость, хотя к ней примешивалось чувство вины.
Он увидел, как мужчина шагами смертельно раненного вошел в кинотеатр, где показывали фильм «Красавица блондинка». Он увидел, как лохматая женщина с громадным зобом вытащила из урны журнал любовного содержания и была очень взволнована своей находкой.
Совесть скребла, он принялся обобщать. Люди всегда боролись с невзгодами при помощи мечты. Кинофильмами, радио, газетами мечты, когда-то могущественные, превращены в мыльные пузыри. Из всех предательств это - худшее.
Его же роль тут оказалась особенно скверной из-за того, что он способен на мечту о Христе. Он понимал, что потерпел здесь неудачу не столько из-за насмешек Шрайка и неуверенности, сколько из-за недостатка смирения.
Наконец он лег в постель. Прежде чем уснуть, он поклялся себе, что честно постарается быть смиренным. Утром, отправляясь в редакцию, он повторил клятву.
К счастью для него, Шрайка в редакции не было, и смирение не подверглось проверке сразу. Он пошел прямо к столу и начал распечатывать письма. После десятка ему стало тошно, и он решил, что сегодня напишет статью, вообще не читая их. Он не хотел испытывать себя слишком пристрастно.
Чехла на машинке не было, и он вставил под валик лист бумаги.
«Христос умер за вас.
Он умер за вас, пригвожденный к дереву. Его вам дар - страдание; только через страдание вы можете Его познать. Берегите этот дар, ибо…»
Он выдрал лист из машинки. У него даже слово Христос - суета. Он долго смотрел на кипу писем, потом перевел взгляд на окно. Редкий весенний дождичек превращал пыльные битумные крыши домов в лакированную кожу.
От воды все стало скользким, и ни взгляд его, ни чувства нигде не находили опоры.
Подруга скорбящих снова повернулся к столу и взял грязный пухлый конверт. Он читал письмо по той же причине, по какой зверь грызет раненую лапу: чтобы сделать боли больно.
Уважаемая Подруга скорбящих, будучи поклонницей вашей колонки, из-за хороших советов, которые вы даете людям, попавшим в беду наподобие той, в какую я попала, я буду вам очень благодарна, если вы посоветуете, что мне делать, когда я поделюсь моей бедой.
Во время войны мне сказали, что если я хочу помочь стране, то надо выйти за того, с кем я помолвлена, потому что он отправляется послужить Дяде Сэму, и чтобы лишних слов не тратить, мы с ним поженились. Когда война кончилась, ему оставалось служить еще год, так уж он завербовался, а я конечно работала, потому что за все про все, за патриотический за долг за свой он греб 18 долларов.
Проработала три года, а потом пришлось сидеть дома, потому что родилась дочка, а супруг, между прочим, то устроится на работу, то уволится, то устанет, то побродить захочет. Пока ребенка не было, все было ничего, я работала, по счетам платила, а как уволилась, все пошло наперекосяк. Прошло еще два года, и брак наш увенчался еще мальчиком. Дочке будет восемь лет, а мальчику шестой.
После второго ребенка я решила, что, несмотря на состояние здоровья, потому что меня сшибла машина, когда я носила первого, мне надо работать, но долги копились - двух детей поднять это подъемный кран нужен, не говоря уже что больная. Работала я вечерами, когда муж был дома, чтобы ребенок не оставался без присмотра, а когда мальчику исполнилось три, я решила взять жильца, который жил и столовался у своей сестры, а она как раз переехала в Рочестер, и ему пришлось искать квартиру с кормежкой. Муж согласился, мол, лишних 15 долларов ему не помешают, тем более человек тот был вдовец, с двумя детьми, а муж его знал двенадцать лет, короче, товарищи, и гуляли вместе и все такое. Прожил он у нас год, и тут в один прекрасный день муж не является ночевать - ночь его нет, две нет, нет и нет. Я заявила на розыск, и через два с половиной месяца меня вызывают на Гроув-стрит и говорят, что он арестован как за отказ содержать меня и детей. Отсидел он три месяца из шести, и судья меня просит поверить ему в последний раз, я дура согласилась, а он когда пришел домой, так меня избил, что потом зубной врач содрал с меня 30 долларов.
Армия платила ему пенсию, но чеки получала конечно я и в магазине брала по ним я, до того он обленился, и за него расписывалась, а рядом писала свое имя по доверенности, но один раз когда отдавала хозяину за квартиру, потому что он нас выселить хотел, за него-то расписалась, а за себя по доверенности забыла, тут он и решил со мной сквитаться за те три месяца, послал в Вашингтон копию чека, чтобы меня посадили как за подделку, но мясник доказал, что я всегда расписываюсь на чеках и меня отпустили.
Он много раз грозился меня убить, говорил, что убийство миссис Миллс не раскрыли и с тобой будет так же, а когда постель стелила, то молоток найду у него под подушкой, то ножницы, то нож, то ломик, то еще что-нибудь, а спросишь зачем - прикидывается будто ничего не знает или мол дети подложили, и еще прошло сколько-то месяцев, я как всегда пошла работать, потому что жилец в тот день сидел дома - хозяину его материала не привезли, и ему делать было нечего, он работал сдельно. А завтрак я всегда готовила с вечера и на стол накрывала, чтобы полежать до семи, мальчик тогда лежал в больнице округа Минг с болезнью, которой меня муж заразил, а сам заболел, когда сражался за Дядю Сэма и меня тоже в клинике лечили уколами. Пока значит я лежала в постели, мой потихоньку от меня услал жильца за газетами, тот вернулся, а того нет. Я выхожу значит попоздней из комнаты, а жилец говорит его нет. Накормила дочку завтраком, сама поела и пошла постирать что за неделю накопилось, а жилец читал газету.
В двенадцать часов пришла мать посидеть с ребенком, потому что мне надо было пойти подработать, убрать у одних. А дома еще беспорядок, постели не убраны, все валяется где попало, да и подмести надо, потому что все утро стирала и не успела, а тут думаю, раз мать тут, она поможет и вдвоем мы быстро управимся. Ношусь как угорелая, чтобы развязаться поскорей, подмела, все по местам расставила, чтобы мужу прицепиться было не к чему, когда придет. У нас было три кровати, и когда я последнюю убирала, двойную, нагнулась со щеткой, чтобы пух и пыль из-под низу вымести, глядь, а на меня рожа смотрит, жуткая, как черт, только белки блестят и лапы растопырил, сейчас удушит, а как увидела, что он шевелится, испугалась до умопомрачения и у меня сделалась истерика, до ночи не могли унять и парализовало всю нижнюю часть тела. Думала, уже никогда не смогу ходить. Мать вызывала врача и он сказал, что за такие штуки надо отправлять в сумасшедший дом. Это супруг лежал под кроватью с семи утра чуть не до полвторого, а весь обгадился, вместо того, чтобы в уборную пойти в своем испражнении лежал, стерег, чтобы испугать меня.
Так что я его опасалась и не спала с ним, а спала на кровати жильца в другой комнате, потому что жильцу велела искать другую квартиру думала может он приревновал или еще что. Бывало, проснусь ночью, а он надо мной стоит, смеется, как ненормальный, а то голый расхаживает и всякое такое.
Я купила новую швейную машину, потому что немного шью на заказ, чтобы свести концы с концами, и один раз пошла относить работу, а когда вернулась, вижу, что дом обчистили, оказывается он заложил мою швейную машину и все, что можно было в доме заложить. А с тех пор как он начал меня пугать, я стала бояться по ночам когда вставала к детям, что он стоит за занавеской и выскочит или же схватит меня, до того как я зажгу свет. А раз я не могла заставить его нормально работать и мне приходилось быть и матерью и хозяйкой и кормилицей семьи и не знаю чем еще, мне нервы распускать было нельзя потому что один раз я потеряла хорошую работу из-за своих нервов, и я просто съехала от него тем более в доме как говорится хоть шаром покати. Он стал упрашивать, чтобы я ему поверила в последний раз, ну я и думаю, что он как-никак отец, поверила, а он такое продолжал вытворять, что описывать никакой бумаги не хватит и я опять ушла. Четыре раза мы сходились и четыре раза я уходила. Пожалуйста поверьте мне Подруга скорбящих, что я ушла только ради детей и простите меня потому что я не знаю как вы обеспечены, а от него за три с лишним года я получила всего-навсего 200 долларов.
Месяца четыре назад я передала ему ордер на арест за уклонение от родительских обязанностей, а он порвал его и ушел и с тех пор я его не видела, сама болела воспалением легких, а девочка болела гриппом и я не могла расплатиться с врачом, пришлось лечь в больницу, а когда вышла из больницы пришлось пустить жильца обратно потому что это верные 15 долларов в неделю, и если что со мной случится он все-таки в доме и присмотрит за детьми. Но он пристает ко мне с нехорошими предложениями, а по субботам приходит вечером пьяный, в доме никого нет и я не знаю что делать, но пока что ничего не позволила. Где мой муж я не знаю, но получила от него поганое письмо, где он даже невинных детей обвиняет во всяких гадостях и ехидно интересуется насчет геройского жильца.
Дорогая Подруга скорбящих, пожалуйста не сердитесь на меня за такое длинное письмо и что отняла у вас столько времени на чтение, но если бы я написала все что мне пришлось терпеть пока мы с ним жили, то набралось бы на книгу и пожалуйста простите за некрасивые выражения потому что я хотела объяснить, что творится у меня дома. У каждой женщины должен быть свой дом, ведь правильно? Так что, Подруга скорбящих пожалуйста черкните в вашей статье несколько строк на счет моего письма, чтобы я догадалась, что вы мне помогаете. Пустить ли мне мужа обратно? И как мне вырастить моих детей. Заранее спасибо за все что вы мне посоветуете и остаюсь уважающая вас
Широкоплечая.
Пояснение. Уважаемая Подруга скорбящих, не думайте, что у меня широкие плечи. Это я так отношусь к жизни, то есть иначе сказать к себе.
Подруга скорбящих и калека
Подруга скорбящих избегал Бетти, потому что в ее обществе сам себе казался смешным. Он все еще развивал в себе смирение, и чем больше он опускался в насмешках над собой, тем легче ему это давалось. Звонила Бетти, он - нет, и после того, как он дважды не пожелал отзвонить ей, она оставила его в покое.
Как-то раз, примерно через неделю после возвращения в город, Голдсмит позвал его выпить. Он принял приглашение с таким смиренным видом, что Голдсмит испугался и чуть не повел его к врачу.
У Диленханти они увидели возле стойки Шрайка и присоединились к нему. Голдсмит пытался что-то шепнуть ему насчет состояния Подруги, но Шрайк был пьян и не слушал. До него дошла только часть сказанного Голдсмитом.
- Не могу с тобой согласиться, дражайший Голдсмит, - сказал Шрайк. - Не называй больными тех, кто хранит веру. Они суть здравы. Это ты больной.
Голдсмит не ответил, и Шрайк обратился к Подруге скорбящих:
- Так расскажи нам, брат, что вывело тебя на стезю веры? Музыка в церкви, или смерть любимой, или, может статься, мудрый старец-священник?
Привычные шутки больше не действовали на Подругу. Он улыбнулся Шрайку так, как должны улыбаться своим палачам святые мученики.
- Ах, как же я недогадлив, - продолжал Шрайк. - Ну конечно, - письма. Не сам ли я говорил, что Подруги скорбящих - жрецы Америки двадцатого века?
Голдсмит засмеялся, а Шрайк, чтобы рассмешить его еще, применил испытанный прием: прикинулся оскорбленным.
- Ты, Голдсмит, - гнусный продукт нашей эпохи неверия. Ты не способен веровать, ты способен только смеяться. Ты засеваешь духовную пашню солью разъедающего скепсиса и забываешь, что соль - враг огня, так же как и льда. Остерегись, ибо соль твоя - не аттическая соль, а английская. Она не укрепляет, а опустошает.
Бармен, стоявший рядом, выждав паузу, обратился к Подруге скорбящих:
- Извините, сэр, тут с вами хочет познакомиться один джентльмен, Дойл его фамилия. Он говорит, что вы знаете его жену.
Не дожидаясь ответа, он поманил кого-то из тех, кто стоял у другого конца стойки. Сигнал был принят маленьким калекой, который сразу направился к ним. Ковыляя, он делал много ненужных движений, как полураздавленное насекомое.
Бармен представил калеку как мистера Питера Дойла. Дойл был очень взволнован, всем по два раза пожал руки и широким жестом заказал виски на всех.
Прежде чем поднять бокал, Шрайк внимательно разглядел калеку. Закончив осмотр, он подмигнул Подруге и сказал:
- Ну, за человечность. - Он потрепал Дойла по спине. - Человечество, человечество… - Тут он со вздохом грустно покачал головой. - Что есть человек, который…
Бармен опять вмешался в интересах своего приятеля и попробовал перевести разговор на привычные рельсы:
- Мистер Дойл - инспектор по счетчикам в газовой компании.
- Отличная, должно быть, должность, - сказал Шрайк. - Я полагаю, что он может ознакомить нас с иной точкой зрения. Наш, журналистов, опыт во многом ограничен, и я хочу выслушать обе стороны.
Дойл, который смотрел на Подругу скорбящих, словно что-то отыскивая, теперь повернулся к Шрайку и сделал попытку ему угодить.
- Знаете, что люди говорят, мистер Шрайк?
- Нет, добрейший, - что же говорят люди?
- У всех теперь рефрижераторы, и мы, газовые контролеры, теперь вместо развозчиков льда в анекдотах. - И он, заметно робея, скорчил коварную рожу.
- Что? - рявкнул Шрайк. - Я вижу, сэр, вы не тот, кого мы искали. Вы ничего не можете знать о человечности; вы сами взываете к ней. Передаю вас Подруге скорбящих. - Он поманил Голдсмита и удалился.
Калека был смущен и рассержен.
- Ваш товарищ - ненормальный.
Подруга скорбящих все еще улыбался, но улыбка стала другой. Полной сочувствия и немного грустной. Новая улыбка предназначалась Дойлу, и калека это понял. Он благодарно улыбнулся в ответ.
- Да, забыл, - сказал Дойл, - жена просила, если на вас налечу, позвать к нам есть. Потому я и попросил Джейка нас познакомить.
Подруга был так занят своей улыбкой, что согласился, не подумав о вечере, проведенном с миссис Дойл. Калека был польщен и пожал ему руку в третий раз. Очевидно, это был у него единственный светский жест.
После нескольких рюмок Дойл сказал, что устал, и Подруга скорбящих предложил перейти в заднюю комнату. Они нашли свободный столик и сели друг против друга.
У калеки было очень странное лицо. Глаза располагались несимметрично, рот не под носом, лоб широкий и костистый, а круглый подбородок - как лоб в миниатюре. Он напоминал фотомонтаж-загадку из кинематографических журналов.
Они сидели, глядя друг на друга, покуда это напряженное безмолвное общение не взволновало их обоих. Дойл нерешительно и без нужды оправлял одежду. Подруге скорбящих улыбка давалась все с большим трудом.
Когда наконец калека заставил себя заговорить, Подруга ничего не понял. Несколько минут он внимательно слушал, но потом догадался, что Дойл и не пытается ничего изъяснить. У него рождались комья слов, существовавшие в нем как отдельные предметы - мешанина из дерзких ответов на оскорбления и проклятий судьбе, которые он на горьком опыте научился держать при себе.
Подруга скорбящих, как исповедник, слегка отвернул лицо. Он наблюдал за жизнью рук калеки. Сначала они не выражали ничего, кроме возбуждения, но постепенно становились все красноречивее. Они отставали, иллюстрируя тему, которую он уже изложил, или забегали вперед, поясняя то, о чем он говорить еще не начал. Вскоре речь сделалась более членораздельной, руки перестали помогать языку, а начали нырять в одежду и выныривать. Вдруг одна вынырнула из кармана с несколькими листками почтовой бумаги. Он сунул их Подруге скорбящих.
Уважаемая Подруга скорбящих, я так сказать стесняюсь писать вам, потому что я не такой человек, который клюет на эти штуки, но жена сказала, что вы мужчина, а не какая-нибудь курица и я, когда прочел ваш ответ Разочарованной решил вам написать. Мне 41 год и я калека, каковым являюсь всю мою жизнь но никогда не разрешал себе расстраиваться до последнего времени, когда мне стало погано, что ничего я хорошего не добился и спрашиваю, к чему это все. Вы образованный и я подумал, что может вы знаете. А я то хочу знать, почему я должен таскаться и лазить с моей ногой вверх и вниз по лестнице и записывать показания газовых счетчиков для компании за паршивых 22 доллара 50, когда хозяева катаются на шикарных машинах и катаются как сыр в масле. Не думайте что я красная сволочь. Я читал, в России стреляют калек, что они не трудоспособны, а я трудоспособней любого бродяги из парка и кормлю жену и ребенка. Но я не про это пишу. А хочу я знать на кой я таскаюсь с моей ногой по улицам и лазию по вонючим подвалам, когда она все время болит до одурения, а под конец дня я от боли прямо чумею, а домой придешь только и слышишь деньги, деньги что же это спрашивается за дом для такого как я. Я то хочу знать на кой же черт, изо дня в день карабкаешься и ползаешь с такой ногой ради три раза в день пожрать, когда она болит как зуб от такой работы. Доктор мне сказал, что надо дать ей полгода отдыха, но кто мне будет платить пока она отдыхает. Но я и не это хотел спросить, потому что вы наверно посоветуете мне сменить работу, а где я найду другую спасибо хоть эта есть? Я не на работу жалуюсь, а то хочу знать на кой вся эта тягомотина.
Пожалуйста не отвечайте мне в газете, потому что жена читает вашу писанину, и не надо ей знать, что я вам писал, а то я всегда говорил что газеты все брешут, но подумал, что может вы знаете раз вы прочли много книг, а я и школу не кончил.
Уважающий вас
Питер Дойл.
Пока Подруга скорбящих разбирал его каракули, влажная рука Дойла случайно прикоснулась под столом к его руке. Он отдернул руку, но тут же вернул ее назад и заставил себя схватить руку калеки. Дочитав письмо, он не отпустил ее, а продолжал держать, вкладывая в это всю любовь, на какую был способен. Сначала калека пытался скрыть смущение, сделав вид, что с его стороны это обычное рукопожатие, но потом успокоился, и они сидели молча, держась за руки.
Подруга скорбящих в гостях
Они вышли из пивной вместе, очень пьяные, погрузившись в раздумье: Дойл - о несправедливостях, которые ему пришлось претерпеть, Подруга - о всепобедительности своего смирения.
Поймали такси. Когда машина выехала на улицу, где жил Дойл, он начал проклинать свою жену и свою увечную ногу. Он призывал Христа изничтожить их обеих.
Подруга скорбящих был очень счастлив и про себя тоже взывал к Христу. Но его зов был не проклятьем, а выражением радости.
Такси остановилось у тротуара, Подруга помог спутнику вылезти и повел его в дом. В дверях квартиры они подняли сильный шум, и жена Дойла вышла в коридор. При виде ее калека снова начал браниться.
Она поздоровалась с Подругой скорбящих, затем схватила мужа и так тряхнула его, что он задохнулся. После чего она потащила его в комнату. Подруга скорбящих последовал за ними, и когда он проходил мимо нее в темной передней, она ткнула его в бок и рассмеялась.
Вымыв руки, они сели есть. Миссис Дойл приготовила ужин заранее и прислуживала им за столом. Первым делом она поставила на стол литровую бутылку красного вина.
Когда они принялись за кофе, она села рядом с Подругой скорбящих. Он чувствовал, как она жмет его коленкой под столом, но не обращал внимания, и блаженная улыбка сходила с его лица только в те секунды, когда он делал глоток.
От тяжелой пищи он осоловел и изо всех сил старался снова почувствовать то, что чувствовал в пивной, держа руку калеки.
Она просунула коленку под его бедро, но, не добившись и тут никакого отклика, внезапно встала и ушла в гостиную. Через несколько минут они отправились за ней и застали ее за приготовлением коктейлей из виски с имбирным пивом.
Пили молча. Дойл клевал носом, жена его тоже начала пьянеть. Подруга скорбящих не пытался поддержать светскую беседу. Он напряженно искал тему для послания. Когда он заговорит, это обязательно должно быть послание.
После третьего коктейля миссис Дойл начала открыто ему подмигивать, но Подруга скорбящих упорно не обращал на нее внимания. Дойла же эти знаки сильно беспокоили. Он стал ерзать и что- то бормотать вполголоса.
Невнятные звуки, издаваемые мужем, раздражали миссис Дойл.
- Ты чего там мямлишь? - грозно спросила она.
Калека хотел вздохнуть, но вздох перешел в стон, и тогда, словно устыдившись, он сказал:
- Ну не кот ли я, что привел жене мужика? - Он кинул быстрый взгляд на Подругу и виновато засмеялся.
Миссис Дойл рассвирепела. Она скатала газету и хлопнула ею мужа по губам. К ее удивлению, Дойл стал дурачиться. Он зарычал, как собака, и схватил газету зубами. Когда же она выпустила свой конец, он стал на четвереньки и продолжал представление на полу.
Подруга скорбящих хотел поднять калеку на ноги, нагнулся, но тот вдруг дернул его за ширинку, ширинка распахнулась, и Дойл лег кверху лапами, умирая от смеха.
Жена дала ему пинка и, презрительно фыркнув, отвернулась.
Когда Дойл насмеялся вволю, они снова сели за стол. Дойл с женой глядели друг на друга, а он снова стал обдумывать послание.
Молчание тяготило миссис Дойл. Наконец, не выдержав, она встала и пошла к буфету, налить еще по одной. Но бутылка была пуста. Миссис Дойл попросила мужа сходить в угловую аптеку за джином. Он отказался, решительно мотнув головой.
Она стала его уговаривать. Он не слушал, и она потеряла терпение.
- Иди за джином! - взвизгнула она. - Иди за джином, скотина!
Подруга скорбящих встал. Он еще не придумал послания, но
надо было что-то сказать.
- Пожалуйста, не деритесь, - попросил он. - Муж вас любит, миссис Дойл; вот почему он так себя ведет. Будьте добры к нему.
Она раздраженно буркнула и вышла из комнаты. Они услышали, как она гремит посудой на кухне.
Подруга скорбящих подошел к калеке и улыбнулся ему той улыбкой, какую применил в пивной. Калека улыбнулся в ответ и сунул руку. Подруга сжал ее, и так, улыбаясь и держась за руки, они стояли, пока не вошла миссис Дойл.
- Ну что за милая парочка, - сказала она.
Дойл отнял руку и замахнулся на жену. Подруга понял, что настал час выступить с посланием. Теперь или никогда.
- У вас большое сильное тело, миссис Дойл. Сжав мужа в объятиях, вы можете согреть его и вселить в него жизнь. Вы можете растопить лед в его костях. Он влачит свои дни в проулках и подвалах, под тяжким бременем усталости и боли. Вы можете заменить это бремя мечтой о вас. Бодрящей мечтой, которая возбудит его, как динамо. Вы можете добиться этого, позволив ему завоевать вас в постели. И вам воздастся, ибо он расцветет и преисполнится к вам страстью…
Она была настолько изумлена, что даже не рассмеялась, а калека отвернулся, как бы в смущении.
С первых слов подруга понял, что будет смешно. Избегая Бога, он не мог черпать силу в своем сердце и просто сочинил еще одну статейку для газеты.
Он попробовал еще раз - ударившись в истерику.
- Христос есть любовь, - закричал он. Крик был театральный, но он продолжал: - Христос - это черный плод, висящий на крестном дереве. Человек погиб, вкусив искусительный плод. Он спасется, вкушая спасительный плод. Черный Христоплод, любовный плод…
На этот раз он потерпел еще более жалкое фиаско. Пустословие Подруги скорбящих сменил на пустословие Шрайка. Он чувствовал себя как пустая бутылка, сухая и блестящая.
Он зажмурился. Когда он услышал слова калеки: «Я люблю тебя, я люблю тебя», он открыл глаза и увидел, что Дойл ее целует. Ясно было, что калека делает это не под влиянием его проповеди, а из вежливости.
- Ладно, псих, - сказала она мужу с царственным видом. - Я тебя прощаю, только сбегай за джином.
Не взглянув на Подругу скорбящих, Дойл взял шляпу и вышел. Когда дверь за ним закрылась, миссис Дойл с улыбкой сказала:
- Ну, ты уморил - с расстегнутой-то ширинкой. Я думала, сдохну от смеха.
Он не ответил.
- Видал - ревнивый? - продолжала она. - Ему только покажи мужика побольше: «Ой, вот бы с кем закрутить». Так он прямо бесится.
Она говорила тихо и хрипло, и ясно было, что она его соблазняет. Когда она подошла к приемнику, чтобы найти джаз, она вильнула ему задом, как флагом.
Он сказал, что устал и танцевать не хочет. Сделав перед ним несколько непристойных па, она села к нему на колени. Он пытался ее оттолкнуть, но она присосалась к его рту раскрытыми губами, а когда он отвернулся, стала тереться носом о его щеку. Он чувствовал себя как пустая бутылка, медленно наполняющаяся теплой грязной водой.
Когда она расстегнула ворот платья и попыталась засунуть туда его голову, он резко развел колени и скинул ее на пол. Она попыталась стянуть его за собой. Он ударил, не глядя, и попал ей в лицо. Она закричала, он ударил еще раз и еще. Бил ее, пока она не отпустила, и тогда он бросился вон.
Подруга скорбящих идет на вечеринку
Подруга скорбящих снова слег в постель. На этот раз она его определенно вывезла - и с большой скоростью. Надо было только ехать спокойно. Он ехал уже третьи сутки.
Прежде чем подняться на борт, он подготовился к дороге - заглушил звонок телефона и купил несколько громадных жестянок с крекерами. Теперь он лежал в постели, грыз крекеры, пил воду и курил сигареты.
Он думал о том, как он спокоен. Покой был таким глубоким, что Подруга не мог нарушить его даже тем, что сознавал его. За три дня он далеко уехал. В комнате темнело. Он слез с кровати, почистил зубы, помочился, потом выключил свет и уснул. Он уснул без единого вздоха, уснул сном мудрых и безгрешных. Но в сновидении возникали светляки и колыхание океанов.
Потом поезд подъехал к станции, где он был лежащей статуей с остановившимися часами в руке, карета въехала во двор трактира, где он сидел с гитарой, положив перед собой перевернутую шапку и стряхивая дождь с горба.
Сон перешел в явь. Шум обоих приездов скомбинировался: стучали в дверь. Подруга скорбящих вылез из постели. Он был нагишом, но пошел открывать, не одевшись. Ворвались пять человек, двое из них женщины. Увидев его голым, женщины запищали и выскочили в коридор.
Трое мужчин не отступили. В одном Подруга узнал Шрайка и заметил, что тот, как и остальные, очень пьян. Шрайк сказал, что одна из женщин его жена, и хотел драться с Подругой скорбящих, ибо он ее оскорбил.
Подруга скорбящих тихо стоял посреди комнаты. Шрайк ринулся на него, но откатился, как откатывается от древней скалы, отшлифованной опытом, водяной вал. Второго вала не было.
Напротив, Шрайк сделался веселым. Он хлопнул Подругу по спине.
- Надевай штаны, друг мой, - сказал он, - мы идем на вечеринку.
Подруга скорбящих взял жестянку с крекерами.
- Давай же, сын мой, - не отставал Шрайк. - Кто пьет в одиночку, становится пьяницей.
Подруга скорбящих внимательно оглядывал каждый крекер перед тем, как сунуть его в рот.
- Не порть людям веселья, - сказал Шрайк, раздражаясь. Он был чайкой, пытавшейся отложить яйцо на гладком склоне скалы, - крикливой, неуклюжей чайкой. - Мы хотим сыграть в игру, но без тебя не можем. «Каждый - Подруга себе скорбящему». Я ее изобрел, но без тебя ничего не получится.
Шрайк вытащил из карманов толстую пачку писем и помахал перед ним. Подруга узнал их; письма были из его редакционной папки.
Скала осталась невозмутимой. Хотя Подруга скорбящих не сомневался, что она выдержит любое испытание, ему хотелось, чтобы ее проверили. Он стал одеваться.
Спустились на улицу и вшестером залезли в одно такси. Мери Шрайк села к нему на колени, но, несмотря на ее пьяное ерзанье, скала осталась неприступной.
Вечеринка происходила у Шрайка. При появлении Подруги скорбящих гости загалдели и накатились на него толпой. Он стоял непоколебимо, и они отхлынули бессильным бурунчиком. Он улыбался. Он отразил более дюжины пьяных. Отразил без усилия, не задумавшись. Пока он стоял и улыбался, из общей зыби выползла маленькая волна и заплескалась у его ног, прося внимания. Это была Бетти.
- Что с тобой? - спросила она. - Опять заболел?
Он не ответил.
Когда все сели, Шрайк приготовился начать игру. Он роздал карандаши и бумагу, потом вывел Подругу скорбящих на середину комнаты и начал трепаться.
- Дамы и господа, - сказал он, подражая речи и жестам циркового зазывалы. - Сегодня среди нас человек, которого все мы знаем и почитаем. Подруга скорбящих, певчее сердце, сугубо раздувшийся Муссолини души!
Он пришел сегодня, чтобы помочь вам в ваших моральных и духовных затруднениях, чтобы дать вам лозунг, программу, категорический императив и raison d'etre[1].
Некоторые из вас, возможно, поставили на себе крест и не уповают более на помощь. Вы боитесь, что даже Подруге скорбящих, как бы ни был яр его факел, не удастся вас воспламенить. Боитесь, что даже в его жарком пламени вы будете только тлеть и плохо пахнуть. Не падайте духом - ибо я знаю, что гореть вам огнем. Победа будет за Подругой скорбящих.
Шрайк поднял пачку писем и помахал над головой.
- Начнем по порядку, - объявил он. - Сперва каждый из вас постарается как можно лучше ответить на одно из этих писем; затем по вашим ответам Подруга скорбящих поставит вам моральный диагноз. После чего он поведет вас путем утоления.
Шрайк обошел гостей, раздавая письма, как фокусник - карты. Он без умолку трещал и прежде чем отдать письмо, зачитывал из него отрывок.
- Вот это - от старухи, у которой на прошлой неделе умер сын. Ей семьдесят, живет продажей карандашей. Не имеет чулок и ходит в тяжелых ботинках, ноги болят и кровоточат. Гноятся глаза. Найдется для нее уголок в вашем сердце?
А это люкс. Мальчик мечтает о скрипке. Казалось бы, просто: купить ему, и дело с концом. Но тут оказывается, что письмо писала под его диктовку сестренка. Он парализован и даже не может сам есть. У него игрушечная скрипка, и он прижимает ее к груди, изображая ее звук губами. Какая трогательная картина! Однако из этой притчи можно извлечь очень много. Надпишите на мальчике Труд, на скрипке - Капитал и т. д.
Подруга скорбящих стоял безмятежно; его это даже не интересовало. Скале не интересно, что творится в море.
Шрайк роздал все письма и последнее вручил Подруге скорбящих. Тот взял, подержал немного и, не прочтя, уронил на пол.
Шрайк не умолкал ни на секунду:
- Вы погружаетесь в мир несчастья и страдания, населенный существами, чуждыми всем, кроме болезни и полисмена. Подверженные первой, они повержены последним…
Боль, боль, боль, тупая, неотвязная, гложущая, боль, непроходящий мозоль ума и сердца. Боль, которую может утолить лишь великий духовный бальзам…
Заметив, что Бетти уходит, Подруга скорбящих отправился следом. Пусть она тоже увидит, в какую он превратился скалу.
Шрайк не замечал его отсутствия, пока не увидел письмо на полу. Он поднял его, поискал глазами Подругу и снова обратился к собранию.
- Учитель исчез, - объявил он, - но не отчаивайтесь. Я с вами. Я его апостол, и я поведу вас путем утоления. Прежде всего позвольте огласить письмо, адресованное лично учителю.
Он вынул письмо из конверта так, словно не читал его раньше, и начал: «Что же ты паскуда такая? Я прихожу с джином, а жена плачет на полу, и в квартире полно соседей. Она сказала, что ты хотел ее изнасиловать, паскуда, и они хотели звать полицию, но я сказал, что сам с тобой рассчитаюсь…»
Ай-яй-яй, я не в силах повторять эти грубости. Я опускаю брань и иду дальше. «Так вот к чему были все твои красивые речи, падла, тебе за это башку оторвать мало». Подписано: «Дойл».
Так, так, учитель, оказывается, - новый Распутин. Как это подтачивает веру! Но я не могу этого допустить. Этого быть не может. Учитель не способен творить неправду. Моя вера непоколебима. Это всего лишь очередная вылазка дьявола против него. Он всю жизнь сражался за нас с архиврагом, и он восторжествует. То есть Подруга скорбящих, а не дьявол.
Евангелие от Шрайка. Позвольте мне рассказать его жизнь. Она разворачивается передо мной как свиток. Сперва на заре детства, лучась невинностью, как омытая дождем звезда, он - удрученный паломник в Университет Полновесных Палок. И вот уже юношей он выскакивает в ночь из постели своей первой проститутки. А затем Подруга скорбящих - муж - доблестно бьется за воплощение высокого идеала, и путь его устремлен к славной цели. Но, увы, холодом и презрением встречает его мир, громоздя на его пути препятствие за препятствием; мнит он, близка уже цель, но «Стой!» велит громовой голос. «Пусть каменья преткновенья будут мне ступенями, - думает он. - Все выше, и выше, и выше». И с исступлением по ступеням взбирается вверх и подгоняет себя, завороженный священным огнем. И вот…
Подруга скорбящих и нарядное платье
Выйдя из квартиры Шрайка, Подруга скорбящих нагнал Бетти в коридоре, где она ждала лифта. На ней было голубое платье, почти вечернее. Она нарядилась неспроста, понял он.
Это растрогало даже скалу. Нет, не скалу. Скала была по-пре- жнему неприступна. Растрогало его разум - инструмент, при помощи которого он познавал скалу.
Он подошел к Бетти с улыбкой, ибо его разум был свободен и чист. То, что загрязняло его, выпало в осадок и стало скалой.
Но Бетти не улыбнулась в ответ.
- Что ты ухмыляешься? - сердито спросила она.
- Извини. Я просто так.
Они вошли в кабину лифта. На улице он взял ее под руку, хотя она вырывалась.
- Давай пойдем пить газировку? - предложил он. Нарядное платье дало его упростившемуся разуму ключ, и он с удовольствием разыгрывал этот «спор мальчика с девочкой».
- Нет. Я иду домой.
- Да брось, - сказал он и потянул ее к киоску. Она шла, незаметно для себя утрируя манеру «девочки в нарядном платье».
Взяли клубничную. Потягивая через соломинку розовую жидкость, он улыбался, она дулась, и оба не сознавали, что очень милы.
- Почему ты злишься, Бетти? Я ничего не сделал. Затея была Шрайка, он один и болтал.
- Потому что ты дурак.
- Я покончил с Подругой скорбящих. Почти неделю не был в редакции.
- И что собираешься делать?
- Попробую устроиться в рекламное агентство.
Это не было намеренной ложью. Он просто пытался сказать то, что она хотела услышать. Нарядное платье было такое веселое и симпатичное: голубое с пенным кружевным воротником в розовых искорках - как воротник ее газировки.
- Поговори насчет работы с Биллом Уилрайтом. У него агентство… и человек приятный. Влюблен в меня.
- Работать на конкурента?
Она наморщила нос, и оба рассмеялись.
Он еще смеялся, когда почувствовал, что с ее смехом что-то неладно. Она плакала.
Он потянулся к скале. Скала была на месте; ни смех, ни слезы ее не трогали. Дождь и ветер ей нипочем.
- Ох… - всхлипнула Бетти. - Дура я. - И выбежала на улицу.
Он тоже выскочил и поймал ее. Но она рыдала все громче, он остановил такси и заставил ее сесть.
Она заговорила сквозь слезы. Она беременна. У нее будет ребенок.
Он выставил скалу вперед и с полным самообладанием ждал, когда Бетти перестанет плакать. Наконец она затихла, и он предложил ей пожениться.
- Нет, - сказала она. - Я сделаю аборт.
- Пожалуйста, выйди за меня замуж. - Он упрашивал ее так, как упрашивал перед этим пойти пить газировку.
Он упрашивал нарядное платье пожениться и говорил все, что оно надеялось услышать, все, что полагалось к клубничной газировке и фермам в Коннектикуте. И был таким, каким его хотело видеть нарядное платье: простым и нежным, остроумным и поэтичным, капельку студентом, но очень мужественным.
К тому времени, как такси остановилось у ее дома, они обсуждали жизнь после женитьбы. Где будут жить и сколько у них будет комнат. Могут ли позволить себе ребенка. Как отстроят ферму в Коннектикуте. Какую мебель они больше любят.
Она согласилась родить ребенка. На этом он настоял. Он, со своей стороны, согласился поговорить о работе с Биллом Уилрай- том. Заливаясь смехом, они решили поставить в спальне три кровати. Пару для сна - очень строгих и пуританских, а между ними любовное ложе - вычурную двойную кровать с купидонами, нимфами и Панами.
Они не испытывал чувства вины. Он вообще не испытывал чувств. Скала была окаменелостью его чувств, его совести, его восприятия, его самопознания. Он мог строить любые планы. Замок в Испании и любовь на балконе или на пиратском бриге, любовь на тропическом острове.
Когда ее дверь закрылась за ним, он улыбнулся. Скала подверглась всестороннему испытанию и показала себя безупречно. Оставалось только снова подняться на борт постели.
Обращение подруги скорбящих
После долгой ночи и утра, к полудню, Подруга скорбящих с радостью ощутил приближение лихорадки. Она обещала жар и умственно немотивированное буйство. Обещанное не заставило себя ждать; скала превратилась в топку.
Он устремил взгляд на Христа, прибитого к стене в ногах кровати. У него на глазах Христос превратился в яркую мушку, вертевшуюся стремительно и грациозно на фоне кровавого бархата, нашпигованного звездочками-нервами.
Все остальное в комнате было мертво - стулья, стол, карандаши, одежда, книги. Этот черный мир вещей представлялся ему рыбой. И недаром - ибо мир вдруг устремился к яркой наживке на стене. Он всплыл во всплеске музыки, показав серебристое светлое брюхо.
Христос есть жизнь и свет.
- Христос! Христос! - Крик отдался в самых глубинных клетках тела.
Он переместил голову на прохладный край подушки, и вена на его лбу немного опала. Он ощущал в себе чистоту и свежесть. Его сердце было розой и череп - тоже розой, распускавшейся.
Комната наполнилась благодатью. Нежной, чистой благодатью, не отмытой добела, а чистой, как внутренности внутренних лепестков насильственно раскрытого бутона.
И комната наполнилась радостью. Наполнилась, как ласковым ветерком, и ветерок колыхал его нервы, как голубые цветочки на лугу.
Он ощущал в себе два ритма, медленно сливавшиеся в один. Когда они слились, его отождествление с Богом было завершено. Его сердце стало единым сердцем, сердцем Бога. И мозг тоже стал божьим.
Бог сказал:
- Теперь приемлешь?
И он ответил:
- Приемлю, приемлю.
Он сразу начал планировать новую жизнь и свое поведение в качестве Подруги скорбящих. Он представил тезисы своих статей Богу, и Бог их утвердил. Бог утвердил каждую его мысль.
Вдруг позвонили снизу. Он вылез из постели и вышел в коридор, посмотреть, кто там. Это был калека Дойл, он медленно карабкался по лестнице.
Бог послал его, чтобы Подруга скорбящих сотворил чудо и уверился в своем обращении. Это знамение. Он обнимет калеку, и калека будет исцелен, как исцелился он сам, духовный калека.
Он кинулся вниз по лестнице навстречу Дойлу, распростерши руки для чуда.
Дойл нес газетный сверток. Увидев Подругу скорбящих, он сунул руку в сверток и замер. Он выкрикнул какое-то предостережение, но Подругу это не остановило. Он не понял выкрик калеки и услышал в нем призыв Отчаявшейся, Гарольда С., Матери-католички, Убитой горем, Широкоплечей, Нет Мочи, Разочарованной-с-мужем-туберкулезником. Он бежал выручать их любовью.
Калека пустился наутек, но ему не хватало быстроты, и Подруга скорбящих настиг его.
Пока они возились, в подъезд с улицы вошла Бетти. Она крикнула им, чтобы они прекратили, и стала подниматься. Видя, что путь отступления отрезан, калека решил избавиться от свертка. Он вынул из газеты руку. Пистолет в газете выстрелил, и Подруга скорбящих упал, таща за собой Дойла. Они вместе прокатились по ступеням.