Книга: Наваждение
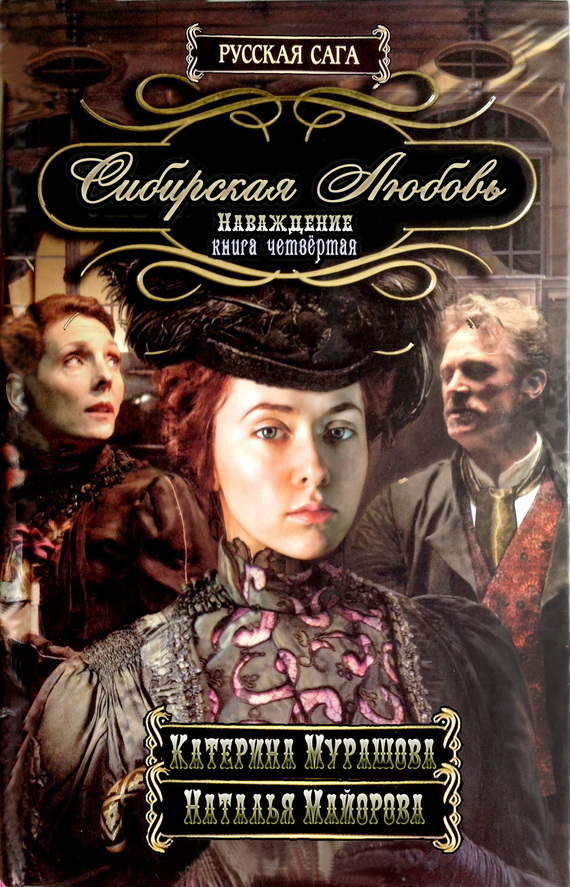
Екатерина Мурашова, Наталья Майорова
Наваждение
Лондон, 1897 год от Р. Х.
– Итак, Алекс, вы таки пригласили сюда этого монструозного славянина.
Сэр Эндрю Бичем – крупный, болезненного вида джентльмен лет пятидесяти, с длинными ухоженными седыми усами – вздохнул, демонстрируя покорность судьбе, сложил газету и откинулся на спинку кресла.
Его собеседник с довольным видом ухмыльнулся. Он был относительно молод, чрезвычайно худ и всем своим видом являл воплощенную иронию (или – ехидство, как утверждало большинство его знакомых). Любимым развлечением лорда Александера Лири, третьего сына герцога Уэстонского, было коллекционирование человеческих экземпляров – необычных, парадоксальных или просто смешных, и он никак не мог пожаловаться на то, что его коллекция пополняется медленно.
– Двоих, обратите внимание! И оба – граждане мира. Как вы думаете, почему именно славянам свойственен этот болезненный космополитизм?
– Вот уж не только, – брезгливо буркнул маленький, желчный барон Голденвейзер; он вечно мерз и теперь сидел вплотную к камину, явно борясь с желанием просунуть ноги сквозь решетку, – а французы?
Несмотря на фамилию – или благодаря оной – барон был отчаянным патриотом, до кончиков ногтей полным островного снобизма.
– О, французы – совсем другое. Они всегда точно знают, чего хотят. А русские, поляки и прочие славяне… и, в частности, вот этот конкретный господин Сазонофф, – хотел бы я знать, какова его фамилия и откуда он родом на самом деле!.. – так вот, славяне – это чистая стихия. За что я их и люблю.
Сэр Эндрю фыркнул в усы. Барон, скривившись, придвинулся еще ближе к огню. Четвертый участник беседы, м-р Хаттон – коренастый, румяный, ярко выраженной сангвинической наружности, – поднял глаза от альбома гравюр, посвященных лисьей охоте, и с широкой улыбкой посмотрел на лорда Александера.
– Что предлагаете сделать и нам, – констатировал он. – Полюбить их. Причем исключительно априори, положившись на одно ваше знаменитое чутье… Алекс, – он продолжал улыбаться, но взгляд сделался цепким и пристальным, – вы знаете, что я готов иметь дело с кем угодно. С китайцами, лапландцами и аборигенами Огненной Земли. Если вы мне скажете, что дело верное, я вложу деньги в прокладку железной дороги для торговли с эльфами. Так что – дело верное?
Сэр Эндрю приподнял руку от подлокотника и сделал движение пальцами, словно стряхивая с них невидимый мусор. Жест был адресован лорду Александеру, но, увы, пропал зря – поскольку лорд как раз в этот момент отвернулся к высокому окну, в строгой раме шоколадно-коричневых штор, за которым сгущались промозглые декабрьские сумерки.
Ветер и дождь… Как и всегда на Рождество. Снегопад под звон рождественских колокольчиков – явление в Англии чисто литературное. Вот в России, там – не колокольчики, а колокола, и не снегопад, а… как это? Буран! И – болота на сотни миль, под которыми, оказывается, лежит золото.
Неужели и правда лежит? Или нет?..
– У меня есть опыт общения со славянами. Конкретно, с русскими, – морщась от отвращения, взялся рассказывать барон. – Представьте: к вам является некто с чрезвычайно выгодным, как он уверяет, предложением. И битый час толкует о своем тяжелом детстве и несчастной любви. А когда вы робко намекаете, что пора бы перейти к делу – внезапно звереет и бросается вас душить!.. Нет, Алекс, я не вызвал полицию. Проявил гуманность. Он оказался вдребезги пьян… каким образом?! Бутылка виски стояла далеко, и он не прерывал монолога!
Скрипучий голос барона утонул в хохоте м-ра Хаттона, к которому с удовольствием присоединился и Лири. Только сэр Эндрю с неопределенным видом покусывал ус – но и он, кажется, вовсе не собирался сетовать на то, что обсуждение серьезной сделки превращается в занятную беседу, абсолютно ни к чему не обязывающую. Во-первых – так было принято в уютных стенах клуба, который с легкой руки того же лорда Александера никто не именовал иначе как клуб Чепухи. Во-вторых, пресловутые славяне еще не прибыли… и прибудут ли? Ну, на это еще можно надеяться: ведь всем известно, что представители этой вальяжной нации просто по определению не способны нигде появиться вовремя.
– Судя по тому, что представляет собой мистер Сазонофф внешне, трудное детство его тоже не миновало, – смеясь, заявил лорд Александер, – но, уверяю вас: когда надо, он превосходно умеет говорить кратко и по существу.
– Он ужасен, – отрезал сэр Эндрю. – А этот второй? Явный сумасшедший или шарлатан. Впрочем, они оба шарлатаны.
– Что, он тоже вызывает духов? На манер этой знаменитой особы… как бишь ее, – барон Голденвейзер щелкнул языком, будто припоминая (на самом деле он слегка кривил душой, ибо довольно близко знал в свое время мадам Блаватскую и даже имел с ней общий бизнес), – и в его кабинете тоже стоит шкафчик с двойными стенками?
– Возможно, стоял бы – имейся у него кабинет, – сказал Лири. – Но мистер Ачарья Даса исповедует принцип улитки: omnia mea mecum porto.
– Ачарья Даса? – Хаттон весело вздернул бровь. – Неплохо! Главное – в духе времени. Скажу вам, джентльмены, что не удивлюсь, если очень скоро, придя в Сити, застану всех поголовно клерков сидящими в позе лотоса!
Он снова захохотал. Лорд же Александер на сей раз лишь мягко улыбнулся:
– Боюсь, Генри, все это серьезнее, чем вам кажется.
– Что именно? Поза лотоса или золото в Сибири?
– И то, и другое.
– В самом деле, Алекс? – сэр Эндрю выпятил губу и дернул себя за ус. – Вы, значит, тоже уверовали, что мы все живем по указке гималайских засушенных мудрецов? Этот самый Ачарья так на вас подействовал? Да он опасный тип!
– Еще какой опасный, – охотно подтвердил Лири, – некоторые вещи, что он проделывает… Пожалуй, не буду рассказывать на ночь. Впрочем, не беспокойтесь: Сазонофф крепко держит его в руках. И не позволит нас обидеть.
– Один медведь держит другого, – хмыкнул сэр Эндрю, а Хаттон попросил:
– Пожалуй, все-таки расскажите.
– Лично меня, – заявил барон, мрачно глядя, как моргает в камине гаснущее пламя, – гораздо больше волнует второй вопрос. Так есть там золото или нет? Это ваш славянский индус нагадал, что – есть? А как насчет доказательств?
– Помилуй Бог, – протянул Хаттон, слегка понижая свой жизнерадостный голос, – вам, по большому-то счету, не все ли равно?
– Не все. Я хочу знать, есть ли там реальное золото. От этого многое зависит.
– Что зависит? Барон, это же Россия! Та самая, с трудным детством и несчастной любовью. У них не сегодня – завтра начнется революция, и мы…
– Ну, нет, – решительно перебил лорд Александер, – никаких революций ни сегодня, ни завтра. Вот вернусь из Сибири…
– А, – сэр Эндрю снова потянул себя за ус, изображая приятное удивление, – так вы, значит, едете в Сибирь?
– Мы с мистером Сазонофф едем в Сибирь. Вернее, – на длинной физиономии Лири вспыхнула неотразимая улыбка, – поедем, если мы сегодня договоримся. Без вас я не справлюсь.
– А разве мы еще не договорились? – удивленно осведомился Хаттон.
Барон, отвернувшись от огня, устремил на лорда Александера вопрошающий взгляд. Он таки намерен был получить ответ насчет золота.
Ответ последовал:
– Мистер Ачарья Даса, барон, долго служил в армии. И, как все военные, чрезвычайно предусмотрителен. Так что доказательства есть. Но, к сожалению, – пауза и короткий обескураженный вздох, – есть еще и конкуренты.
– Конкуренты? Откуда?
– Из России, разумеется. Кое-кто в Петербурге намерен сам добывать сибирское реальное золото… Впрочем, эти трудности я беру на себя. Концессию мы получим. Главное, вы ведь понимаете, джентльмены – то, что будет здесь! Барон, в этом деле вы полезнее нас всех, вместе взятых.
Барон Голденвейзер прикрыл тяжелые черепашьи веки. Он прекрасно знал, что так и есть. Слова Лири – отнюдь не грубая лесть, а простая констатация факта. Ну, что ж… Компанию следует назвать просто и солидно. Скажем… какая там река, Ишим, кажется? Приятно звучит – почти по-английски. Ишимское золото. Или как-то еще в этом роде…
– Акции, – пробормотал Хаттон, – много-много акций…
Сдержанный кашель сэра Эндрю заглушил и его бормотанье, и мягкий стук открывшейся двери. В клубной библиотеке появились новые лица. Те самые славянские гости, которые – надо же! – все-таки прибыли, опоздав всего-то часа на полтора. Лорд Александер поднялся, с довольной улыбкой глядя, как Сазонофф неторопливо озирается в дверях, заслоняя спутника – человека тоже не мелкого, но за его громоздкой фигурой пропадающего совершенно. Увы, джентльмены, весело подумал Лири, вам придется долго терпеть этого монструозного славянина. Потому что я намерен продолжать с ним знакомство, невзирая на успех нашей концессии… Такими людьми, знаете, не бросаются!
М-р Генри Хаттон, славившийся острым глазом, приглядывался к вновь прибывшим, пытаясь – ради поддержания реноме – определить их национальную принадлежность. Русские?.. Хм! Как ни удивительно – вполне сойдут за англичан, особенно этот большой, с мрачной тяжелой физиономией. Выговор безупречен… вернее, это – выговор кокни, играющего в аристократа, или наоборот, но уж никак не иностранца! Хаттон тут же сочинил ему такую историю: мальчик из хорошей семьи, в ранней юности сбежавший из дома за приключениями – юнгой на корабль… жизнь, разумеется, проехалась по нему всласть, но, кажется, он до сих пор не наигрался. Угодно выдавать себя за славянина? Ради Бога!
Вот второй – тот да, наверняка. Болгарин или поляк, а еще точнее – серб. Огненный глаз и горбоносый профиль… в сочетании с индусской йогической худобой вполне впечатляет. Из-за такой вот экзотики сошел с ума когда-то милорд Байрон, и понесло его к черту на рога, в Митилены… Для Хаттона же господа с подобным типом внешности всегда ассоциировались с арабскими жеребцами – и, право, с последними дело иметь куда приятнее… да и безопаснее, пожалуй.
Впрочем, безопасностью никоим образом не пахло и от мистера Сазонофф. Да ее – в связи с предстоящей сделкой – никто и не обещал!
– Насчет Алтайской концессии мне все более или менее ясно. А вот насчет Ишима все-таки желательно узнать поподробнее: как это в болотах может быть золото?
Сказано было, разумеется, бароном Голденвейзером – уже за столом, в уютном уголке обеденной залы. Резная ширма красного дерева отделяла его от возможных назойливых глаз. Кажется – какие могут быть назойливые глаза в клубе, отбор в который проводится куда тщательнее, чем в парламент? Но если вы желаете, чтобы члены вашего клуба сделались вашими акционерами… В этом случае им, пожалуй, ни к чему знать, с кем вы делите поздний обед!
Легкомысленный мальчишка, брюзгливо подумал сэр Эндрю о лорде Александере. Что – не было других мест для переговоров? Нет, вот нравится ему этот бессмысленный детский риск! И в Сибири поведет себя так же.
– Почему бы вам, Генри, не поехать в Сибирь? – он поднес к губам бокал, глядя сквозь светлое вино отнюдь не на Хаттона, а на мистера Сазонофф, который с безмятежным видом рассматривал узоры на черенке вилки. Как бы не стащил, подумал сэр Эндрю слегка озабоченно. Ему, в отличие от Хаттона, никогда не являлись в голову романтические истории в духе г-жи Войнич. А уж тем более – на предмет этого субъекта…
– Делать вам всем там нечего, – заявил субъект, – если вы, конечно, не специалисты по рудному делу. Нет? Вот и мы тоже. Так что про золото на Ишиме ничего не можем вам сказать, кроме честного слова мистера Ачарья Даса. Его слово, конечно, чего-то стоит. У них ведь так: соврешь – в будущей жизни станешь лягушкой или кем похуже. А на Алтае, конечно, и золото, и медь – все есть. Это вы у кого хочешь разузнать можете, – Сазонофф взглянул за окно с таким видом, как будто бы именно сейчас там, по улице Лондона, в кэбе проезжали осведомленные об алтайских рудниках люди.
М-р Ачарья Даса молча вежливо улыбнулся. Он вообще предпочитал помалкивать. Сэр Эндрю подумал: сил, что ли, нет на разговоры? Оно конечно, если питаться одним шпинатом…
– Лягушкой в сибирских болотах? – фыркнул барон. – Нет уж. Я должен знать, во что вкладываю деньги. И как именно вкладываю. Покупка концессии на Алтае, арендных прав на Ишиме, взятки этому князю и российским чиновникам, закупка оборудования… вы же понимаете!
– Резонно, – отрываясь от жареного цыпленка, заметил лорд Александер. – Однако в России и в самом деле ни к чему толпиться, вполне хватит меня и еще доверенного человека от вас, барон. У вас ведь уже есть кто-нибудь на примете?
Тут м-р Ачарья Даса, опровергая соображения сэра Эндрю о шпинате, наконец заговорил:
– Оборудование понадобится безусловно, – голос у него был низкий, акцент – мягкий, чуть пришепетывающий (определенно серб, подумал Хаттон). – В этих болотах не просто золото, там – громадные залежи, ждущие разработки. Недавно построенная железная дорога. Энергичные, но дикие, сами недавно от сохи или тачки предприниматели. И нищее население, которому абсолютно некуда себя деть. Вы сделаете доброе дело, джентльмены, вложив деньги в подъем Сибири…
Джентльмены, включая мистера Сазонофф, обескуражено переглянулись.
В которой Софья Павловна Домогатская наследует публичный дом и дауненка Джонни
– От чего она умерла? Когда? Отчего я не знала?!
Софи Домогатская – высокая, худощавая женщина, с темно русыми волосами, уложенными в почти растрепавшуюся нынче прическу – быстро бегала по комнате, нервно заламывая руки.
Помощник известного в городе нотариуса, лысый и немолодой, пытался следить глазами за ее передвижениями, но терпел неудачу. Весь облик его удивительным образом напоминал мутный стеклянный графин для воды, из тех, что случаются в присутственных местах: короткие толстые ноги, тяжелые и широкие бедра, странно узкие и длинные грудь и шея – горлышко графина. Теперь пробка-голова чиновника проворно крутилась со слышимым скрежетом, но визави все время ускользала от его взгляда. Отчаявшись достичь желаемого, помощник нотариуса самочинно присел к столу, разложил бумаги и осмотрел покои, в которых оказался.
Все в них говорило о небрежном достатке. На обстановке, обивке стен, мебели и прочих аксессуарах не экономили, но и не выбирали любовно, учитывая оттенки и стили. В комнате было чисто и прибрано, но вместе с тем она имела какой-то слегка нежилой вид, как будто хозяева заходят сюда лишь время от времени. По очевидной цене истраченных материалов, все было слишком просто. Замысловатые золоченые часы с кузнецами и наковальней, стоящие на полке бюро, смотрелись диковиной, доставшейся по наследству или по пустому случаю купленной на распродаже описанного за долги имущества.
– Да говорите же! – Софи остановилась, завернула на палец выбившийся из прически локон, сильно дернула книзу. – Что вы молчите?!
Ее требовательно-гневный взгляд буквально сверлил гостя. Нотариус пожал узкими плечами и неторопливо подтянул к себе одну из бумаг: гнев Софи его нимало не впечатлил. За свою долгую и не слишком удачную служебную карьеру ему приходилось видеть всякое.
– Анна Сергеевна Востокова, пятидесяти одного года, скончалась февраля третьего числа, сего года от… согласно заключению докторов, от двухсторонней пневмонии.
– Она долго болела? Почему она не послала за мной? – спросила Софи, в голосе ее слышалась сдерживаемая боль.
«Интересно, кем же ей приходилась покойница? – с невольным интересом подумал нотариус. – В бумагах ничего нет. Только имя и адрес. Но что их могло связывать?»
Он вспомнил покойную Анну Сергеевну: широкое, скуластое, очень смуглое лицо, темные, с обильной сединой волосы, узкие, поднятые к вискам глаза. Отчетливый восточный, даже азиатский тип. А эта… Лицо, в котором с первого взгляда, не смотря в бумаги, определишь породу. Не юница, но и еще отнюдь не стара. Можно было бы назвать красивой, если бы не какое-то излишество в оттенках: слишком темно-красные, почти хищные губы, слишком глубокие, темно-серые, да еще подведенные коричневыми тенями глаза, слишком белая, почти неживая кожа. И движения: порывистые, с каким-то тревожным стеклянным сквозняком внутри. Наблюдая за ней, возникало впечатление, что при неосторожном обращении о хозяйку квартиры можно порезаться. До крови.
«Во всяком случае – пикантно. Да. Именно так. Пикантно!» – решил нотариус. Именно так он и скажет о ней за чаем Савелию Сидоровичу, старому и проверенному сослуживцу.
– Что до продолжительности печальной болезни, и нежелания вас позвать, про это я вам, сударыня Софья Павловна, сказать ничего не могу, потому как не ведаю. Однако последние распоряжения, а также завещание Анны Сергеевны мне известны как раз досконально. И поскольку они до вас напрямую касаются…
– Неужели Саджун что-то завещала мне? – с искренним удивлением спросила Домогатская. – Или просила передать?
– Простите? – не понял служащий.
Софи тоскливо сморщилась и потерла пальцами глаза. Потом снизошла до объяснений.
– Саджун – таким было настоящее имя Анны Сергеевны. Его мало кто знал, но я называла ее именно так.
– Ну разумеется, – помощник нотариуса позволил себе улыбнуться краешком губ. – У этих азиатов безумные имена, прямо как собачьи клички. Неудивительно, что в Петербурге она взяла себе нормальное имя.
– Позвольте предположить, что для слуха жителя Азии русское имя Пульхерия Спиридоновна Одуванчикова тоже будет звучать… гм… не слишком благозвучно, – парировала Софи.
Покойную матушку нотариуса звали как раз Пульхерия, и он обиделся.
– Ну так что же Саджун? – поторопила гостя Софи, не обратившая совершенно никакого внимания на его обиду. – Что она велела мне передать? Говорите скорее!
«Торопливость, как говорят, уместна только при ловле блох, – ядовито подумал чиновник, снова неторопливо погружаясь в лежащие перед ним бумаги. – Если ты ничего не ждешь от этой Саджун, а все говорит именно за это, то тебя ждут интересные новости. И пикантные… да, да, пикантные!» – он внутренне захихикал.
– Все дело в том, госпожа Домогатская, что Анна Сергеевна Востокова оставила завещание на ваше имя…
– На мое имя?! Почему? И… и что же она мне завещала?
– В первую и в основную очередь – свой гадательный салон «Персиковая ветвь», если вы, конечно, осведомлены о существовании такого заведения… Если нет, так преинтересное, скажу я вам, местечко… Впрочем, особнячок в центре города, в личной собственности, интерьеры в хорошем состоянии, все налоги уплачены. Недурственное приобретение, скажу я вам, недурственное. Правда, служащие…
Софи Домогатская остановилась напротив помощника нотариуса и испытующе и недоверчиво поглядела на него. Он сделал серьезное лицо и сжал губы куриной попкой. Тогда удивительные глаза Домогатской еще расширились, заняв едва ли не пол лица. Потом одновременно на глазах появились слезы, а на губах – горькая, саркастическая улыбка. Чиновник заворожено наблюдал за происходящими на лице клиентки метаморфозами и одновременно подбирал описания этого для Савелия Сидоровича.
– Так, значит, Саджун, умирая, завещала мне свой публичный дом? Вот это номер! – сказала наконец столбовая дворянка Софья Павловна Домогатская и хрипло расхохоталась. По лицу ее текли слезы.
Петр Николаевич Безбородко вошел в квартиру, оставил пальто и шляпу на руках служанки, и начал стаскивать перчатки с узких запястий. В светлой остроконечной бородке ощутительно таяли, превращаясь в капельки воды, снежинки.
Софи в своей обычной, порывистой манере выбежала в прихожую ему навстречу.
– Пьер, здравствуй! Я так рада… – пробормотала она.
Однако Петр Николаевич мгновенно заметил и излишний излом рук и покрасневшие от слез глаза. Воспитание и природный темперамент не позволили ему задавать жене вопросы в прихожей. Если это до него касается, то он обо всем узнает в свой черед. А если нет, так что ж…
– И я тоже, я тоже, Софи… Там нынче такая метель… Да… Сейчас на лестнице, едва ли не у дверей квартиры встретил гусеобразного субъекта совершенно судейского, крючкотвористого вида. Решил, что ко мне, что-нибудь по поводу имения или налогов, и даже остановился, давая ему возможность обратиться. Однако, так и простоял, как дурак…
– Это нотариус, Пьер. Он приходил ко мне. Представляешь, Анна Сергеевна умерла от пневмонии!
– Анна Сергеевна?
– Ну, это светское имя Саджун, подруги Туманова. Помнишь, я рассказывала тебе?
– Ах, Саджун… – Петр Николаевич нахмурился. Его высокий, с небольшими залысинами лоб собрался в широкие светлые морщины. – Что ж, мне жаль. Она, кажется, была еще не очень старая женщина… Но почему крючкотворец приходил к тебе? Она оставила в твой адрес какие-то распоряжения?
– Да, Пьер, – Софи на мгновение опустила глаза, но тут же снова вздернула подбородок, и во взгляде ее мелькнул совершенно вроде бы неуместный по обстоятельствам вызов. – Саджун завещала мне свое заведение вместе со всем имуществом.
– Как?! Тебе? Но это же невозможно!
– Возможно и соответствующим образом оформлено.
– Откажись! Откажись немедля!
– Я подумаю об этом, Пьер, – медленно и тяжело сказала Софи, темным взглядом утопая в светлых, растерянных глазах мужа.
– О чем тут думать?!
– Особнячок почти в центре Петербурга недешево стоит. Восточный стиль интерьеров внутри… Я помню, там много всего интересного и ценного. И, в конце концов, люди, которые целиком и полностью зависели от Саджун…
– Софи! Опомнись! Ты собираешься принять участие в судьбе проституток?! Не довольно ли тебе уже… Дети… Сколько лет… – Петр Николаевич все более волновался и от волнения прогрессивно терял дар речи.
– Дети! – глаза Софи вдруг расширились до просто-таки жутковатого, явно нездорового состояния. – Как же я могла забыть! Джонни! Как же он?!.. Эй! Эй! Постойте! – Софи, ломая ногти об запоры, распахнула дверь, и, как была, в платье и атласных туфельках, выбежала на лестницу. – Эй! Как вас там?… Пафнутий Мефодьевич!.. Мефодий Ильич!.. Илья Акакиевич! Да стойте же вы!..
Петр Николаевич прошел к окну в первую из анфилады комнат, нервно стащил-таки с рук перчатки и швырнул их на широкий, низкий подоконник. Сверху, со второго этажа, ему было хорошо видно, как Софи выскочила из парадной, пробежала, утопая по щиколотку, по глубокому снегу (февральская метель наметала быстрее, чем дворник успевал убрать), выбежала за чугунные, решетчатые ворота и буквально за руку схватила нотариуса, уже садящегося в сани. Облаченный в шубу графин ошеломленно смотрел на раздетую женщину, вертел пробкой в разные стороны, бросал отчаянные взгляды на дворника, словно ожидая от него помощи, явно предполагал нехорошее и пытался вырваться.
– Послушайте, я должна вас спросить, Акакий Мефодьевич!
– Илья Пафнутьевич, к вашим услугам.
– Простите, Илья Пафнутьевич. У Саджун остался сын, мальчик Джонни. Он… он болен. Что сейчас с ним?
– А… этот идиот… но вы же простудитесь, Софья Павловна! Я должен немедленно…
– Прекратите! Что с Джонни?!
– Он же совсем невменяемый, этот урод, вы же знаете, наверное. С ним пытались говорить, но он никого не подпускает, ревет, брыкается…
– Джонни боится и совсем не переносит мужчин. Его так растили. Из соображений безопасности. Где он?
– Там же пока. В заведении. Сидит в комнате, где умерла мать, с одной из девок. Она как-то его кормит. В ближайшее время, я думаю, будет принято соответствующее решение и его заберут в дом призрения для подобных ему уродов. Прости, Господи, за грехи наши! – нотариус мелко перекрестился несколько раз, как будто бы опасаясь побега мелкого зверька у себя из-за пазухи.
Не прощаясь, Софи отвернулась от Ильи Пафнутьевича и побежала назад, стараясь наступать в свои же, уже протоптанные следы. Нотариус и дородный дворник с номерной бляхой на груди провожали ее ошеломленными взглядами.
– Вот напасть-то! – пробормотал Илья Пафнутьевич и, подумав еще, довольно усмехнулся. Сегодня ему будет что рассказать Савелию Сидоровичу!
– Я еду туда! – с порога заявила Софи. – Фрося, подай мне пальто и капор.
– Куда?! Погоди, Софи! Ты что, внезапно сошла с ума? – возмутился возвратившийся в прихожую Петр Николаевич. – После этой твоей выходки тебе, чтобы не заболеть, нужно немедленно принять горячую ванну и лечь в постель. Ты никуда не поедешь!
– Да-а? – Софи, чуть прищурившись, взглянула на мужа.
Он опустил глаза. Никогда, никогда за все почти уже десять лет супружеской жизни Петр Николаевич не решался отчетливо и до конца проговорить себе, что значит этот взгляд и это «да-а?» в ответ на его пожелания, просьбы, приказы… «Я сам и мое мнение совершенно ничего для нее не значат… Нет! Об этом думать нельзя! Иначе…»
– Погоди, Пьер, не злись, я сейчас объясню, пока одеваюсь… Фрося, ну давай же, не тяни кота за хвост!.. Джонни десять лет. Он сын Саджун. Он болен от рождения, это называется Дауна болезнь. У него слабоумие, это так, но Саджун много с ним занималась, он может говорить, понимать, и любить тоже может и хочет. Ему сейчас так плохо и страшно, что и вообразить нельзя. Он же, наверное, даже не понимает, что произошло. Ему никто не объяснил, потому что с ним говорить можно только тогда, когда он не боится. Меня Джонни знает, я сумею его успокоить. Саджун оставила мне все, значит, она полагала, что я позабочусь о Джонни…
– Господи! – прошептал Петр Николаевич, обхватывая голову ладонями. – А отец? У этого Джонни есть отец?
– Нет. Его отец… Его отец был иностранцем. Он уехал из России и… и умер. Так что у Джонни теперь никого нет, кроме меня…
– Софи! Что это значит? Ты и вправду обезумела? Что ты говоришь? Ты хочешь немедленно поехать в публичный дом и забрать оттуда полоумного урода, оставшегося сиротой? А что дальше, позволь узнать?
– А дальше я отвезу его в Люблино, найму ему няньку из тамошних крестьян. И будет жить, сколько проживет. Доктор сказал Саджун, что у Джонни больное сердце, да и вообще эти дети долго не живут. К сожалению.
– К сожалению?! – вскричал Петр Николаевич, окончательно выведенный из себя абсурдностью ситуации.
По сравнению с намерением жены немедленно усыновить слабоумного ребенка, которого он никогда не видел, новость с наследством как-то сама собой отошла на второй план, но никуда при этом не исчезла…
– Софи…
– Я поехала, Пьер. Жди меня здесь. Если можешь, извести Викентьева и второго, нового управляющего с фабрики, что у меня изменились обстоятельства и я уезжаю в Люблино. Хорошо было бы, если б мне удалось переговорить с ними до отъезда… И… не волнуйся. Ничего страшного не произошло… Ты увидишь, несмотря ни на что Джонни вполне можно полюбить. Он очень привязчивый…
– Софи, я еду с тобой! – решительно сказал Петр Николаевич, снова одеваясь. – Ты не поедешь туда одна!
– Очень хорошо, твоя поддержка может мне понадобиться, – Софи, уже одетая, привстала на цыпочки и поцеловала мужа в висок. – Я знала, что ты поймешь. Ты – чудесный. Я обожаю тебя…
– Но что скажет матушка? – спросил Петр Николаевич, когда супруги уже погрузились в стоящую на полозьях карету и прикрыли ноги одной меховой полостью на двоих. – Вряд ли она…
– О, да! – согласилась Софи, улыбнувшись краешком губ. – Мария Симеоновна молчать не станет! Что-то меня ждет…
В просторной гостиной добротного и славно отремонтированного помещичьего дома разыгрывалась хорошо известная немая сцена из гоголевской комедии «Ревизор».
После слов Софи: «Я привезла вам Джонни. Он будет здесь жить.» – все присутствующие молчали как бы уже не пять минут.
В процессе того дородная старуха в темно синем шлафроке медленно опустилась в кресло, однако не бессильно и расслабленно, в глубь и обиженную истому, а присела на краешек, как бы собирая в комок гнев и ярость для последующей атаки.
Высокий, толстый и вообще очень крупный для своих лет мальчик недовольно хмурился. Его малорослая в сравнении с ним и субтильная сестра быстро-быстро моргала круглыми, светлыми глазами.
Петр Николаевич стоял у входа в гостиную с независимым видом, скрестив руки на груди и словно говоря: «А я тут, знаете ли, ну совершенно не при чем!»
Одна из двух присутствующих в комнате служанок растерянно крестилась. Другая держала в руках поднос с напитками. Руки девушки мелко дрожали и фужеры однообразно и раздражающе, как-то по-комариному звенели. Прилизанный лакей пожилого гостя Марии Симеоновны застыл у стола чурбан-чурбаном, да так и стоял, раскрыв рот. Сам гость, стараясь остаться или хоть казаться невозмутимым, набивал трубку.
Софи, струной вытянувшись во весь свой немаленький рост, стояла посреди гостиной, спиной прижимая к себе очень странного (и это мягко сказать!) ребенка. Свои руки она положила мальчику на плечи, и, если бы кто его спросил, он мог бы удостоверить, что руки эти совершенно не дрожат. На обычно подвижном лице Софи застыло безмерно удивляющее всех присутствующих выражение угрюмого и какого-то окончательного покоя.
Ребенок, которого Софи представила домашним как Джонни, выглядел действительно престранно, если не сказать устрашающе. Очень маленького роста (куда меньше младшей его девочки), с короткими ногами и руками, толстым задом и уродливой, сужающейся к темени головой. Рот его был полуоткрыт, как будто бы чрезмерно крупный язык не помещался в нем. Глазки, напротив, были маленькими, узенькими и близко посаженными. Переносица широкая и слегка вдавленная внутрь. Жиденькие каштановые волосики стояли дыбом. Самым, пожалуй, ужасающим оставалось то, что это существо, несмотря на не закрывающийся рот и дрожащие (от ужаса?) губы, явно пыталось мило улыбнуться присутствующим, обнажая плохие зубы.
– Господи, да что же это?! – не выдержала наконец одна из служанок.
– Мама, это дурная шутка, – низким, но звучным голосом сказал мальчик. – Отвези этого урода обратно, туда, где ты его взяла.
– Это не шутка, Павлуша, – произнесла Софи голосом, до странности напоминающим голос сына. – Джонни останется здесь и будет жить с вами.
– Я не хочу! – голос мальчика сорвался. – Мы все не хотим! Бабушка, скажи ей!
– Софи, мне кажется, что это действительно переходит всякие границы. Может быть, ты, наконец, объяснишься? Петя, что происходит? Ты знаешь?
Петр Николаевич пожал плечами, поднял светлые брови и переступил с ноги на ногу. Казалось, еще немного и он примется беззаботно насвистывать. Мария Симеоновна снова перевела тяжелый взгляд на Софи.
– Джонни – сын моей… моей давней подруги, – негромко сказала Софи. – Она скончалась от пневмонии, и у мальчика больше никого в целом свете не осталось. Я решила взять его к себе. Это не благотворительность. Подруга отписала мне все свое имущество.
– Ах, вот как? – Мария Симеоновна взглянула на невестку без прежнего брезгливого недоумения. – И что же она тебе оставила?
– Драгоценности. Ценные бумаги. Небольшой, но прекрасно обставленный и отделанный особнячок почти в самом центре Петербурга, – дипломатично сообщила Софи, не вдаваясь в подробности. Петр Николаевич закатил глаза, но мать больше не глядела в его сторону.
– Что ж, неплохо, неплохо, – еще подумав, согласилась Мария Симеоновна. – За такое наследство можно и приглядеть сиротку, как бы странно он ни смотрелся… А он не опасен, Софи? Не станет бросаться? Не покусает детей, прислугу?
– Джонни совершенно безопасен. Он не любит и опасается мужчин, так как его с младенчества окружали одни женщины, а в целом весьма добродушен и эмоционален. Очень любит животных. Мы привезли с собой его любимого кота и попугая, он никак не соглашался с ними расстаться…
Мария Симеоновна огляделась, а потом зачем-то заглянула под кресло, словно ожидая увидеть там упомянутого кота или даже попугая.
– Кот и попугай пока на кухне. Поскольку они всегда жили вместе, то дружат между собой. Это весьма забавно, вы увидите… Джонни может говорить и многое понимает. Говорить ему слегка мешает язык, но вы скоро научитесь понимать его…
– Но зачем, мама?! – снова заговорил Павлуша. – Я не могу разобрать: зачем нам учиться понимать этого урода? Если уж нельзя иначе, и ему действительно некуда деваться, так давай отдадим его в какую-нибудь крестьянскую семью и станем платить им деньги за уход. Хотя вообще-то… Все это экономически нерационально. Общество тратит средства на их содержание, но не получает ничего взамен. В древней Спарте таких бросали со скалы в пропасть сразу после рождения. И, по-моему, совершенно правильно делали…
– Павлуша! – предупреждающе воскликнула Мария Симеоновна. – Мы живем в цивилизованном обществе.
– А кто же будет решать, драгоценный мой? – старенький гость изумленно поднял редкие брови.
Одна из служанок снова перекрестилась, а другая наконец-то поставила поднос с напитками на стол. Петр Николаевич шагнул к нему, взял бокал и сразу же отпил половину. Гость Марии Симеоновны последовал его примеру.
– В цивилизованном обществе надо назначать специальную комиссию, – авторитетно разъяснил Павлуша. – Чтобы в ней были врачи, кто-то от судейских, просто умные люди…
– Да что ты городишь?! – взорвался Петр Николаевич. – Ты сам-то себя слышишь или нет?! Как умный порядочный человек возьмет на себя право решать: этому жить, а этому не жить?!
– Да, это проблема, – покладисто согласился мальчик. – Очень серьезная. Но ее следует решать, если это ваше цивилизованное общество хочет…
– А Джонни – это по-русски Ваня, да? – неожиданно для всех вступила в разговор младшая сестра Павлуши.
– Да, Милочка, – ответила Софи. – Джон это по-русски – Иван.
Крестильное имя Милочки было Мария (в честь Марии Симеоновны. Небольшой, но вполне успешный подхалимаж со стороны Софи), но все с самого раннего возраста называли ее Милочкой.
Она и вправду была мила – светлое, хрупкое, тоненькое, довольно длинненькое создание, чем-то похожее на выцветшего кузнечика или маленького богомола. Сходство усиливалось тем, что, прося или убеждая в чем-то собеседника, Милочка любила умоляюще складывать у груди длинные, узкие в запястьях ручки (в этих случаях всегда так и хотелось сказать: передние лапки).
Еще Милочка всегда, всех и даже все жалела. Жалела не только обиженного в процессе игры сверстника, умершего старичка-соседа, больную собаку, зарезанного петуха или корову, у которой отобрали теленка, не только воробьев с подбитым крылышком или котенка со сломанной лапкой (все это вместе и врозь было бы совершенно естественным для девочки ее возраста и эмоционального устройства). Объектами ее слезливой и отчаянной жалости могли внезапно и неожиданно для окружавших Милочку людей делаться вещи и вовсе несусветные.
Так, например, однажды, в возрасте около шести лет, она нашла выброшенный в свалку старый норковый палантин, принадлежавший когда-то Марии Симеоновне. После этого он много лет пролежал в сундуке на чердаке и был почти начисто съеден молью. Обнаружив палантин, Милочка некоторое время внимательно смотрела на тускло-серую рухлядь и глаза ее медленно наливались слезами. Потом она внезапно упала на старую, затхлую от пыли вещь и зарыдала, словно мать над трупом только что скончавшегося младенца.
Ничего не понимающая нянька, которая гуляла с ней, попыталась было утешить девочку, но все ее попытки были напрасны. Вскоре над икающей от горя и нервного истощения Милочкой собрались все домашние.
– Что? Что случилось? В чем дело? Кто тебя обидел? Что у тебя болит? – сыпались вопросы.
Девочка не отвечала. Когда все уже почти отчаялись что-нибудь узнать и подумывали послать за доктором, Милочка вдруг взяла себя в руки и заговорила:
– Она… эта шубка… Чтобы ее сделать, убили так много маленьких хорошеньких зверьков. Они жили в своем лесу и любили его темно-зеленый кров, и ручьи, и папоротники, и своих деток… А потом шубка так верно служила вам… грела, когда холодно… в нее прятали ручки, шею, носик… И всем она нравилась, ею восхищались, говорили: Ах, как изящно! А потом она стала старая и немодная, и ее сунули в сундук. А там темно и страшно, и холодно зимой, и никто не приходил… И так много лет… Только моль ее ела, и ей было больно от этого. Вот если бы от вас откусывали вот так, по кусочку, много-много лет… И еще обидно, что с нею так… Ведь она никогда никого не предала, и отдавала свое тепло… А вы ее выброси-или, как будто бы ничего этого не было, и это для вас ничегошеньки не значит…
Собравшиеся над Милочкой взрослые люди ошеломленно переглядывались. По румяным щекам няньки текли крупные слезы. Пятнадцатилетняя дочка кухарки рыдала в голос, одновременно пытаясь вытащить из под Милочки палантин и отряхнуть его от пыли и шкурок молиных личинок. Первой пришла в себя Мария Симеоновна.
– Милочка, девочка моя, но это просто какая-то чушь! – решительно заявила она. – Все в мире имеет свой срок. Для всего и для всех есть время молодости и надежд, есть время зрелости, и есть старость и дряхлость, когда милосердие Господа позволяет и людям и вещам уйти из этого мира… Все в свое время оказывается на свалке и в этом, поверь, нет ничего ужасного. Гораздо ужаснее, когда то, чему место уж давно там, продолжает жить и коптить небо…
– Значит, когда вы, бабушка, умрете, вас тоже… на свалку? – икнув, спросила Милочка.
– Да, на свалку! – безжалостно ответила Мария Симеоновна. – Как только придет время.
Она всегда считала, что воспитание детей должно быть жестким и честным, а сюсюканья и прочих сентиментальностей не должно быть совсем. Может быть, поэтому ее единственный сын Петя с детства и по сей день писал стихи.
Милочка затравленно огляделась. Софи, стоя вполоборота к происходящему, судорожно кусала губы, чтобы не расхохотаться. Милочка неправильно истолковала ее гримасу, кинулась к матери и зарылась в ее юбки с воплем:
– Мамочка! Не бойся! Я никогда, никогда тебя на свалку не отдам!!!
– Ну, разумеется, разумеется, моя хорошая, – подтвердила Софи, гладя девочку по голове и делая страшные гримасы Петру Николаевичу. – Все так и будет, как ты говоришь. Мы и бабушку на свалку не отдадим. Что за ерунда? Когда придет время, похороним ее в красивом глазетовом гробу с кружавчиками и рюшечками, с золотым вензелем на крышке, и много-много белых цветов положим, чтобы красиво было. И оркестр позовем, музыка будет играть, громкая, как она любит. И шубку эту твою тоже сейчас похороним, а Фома вон ей на дудочке сыграет…
– Фиглярка! – прошипела Мария Симеоновна и удалилась.
Милочка постепенно успокаивалась.
Уже после случая с палантином домашним запомнился эпизод, когда Милочка пожалела закопченную прохудившуюся трубу от парового котла, упросила дворника ее не выбрасывать, и взяла трубу «к себе жить», уверяя окружающих, что она теперь будет играть в шахтеров, а труба будет шахтой, куда куклы-шахтеры станут лазить. Как именно складывалась прошлая жизнь трубы в Милочкином понимании, никто, во избежании излишних расстройств, уточнить не решился. Отобрать у девочки ужасную вещь тоже не рискнули.
При всем при том Милочка вовсе не была глупой. В свои восемь лет она охотно и самостоятельно читала детские книжки, унаследовала чутье Софи к слову и иногда поражала окружающих ее людей оригинальностью и меткостью внезапных оценок.
Теперь Милочка стояла, накрутив на палец прядь светлых вьющихся волос (в этом жесте все тоже узнавали Софи, хотя в целом Милочка была больше похожа на Петю), и явно раздумывала над тем, какова степень покинутости и жалкости странного и малопривлекательного на вид мальчика Джонни. Если рассудить по существу, степень получалась просто ужасающе огромной.
Софи внимательно наблюдала за дочерью, испытывая некоторое (весьма, впрочем, слабое) чувство неловкости перед ней.
– Иванушка!! – взвыла Милочка, срываясь с места, подбегая к мальчику и обхватывая его руками за шею.
Софи благоразумно отошла назад, а несчастный дауненок присел и зажмурился от испуга.
– Иванушка! – причитала Милочка. – Ты только ничего не бойся. Тут тебя никто не обидит. Я тебе все свои игрушки покажу, и насовсем подарю, что ты захочешь. И играть с тобой буду, и разговаривать, если, мама говорит, ты умеешь. И Павлушу не бойся. Он не злой вообще-то, просто… казенный такой (Петр Николаевич поднял бровь, услыхав это определение, а Софи одобрительно улыбнулась). Он в игрушки мало играл, и газеты читает, потому у него душа немного по циркуляру устроилась… Но ты, Иванушка, его не бойся, я тебя от него всегда защитю…
Павлуша презрительно фыркнул.
Софи облегченно вздохнула: дочь определенно оправдала ее ожидания и точно сыграла просчитанную для нее роль.
– Надо будет подыскать для него няньку, – вслух сказала Софи, обращаясь к Марии Симеоновне. – Из тех, которые поумнее и не брезгливые.
– Моя тетка согласилась бы, если барыня изволит, – быстро сказала та служанка, которая все крестилась. – У нее у самой в молодости был ребеночек такой… убогенький… Помер потом, все говорили: «Слава Богу», а она, сердечная, так убивалась…
– Прекрасный случай! – обрадовалась Софи. – Значит, твоя тетка и уход за такими детьми знает, и полюбить Джонни сможет… Где она живет? В деревне?
– В Неплюевке, Софья Павловна, семь верст отсюда.
– Так поезжай же за ней сейчас. Если согласится, пусть едет прямо с вещами.
Мария Симеоновна заползла задом поглубже в кресло и сидела, нахмурившись, сплетая и расплетая унизанные крупными перстнями пальцы.
– Как тут у вас однако… оживленно… – решил привлечь ее внимание гость-старичок.
– Н-да, – согласилась Мария Симеоновна. – С такою невесткой не соскучишься.
Милочка между тем сумела как-то уговорить Джонни и увела его к себе, наверх. По выстеленной ковром лестнице Джонни поднимался с трудом, сопя и цепляясь обеими короткими ручками за перила. Милочка шла рядом и сочувственно вздыхала.
В светлой, просторной комнате Милочки мальчик огляделся, слегка задержав взгляд на прислоненной к стене трубе от парового котла. По-видимому, даже его слабые мозги как-то осознали неуместность присутствия этого предмета в детской.
– Вот, гляди, Иванушка, – воодушевлено объясняла девочка. – Ты, значит, Джонни, а я (девочка ткнула себя пальчиком в грудь) – Милочка. Запомнил? Ми-лоч-ка! Меня вообще-то Марией зовут, но все так называют. Вот как ты: Джонни, а по-русски – Ваня. Понимаешь?
– Джонни. Ваня. Милочка, – вполне внятно, куда-то подобрав язык, сказал мальчик. Милочка в восторге захлопала в ладоши. Джонни улыбнулся ей и спросил. – А «урод» – это тоже я?
Милочка присела и зажмурилась, как будто кто-то ударил ее в грудь. Потом выпрямилась, подошла к Джонни, обняла его и решительно прижала к своему плечу уродливую голову мальчика.
– Ты не урод. Ты – Джонни или Иванушка, – твердо сказала она. – А теперь давай игрушки смотреть. Ты что любишь: куклы или солдатиков? У меня и то, и другое есть, потому что Павлуше дарили, а ему – не надо.
Которую читатель, знакомый с предыдущими тремя книгами о приключениях Софи Домогатской, вполне может пропустить, поскольку в ней излагается краткое содержание этих приключений, а также приводится полный список действующих и действовавших ранее героев
В 1882 году в Петербурге, запутавшись в долгах, застрелился потомственный дворянин Павел Петрович Домогатский. Его вдова Наталия Андреевна осталась одна, имея на руках шестерых детей, по старшинству: Софи, Гришу, Аннет, Ирен, Сережу и Алешу. Имение и петербургскую квартиру на Пантелеймоновской улице пришлось продать, чтобы расплатиться с долгами. Чтобы хоть как-то удержаться на плаву и прокормить детей, Наталия Андреевна решает устроить брак старшей дочери, шестнадцатилетней Софи, с другом семьи – пятидесятитрехлетним Ираклием Георгиевичем. Однако, Софи вовсе не согласна быть жертвой, и выходить замуж по маменькиному расчету. Тем более, что ее сердце, как она полагает, уже занято. Уже несколько месяцев она ужасно влюблена в Сержа Дубравина, который выдает себя за богатого московского дворянина. На самом деле Серж – мелкий мошенник, мещанин из Инзы, провернувший в Москве некую аферу, и сбежавший в столицу с деньгами компаньонов. Но компаньоны отыскивают сбежавшего Дубравина в Петербурге и угрожают убить. Опасаясь разоблачения и смерти, Серж тайком едет в Сибирь вместе со своим камердинером Никанором. Накануне отъезда между ним и Софи происходит решительное объяснение. Серж сообщает Софи, что он ее не любит и советует выбросить всю эту историю из головы. Однако Софи ему не верит, полагая, что таким способом он благородно оберегает ее от каких-то свалившихся на него самого неприятностей. Горничная Софи Вера вступает в связь с Никанором и хорошо осведомлена обо всех планах хозяина и слуги. Заняв деньги у своего учителя математики, Софи едет в Сибирь вслед за Сержем. Вместе с нею отправляются Вера и Эжен Рассен, француз, гувернер братьев Софи Сережи и Алеши.
В дороге Эжен Рассен тяжело заболевает и умирает на руках у Софи. Общение с ним производит на Софи огромное впечатление, в каком-то смысле инициирует ее умственную и эмоциональную жизнь. Именно Эжен Рассен становится ее первой настоящей любовью. Но ни он, ни она об этом не подозревают.
Приблизительно в это же время в Сибири, в маленьком городке Егорьевске, насчитывающем всего полторы тысячи жителей, местный золотопромышленник Иван Парфенович Гордеев после сердечного приступа узнает, что он болен аневризмой и может умереть в любую минуту. Гордеев вдовец и имеет двоих законнорожденных детей. Сыну Пете 28 лет, он пьяница и охотник, а более никаких интересов у него нет. Дочке Машеньке 23 года, она хромоножка, затворница и подумывает о монастыре. В том ее горячо поддерживает незамужняя сестра Ивана Парфеновича, Марфа Парфеновна, которая вот уже много лет, после смерти Марии, жены Ивана, ведет дом брата. Фактически обстоятельства складываются так, что Гордееву не на кого оставить прииски и прочее нажитое в течение его жизни хозяйство.
Иван Гордеев задумывает хитрый план и пишет письмо в Петербург, своему приятелю. В письма Иван просит петербургского конфидента отыскать ему хорошего происхождения и воспитания, но небогатого человека, который имел бы хоть какое-то образование, подходящее к горному делу, и открыто предложить ему следующее: место управляющего на приисках, а в дальнейшем, после смерти Гордеева, все хозяйство в собственность. Условие одно: немедленная женитьба на хромоногой Машеньке.
Желающий находится. Им оказывается бедный и романтически настроенный дворянин Митя Опалинский, только что окончивший курс и выучившийся на горного инженера. С рекомендательным письмом к Гордееву, медальоном с портретом Машеньки, будущей невесты и жены, и напутствиями маменьки-вдовы Митя едет в Сибирь.
Случай сводит его в одной карете с Сержем Дубравиным. По пути Митя рассказывает Сержу обо всех своих планах, расчетах и надеждах, кроме, конечно, будущей женитьбы по уговору. В этой же карете, под охраной двоих казаков, везут деньги на прииск. В полутора десятках верст от Егорьевска на карету нападают разбойники из местной шайки Климентия Воропаева, забирают все деньги и убивают кучера, казаков и их случайных попутчиков. Никанор уходит в тайгу вместе с разбойниками. Спустя некоторое время контуженный Серж приходит в себя. Он обнаруживает пропажу всех своих денег, находит рядом с собой мертвого Митю и, поколебавшись, забирает у него документы и рекомендательное письмо к Ивану Гордееву.
Явившись в Егорьевск, Серж Дубравин выдает себя за Дмитрия Опалинского, а свои собственные документы сдает в полицию, сообщая о погибшем попутчике. Гордеев рад приезду будущего зятя и охотно знакомит его с делами. На прииске «Мария» имеется свой инженер – Матвей Александрович Печинога, странных привычек и уродливый внешне человек, самоед-полукровка, но при том прекрасный специалист. Не будучи осведомленным о матримониальных планах Гордеева, Матвей Александрович полагает, что место управляющего на приисках – по праву его, так как в приишимской тайге никто лучше его не разбирается в горном деле. С людьми честнейший Матвей Александрович ладить не умеет, но полагает это неважным. Приисковые бабы считают Матвея Александровича чертом и уверены в том, что у него нет души. Матвей Александрович сразу, из дела, понимает, что с новым якобы инженером что-то не так, но из своих моральных принципов не доносит о том Гордееву.
Местные обыватели в восторге от Дубравина-Опалинского. Он мил, общителен и приударяет за всеми егорьевскими барышнями сразу. Гордеев по этому поводу недоумевает, но решает выждать, полагая, что это такая особая столичная манера ухаживать. Тем временем хроменькая Машенька Гордеева действительно и от всей души влюбляется в лже-инженера. Он тоже все более симпатизирует ей, но решительного объяснения между ними так и не происходит. Серж вместе с Гордеевым уезжают в Екатеринбург для получения прибывшего из-за границы оборудования.
В это время в Егорьевск прибывает Софи Домогатская вместе с Верой. Почти сразу по приезде она узнает о гибели Сержа Дубравина в тайге от рук разбойников (разумеется, никто не может сообщить ей о том, что Серж на самом деле жив, а погибший – Митя Опалинский). Отчаявшуюся от потерь Софи приютили Златовратские, семья начальника местного училища, состоящая, кроме отца семейства Левонтия Макаровича, из матери – Леокардии Власьевны и троих дочерей – Аглаи, Наденьки и Любочки. Семья вполне образованная и в родстве с Гордеевыми. Леокардия (Каденька, как называют ее родные), приходилась младшей сестрой умершей жене Гордеева Марии, и Иван Парфенович фактически вырастил ее. Все Златовратские имеют свои интересы. Левонтий Макарович интересуется почти исключительно римским правом, Каденька – женским равноправием, и держит амбулаторию для бедных, Наденька тоже увлекается медициной (в основном, народной), Аглая мечтает о женихах, а Любочка тайно влюблена в Николашу Полушкина, старшего сына местного подрядчика.
Николаша Полушкин тоже имеет свою историю. Его мать, юная московская дворянка Евпраксия Александровна забеременела вне брака от кого-то из придворных. Чтобы скрыть позор, ее срочно выдали замуж в Сибирь за давно влюбленного в нее подрядчика. Родившийся Николаша носит фамилию мужа матери, но мезальянс и доселе заметен всем и каждому невооруженным глазом. Николашу Евпраксия Александровна обожает, а младшего сына Васю, напротив, почти не замечает. Между тем Николаша – оболтус и бездельник, приятель Пети Гордеева, а Вася серьезно увлечен наукой и мечтает об учебе в Петербурге. Впрочем, отец даже слышать об этом не хочет и вразумляет Васю с помощью оглобли. Разгадав многое в замысле Ивана Гордеева чутьем природной интриганки, Евпраксия Александровна предлагает драгоценному Николаше свой план, который позволит им обоим вырваться из Сибири и устроиться в столице. Он должен жениться на Машеньке Гордеевой, окончательно споить Петю и увезти жену в Петербург, где она со своей набожностью и хромой ногой будет сидеть за печкой, а Николаша и Евпраксия Александровна будут проводить время в блеске петербургского света на гордеевские деньги. Двери этого самого света откроет перед Николашей его родной отец (Евпраксия Александровна под большим секретом сообщает Николаше его имя). Николаша, который со слов Пети знает о гордеевской аневризме, вырабатывает собственный план и приступает к его реализации.
Машеньке лестно предложение Николаши (когда-то, в детстве, она была влюблена в него), но теперь сердце ее уже занято, и она решает ждать до объяснения с Сержем-Митей. Любит ли он ее? Как он скажет, так и будет.
Тем временем Софи Домогатская приходит в себя и разворачивает в Егорьевске бурную деятельность. Она ставит спектакль силами местной «интеллигенции», организует первый общественный каток и т. д. и т. п. Все это время она пишет в Петербург своей лучшей подруге Элен Скавронской письма, в которых описывает свою сибирскую эскападу.
Пока Софи развлекается и развлекает других, умная и взрослая Вера подозревает что-то неладное в истории с нападением разбойников на карету. Почему никто ничего не знает о Никаноре? Где он? Убит? Сбежал? Пытаясь выяснить правду, она попадает в крайне неприятные обстоятельства, из которых ее выручает инженер Печинога. После этого между мужчиной и женщиной возникает взаимное притяжение, которое в конце концов приводит к развитию между ними романа.
Однако Никанор не только не погиб сам, но и спас Митю. Вернувшись по приказу Воропаева на место убийства, чтобы замести следы, Никанор замечает, что юный инженер еще дышит, и относит его в зимовье, где выхаживает почти всю зиму. Зачем он это делает, он и сам объяснить не может. Климентий Воропаев ничего об этом не знает.
Потом Никанор тайно встречается с Верой и намекает ей на подлинную судьбу Дубравина. Во время этой же встречи Вера сообщает бывшему любовнику, что между ними все кончено, так как она любит другого и собирается за него замуж. Никанор в отчаянии.
Николаша между тем организует сложную, многоходовую интригу, и полуобманом перетягивает на свою сторону Петю Гордеева и Матвея Печиногу. Во время спровоцированного бунта на прииске Гордеев должен погибнуть. Чуть позже убьют Опалинского-Дубравина. Все убийства свалят на восставших рабочих. Николаша женится на Машеньке и останется фактическим хозяином империи Гордеева.
Вера заболевает пневмонией и в полубреду, полагая себя на пороге могилы, рассказывает Софи сразу две тайны. Первая: еще в Петербурге она была любовницей Павла Петровича и даже прижила от него ребенка, который умер в воспитательном доме. Тайна вторая: нынче она беременна от Матвея Александровича. Матвей ребенка не хочет, так как отчего-то считает себя и свой род проклятым.
Софи, проникнувшись несчастьями горничной, едет к инженеру и объясняется с ним из ее интересов. Матвей Александрович появляется у Златовратских и предано ухаживает за Верой.
Сразу же по приезде Сержа и Гордеева из Екатеринбурга Машенька, выпив для храбрости Петиной наливки, идет объясняться с Сержем. Объяснение происходит, но наутро она, вот беда, совершенно не помнит, чем все закончилось. В отчаянии она кидается к Софи за советом.
Бодрая Софи уже давно выведала сердечную тайну Машеньки и охотно дает ей советы. Однако, Машенька посредством Николаши узнает об изначальном сговоре Ивана Гордеева и Опалинского. Она и ее любовь – просто докучный довесок к приискам! Этого Машенькина душа вынести категорически не может и девушка собирается в монастырь. Тем временем Гордеев тоже имеет с Дубравиным серьезную беседу касательно Машеньки и без труда разоблачает его (Серж попросту ничего не знает о сговоре).
Софи Машенькино решение с монастырем не нравится, и она бросается на устройство ее личных дел. Первая же встреча Софи с Сержем-Митей все расставляет по своим местам.
У Гордеева случается сердечный приступ.
В это время на прииске «Мария» происходит бунт. Больной Гордеев и Серж едут туда. Софи тоже едет на прииск вместе с Верой, Надей и Каденькой Златовратскими. Левонтий Макарович тоже намеревается ехать, но оберегающая его служанка – киргизка Айшет – запирает его в кабинете. Петя от волнения напивается и падает под стол. Коварные замыслы Николаши разоблачает для Машеньки Ванечка Притыков – внебрачный сын Гордеева от бобылки Настасьи. Машенька тоже едет на прииск, чтобы спасти отца и Сержа.
Во время бунта убивают Матвея Александровича, который вышел успокаивать рабочих, но абсолютно не преуспел в этом вопросе. Гордеев умирает от разрыва аневризмы. Бунт усмиряют казаки. Никанора арестовывают в числе прочих, обвиняют в убийстве инженера Печиноги и отправляют на каторгу.
Машенька и Серж пытаются строить отношения и вместе управлять империей Гордеева. Митя Опалинский убивает Климентия Воропаева.
Любочка Златовратская тайно помогает бежать Николаше Полушкину.
Вера рожает ребенка и остается жить в Егорьевске (Матвей Александрович завещал ей и ребенку все свое имущество и деньги).
Софи возвращается в Петербург. Там Элен предъявляет ей все ее письма и убеждает подругу, что она должна написать роман о любви.
Спустя шесть лет после описанных событий молодая петербургская писательница Софи Домогатская отправляется в Чухонскую слободу собирать материал для своего нового, социального романа. Там она случайно спасает от гибели Михаила Туманова, скандально известного петербургского промышленника и владельца модного игорного дома, при котором он и живет. Происхождение и начальные этапы восхождения Туманова к вершинам богатства окутаны какой-то мрачной тайной, в которую не посвящены даже близкие друзья Туманова – Иосиф Нелетяга, философ и гомосексуалист, и бирманка Саджун, содержательница борделя восточного типа. Когда-то Саджун и Туманов были подельниками и любовниками. Много лет назад она подобрала его умирающим в Лондонском порту, выходила и использовала для достижения своей цели: возвращения на родину, в корону статуи Будды огромного сапфира, известного в Европе и России под именем «Глаз Бури». Сапфир был украден Тумановым и Саджун из дома князей Мещерских во время сеанса гадания (гадалкой, естественно, выступала Саджун) и благополучно возвращен в Бирму. Следствие по делу вел полицейский следователь Густав Карлович Кусмауль, но обнаружить вора и сапфир так и не сумел. На памятном сеансе присутствовало шесть человек: баронесса Шталь, ее младший сын Ефим, княгиня и княжна Мещерские, друг дома Костя Ряжский и Зизи, подруга Ксении Мещерской, будущая графиня К.
В качестве «платы» за спасение жизни Туманова Софи требует знакомства с бытом его клуба и игорного дома, полезного для нее, как для писателя. Во время купеческого бала в клубе пьяный Туманов ведет себя весьма недостойно. Честь Софи спасает управляющий, вовремя огревший хозяина подсвечником по голове.
Пытаясь вымолить прощение Софи, Туманов подсылает к ней с запиской Грушеньку-Лауру, одну из проституток при Доме Туманова (небольшой бордель существует в отдельном флигеле под видом шляпной мастерской). В доме Софи Грушенька встречается с Гришей Домогатским и между ними вспыхивает любовь. Софи, которая уже осведомлена о роде Грушенькиных занятий, в ужасе, но не знает, как открыть Грише глаза на его избранницу.
За истекшие годы сестра Софи Аннет вышла замуж за пожилого, обеспеченного помещика Модеста Алексеевича Неплюева и родила от него сына. Теперь вся семья Домогатских, кроме Софи, проживает в его имении Гостицы. Гриша учится в Университете. Сама Софи работает учительницей в земской школе в деревне Калищи, недалеко от Гостиц. В этом же уезде проживают помещики Безбородко – мать и сын. Мать, Мария Симеоновна – давняя подруга Модеста Алексеевича. Сын – Петр Николаевич – считается женихом Софи.
Давняя и верная подруга Софи – Элен Скавронская-Головнина – пытается предостеречь подругу от завязывания каких бы то ни было отношений с Тумановым. Собрав сведения в «обществе», она описывает его как человека безнравственного, жестокого и беспринципного. К тому же он побывал едва ли не во всех постелях петербургских красоток самого разного толка.
Незадолго до того мистически настроенная Ксения Мещерская во время спиритического сеанса узнает, что во всех ее жизненных бедах виноват давно пропавший сапфир и укравший этот сапфир кухонный дурачок Мишка Туманов, ныне превратившийся в богатейшего петербургского промышленника.
Свое следствие с помощью все того же Густава Карловича проводит и баронесса Шталь. Она ищет своего среднего сына, прижитого ею от кучера и отправленного в воспитательный дом. Густав Карлович имеет в этом деле свои собственные интересы – кроме денег, обещанных баронессой, ему интересно узнать и историю сапфира, да и сам противоречивый образ Туманова поневоле завораживает его.
В это же время Туманова преследуют многочисленные деловые неприятности. Кто-то явно хочет разорить его. Кто-то также пытается шантажировать Саджун давней историей с сапфиром. Кроме того, неизвестный в черной маске подчеркнуто театральным образом крадет Софи и требует у Туманова за нее весьма специфический выкуп. Туманов соглашается на все условия, но Софи освобождается своими силами. Кто стоит за всем этим? Иосиф Нелетяга проводит для Туманова расследование и, из шестерых присутствовавших на давнем сеансе, подозрение друзей падает на Константина Ряжского (удается установить, что именно в его родовом, полузаброшенном ныне имении держали в плену Софи).
Софи и Туманова тянет друг к другу. Их союз невозможен ни с какой точки зрения, и отношения, постепенно возникающие между ними, осуждаются всеми без исключения. НО когда одного или другого интересовало общественное мнение?
Элен пытается «спасти» подругу и попадает в весьма неприятную историю с векселями собственного мужа, которые Туманов дарит ей за ее благородство. Муж Элен, Василий Головнин, требует отказать «падшей» Софи от дома. Разрываемая противоречивыми страстями, Элен падает в нервной горячке и только вмешательство Софи спасает ее от гибели.
Софи и Туманов становятся любовниками. Их связь сладка, запретна и мучительна для обоих. Софи не желает жить на съемной квартире содержанкой Туманова и, в конце концов, порывает с Михаилом. С подачи Элен она возвращается к светской жизни. В процессе ее Софи знакомится почти со всеми участниками давней истории с сапфиром. Ефим Шталь ухаживает за ней. Она могла бы узнать в нем похитителя в черной маске и «рыцаря в сверкающих доспехах», который под маской, на благотворительном балу подарил ей выкупленное им рубиновое ожерелье, но гонит узнавание прочь, желая без помех наслаждаться жизнью.
Дуня Водовозова тоже давняя подруга Софи. Она – двоюродная внучка того самого учителя математики, который когда-то ссудил Софи деньги для поездки в Сибирь. Поликарп Николаевич умер до возвращения Софи и долг она отдавала уже его наследнице. В жизни Дуни Софи выступила в роли Пигмалиона. Она пробудила в ней волю к жизни, заставила ее выучиться на курсах, вводит в различные кружки, поощряет занятия математикой (Дуня обладает выраженными способностями в этой области), планирует ее замужество по договору с одним из «передовых» молодых мужчин и отъезд за границу для обучения математике в Университете в Германии. Все это Дуня невозмутимо и с благодарностью принимает.
Знакомство Дуни с Михаилом Тумановым многое изменило. Она влюбилась в Михаила. Но Михаил все еще любит Софи, и Дуня знает об этом. Поэтому из интересов любимого она уговаривает Софи вернуться, мотивируя это фактами о том, что без Софи Михаил попросту утерял желание жить и ищет смерти. Софи смеется Дуне в лицо, однако, что-то все же толкает ее на поиски. Она встречает Михаила ночью, в артели рубщиков невского льда, и все еще живое чувство опять бросает их в объятия друг друга.
Гриша и Груша тоже любят друга. После окончательной близости (Грушенька успешно притворяется девственницей-недотрогой) Гриша делает девушке предложение. Софи и ее младшая сестра Ирен боятся сказать ему правду, опасаясь самоубийства с его стороны или иных безумных ходов.
Грушеньке, с ее стороны, угрожает разоблачением Лизавета, умная и корыстолюбивая девушка, которая за деньги работает на всех подряд, но любит Ефима Шталь и является его давней любовницей. В аффекте Грушенька убивает Лизавету. В убийстве по совокупности косвенных улик обвиняют Туманова.
Тем временем сочетание интриг, направленных против Туманова, развивается своим ходом.
Кульминацией их становится пожар в игорном доме, во время которого практически все действующие лица романа сходятся на одной площадке.
Во время пожара, спасая девушку-горничную, гибнет Иосиф Нелетяга. Баронесса Шталь сообщает Туманову, что он – ее средний сын, и она готова признать его и всячески искупить свою давнюю вину перед ним. «Подите прочь!» – говорит ей Туманов. Источником всех прочих неприятностей Туманова оказывается Ефим Шталь, не желающий делить с братом-ублюдком деньги и внимание матери. Впрочем, оборванцев с ножом, послуживших поводом для знакомства Софи и Туманова, нанял не он. Их наняла графиня К., взбешенная тем, что Туманов ее бросил.
Последней каверзой Ефима является то, что Софи провела ночь пожара в его апартаментах. «Нам было хорошо вместе, мы во всех отношениях подходим друг другу!» – высокомерно заявляет он своему брату-плебею, когда-то в буквальном смысле выброшенному на помойку. Раздавленный гибелью Иосифа и прочими переживаниями Туманов не желает выслушать объяснения Софи. Оскорбленная тем, что ей не верят, Софи уходит от него к своим друзьям-аристократам, тоже прибывшим на пожарище.
После всего случившегося Туманов покидает Петербург и вообще Россию, и вскоре гибнет, примкнув к одному из народно-освободительных восстаний на Кавказе. Софи узнает об этом от Саджун, которая проводила специальное расследование по этому поводу. В это же время Софи понимает, что ждет ребенка от Михаила. Ефим Шталь хочет завладеть вниманием Софи, но терпит сокрушительную неудачу. Чуть позже Петр Николаевич Безбородко вновь, невзирая на все обстоятельства, делает ей предложение и сообщает, что согласен признать будущего ребенка. Софи соглашается на брак.
Гриша женится на Грушеньке – бывшей проститутке и убийце.
Дуня Водовозова уезжает за границу вместе со студентом-естественником Семеном. Ее не покидает надежда отыскать Туманова.
Спустя пару лет после событий в Петербурге внимание автора и читателя вновь возвращается в Егорьевск.
На золотые прииски, принадлежащие Гордеевым-Опалинским, приезжает из Петербурга инженер Андрей Измайлов, бывший народоволец, разочаровавшийся в революционных идеалах и мечтающий о «тихой гавани».
Между тем, ни о какой «тишине» в приишимской тайге не может быть и речи. В округе вот уже несколько лет действует банда жестокого и непредсказуемого Черного Атамана – Сергея Алексеевича Дубравина. Ходят слухи о его психической болезни. Так оно и есть: Митя Опалинский, безусловно, психически нездоров. Взяв себе имя Дубравина, который отнял имя, должность и невесту у него самого, он борется со своей болезнью и мстит за свою искалеченную жизнь всем подряд, не решаясь при этом уничтожить своего врага, так как все еще влюблен в Машеньку и не хочет причинять ей горя. Его любовница, остячка Варвара, пользуясь образцом из золотого медальона, написала портрет Машеньки, который Митя хранит на своей заветной заимке.
Серж Дубравин живет в постоянном страхе перед разоблачением и напряжении, которое уже почти раздавило его. Петя пьет и радуется жизни с Элайджей – юродивой еврейкой, на которой он женился по любви после смерти отца. У них трое диких и абсолютно неразвитых детей, которые сами себя называют Лисенком, Волчонком и Зайчонком. Все дела «империи» Гордеева фактически свалились на Машенькины плечи. Сначала ей еще помогал друг отца остяк Алеша (отец Варвары), но после они разошлись во взглядах и расстались. Алеша сошелся с Верой, бывшей горничной Софи. Сначала они вместе делали дела, а потом и жить стали вместе. У Веры двое детей – Матвей и Соня. Оба ребенка – не родные ей по крови. Соню Вера усыновила в память погибшего инженера Печиноги (в некотором смысле он способствовал ее появлению на свет), а что касается Матвея, то его «подарила» Вере Софи Домогатская. Собственный ребенок Веры и инженера Печиноги умер при родах. Пользуясь тем, что Вера после тяжелых родов была без сознания, Софи подменила умершего младенца вполне живым и здоровым первенцем юродивой Элайджи. Тайну происхождения Матвея-младшего знают только Софи и приисковый фельдшер, принимавший роды у обеих женщин.
У Машеньки и Сержа один ребенок – Шурочка, слабый и болезненный.
Надя Златовратская вышла замуж за ссыльного народовольца Ипполита Коронина. Она продолжает заниматься народной и прочей медициной, закончила акушерские курсы. Ее муж фактически возглавляет некую подпольную организацию ссыльных революционеров, занимающуюся издательской и прочей деятельностью, а также устраивающую побеги политических заключенных из сибирских тюрем и с каторги. Аглая служит в училище. Она сошлась с трактирщиком Ильей, но уже несколько лет скрывает эту связь. Любочка тайком от всех переписывается с Николашей Полушкиным.
Пески на приисках истощились и вот-вот нужно принимать какое-то, касающееся их решение. Но кто будет его принимать? Рабочие волнуются, тоже гадая о будущем, в их среде циркулируют всякие слухи, еще более усиливающиеся от провокаций с разных сторон.
Полицейская, жандармская и военная (казаки) власти уезда, по прямому указанию сверху, планируют совместную, не лишенную изящества операцию. В результате ее будет уничтожена банда Черного Атамана, нелегальная сеть явок и доверенных лиц, наброшенная ссыльными революционерами едва ли не на всю Западную Сибирь, а также будут показательно выявлены и изолированы политически распропагандированные и склонные к бунту элементы на приисках. Интерес хозяев приисков: под шумок операции выработанные прииски будут закрыты без всяких волнений и материальных претензий со стороны рабочих. Им будет попросту не до того. Для успешного осуществления операции в банду и в среду политических по полицейскому и жандармскому обыкновению внедряются агенты и провокаторы.
Во всех затруднительных случаях своей жизни многие жители Егорьевска пишут письма в Петербург, Софи Домогатской. Она не отвечает никому, кроме простодушной попадьи Фани Боголюбской, которая запуталась в своей запретной любви к местному уряднику Карпу Платоновичу Загоруеву.
Вот в такую-то «тихую гавань» и приезжает инженер Измайлов. И сразу же попадает как кур в ощип.
Разбойники Дубравина зачем-то отбивают арестованных во время волнений рабочих, убивая при этом сопровождающих их казаков. Следующий вместе с конвоем Измайлов тяжело ранен, но ему удается сбить преследователей со следа и уползти в тайгу. Там его находит собирающая травы и корешки Надя Златовратская. Используя свои медицинские навыки, она выхаживает раненного в зимовье. Между выздоравливающим Измайловым и Надей возникает любовная связь, причем с самого начала проговорено, что Коронина Надя никогда не оставит.
После прибытия Измайлова в Егорьевск, местные ссыльные Коронин, Давыдов и Веревкин пытаются привлечь его к революционной деятельности, а потом, наоборот, считают провокатором. Провокатор должен быть, это известно доподлинно, но кто же он? Измайлов, вроде бы, больше всех подходит на эту роль.
Машенька Гордеева-Опалинская пытается найти в Измайлове друга и соратника. Серж Дубравин по понятным причинам сторонится нового инженера. Черный Атаман вступает с ним в переписку, возвращает документы и советует вернуться в Россию, от греха подальше.
Измайлов тяготится всем этим, включая связь с Надей, но не знает, что предпринять. Он избегает егорьевское общество, дружит с рабочими, Васей Полушкиным, Иваном Притыковым, и «дикими» детьми Пети и Элайджи, причем единственный принимает их всерьез, и в каком-то смысле инициирует их умственное и эмоциональное развитие.
Тем временем настоящий отец Сони, пьяница и бездельник, тайком от Веры шантажирует девочку, требуя у нее вещи и деньги и угрожая отдать разбойникам брата Матвея. Соня открывается брату. Матвей обещает все уладить и попутно знакомится с Волчонком, Лисенком и Зайчонком. Дети организуют некую совместную игру-приключение, целью которой является слежка за разбойниками и выяснение их привычек (Нужны ли им маленькие мальчики, или Сонин отец все врет?).
Приблизительно в это время в Егорьевск приезжает Гликерия Ильинична, мать настоящего Дмитрия Опалинского (все эти годы Серж от имени Опалинского посылал ей деньги, но, по понятным причинам, не прислал ни одного письма). Узнав в дороге о том, что сын жив-здоров, она с нетерпением ждет встречи с ним. Увидев же вместо сына Сержа Дубравина, кричит: «Куда вы его подевали?!» – и теряет сознание.
Вера, узнав всю эту историю от Сони (которой, в свою очередь, рассказал ее очевидец-Волчонок), проникается сочувствием к несчастной старушке и сообщает дочери, что на самом деле сын старой женщины жив, и он – никто иной, как Черный Атаман. Сильный в логике Матвей-младший более-менее правильно просчитывает ситуацию, и дети принимают решение: они тайком уводят старушку из трактира и переправляют ее на заимку к Черному Атаману. Там и происходит встреча матери и сына.
Накануне начала описанных выше событий с каторги бежит Никанор, бывший камердинер Сержа Дубравина, который все эти годы любит Веру и хранит в душе ее образ. Никанор присоединяется к банде Черного Атамана, встречается с Верой и убеждает ее в том, что он не убивал инженера Печиногу. В обмен на неделю ее любви Никанор предлагает Вере и Алеше место и план разработки новых золотых приисков, разведанных в тайге талантливым на золото старателем Коськой-Хорьком. Интерес к делу Черного Атамана в процентах от выручки и применении его собственных инженерных навыков. Вера, подумав, соглашается на сделку.
Открыв новый прииск «Счастливый Хорек», Вера переманивает туда самых активных и непьющих рабочих, которые уходят в тайгу, разрывая контракт с Опалинскими-Гордеевыми. Пытается Вера переманить к себе и Измайлова, но он отказывается. Маша должна либо подавать в суд на рабочих, либо смириться с Вериным и Алешиным мародерством.
Тем временем полицейско-жандармская операция подходит к своему завершающему этапу. Гавриил Давыдов (который и является настоящим провокатором) сдает полиции егорьевских революционеров и ловко подставляет Измайлова, в результате чего ни у кого не остается и тени сомнения в том, что предатель именно он. Арестованный, в кандалах Коронин плюет Измайлову в лицо.
Измайлов решает покончить жизнь самоубийством. Элайджа и ее дети не дают ему довести дело до конца и совместными усилиями вынимают инженера из петли. Против воли оставшийся в живых, Измайлов решает наконец выяснить, что же происходит вокруг него, и разобраться в егорьевских тайнах. С помощью Волчонка он попадает на заимку к Черному Атаману и слышит от него всю историю со сменой имен и т. д. В завязавшемся разговоре Измайлов случайно выдает атаману полицейского агента в банде. Им оказывается Липат Щукин, отец Сони. Через два дня его находят убитым на тракте.
Остяк Алеша встречается с Черным Атаманом по делам прииска «Счастливый Хорек», и одновременно выдает разбойников полиции, желая таким образом оберечь Веру и получить прииск и Коську в свое полное распоряжение.
Отряд казаков уничтожает банду Черного Атамана. Никанора и Митю Опалинского убивают. Одновременно на прииске начинаются запланированные и спровоцированные полицией волнения. Но Измайлов своей волей и своим опытом революционного трибуна предотвращает бунт.
Дети Элайджи выслеживают и, мстя за Измайлова, убивают полицейского провокатора Гавриила Давыдова.
Измайлов, потрясенный, как бы не сломленный свалившимися на него испытаниями, уезжает в обратно в Петербург. Туда же бежит Варвара, унося с собой дневник Измайлова, «красную тетрадь». В столицу стремится и Любочка Златовратская.
Разоблаченную Фаню отправляют в монастырь.
В финале Софи Домогатская пишет новый роман – «Красная тетрадь инженера Измайлова».
СПИСОК ДЕЙСТВУЮЩИХ НЫНЕ И ДЕЙСТВОВАВШИХ РАНЕЕ ГЕРОЕВ.
Петербург
Домогатские:
Павел Петрович (застрелился в 1882 году, 43 лет отроду)
Наталия Андреевна, мать семейства (52 года)
Их дети – Софья Павловна (32 года)
Григорий Павлович (31 год)
Анна Павловна (Аннет) (29 лет)
Ирина Павловна (Ирен) (24 года)
Сергей Павлович (22 года)
Алексей Павлович (20 лет)
Туманов Михаил Михайлович (45 лет)
Безбородко Петр Николаевич, муж Софи (38 лет)
Безбородко Мария Симеоновна, мать Пети (59 лет)
Неплюев Модест Алексеевич (муж Аннет) (63 года)
Кока (Николай) – сын Аннет и Модеста Алексеевича (13 лет)
Павлуша – сын Софи и Михаила Туманова (10 лет)
Милочка (Мария) – дочь Софи и Петра Николаевича (8 лет)
Саджун (Анна Сергеевна) – подруга Туманова (51 год)
Джонни – сын Саджун и Туманова (10 лет)
Грушенька Воробьева (Лаура) – бывшая проститутка из дома Туманова, ныне жена Гриши Домогатского (27 лет)
Людмила – дочь Гриши и Груши (3 года)
Зинаида, графиня К. (43 года)
Ксения Мещерская (44 года)
Константин Ряжский – петербургский промышленник (42 года)
Евфимий Людвигович (Ефим) Шталь, барон, сводный брат Михаила Туманова (41 год)
Измайлов Андрей Андреевич, инженер (44 года)
Подруги Софи:
Евдокия Водовозова (30 лет)
Елена (Элен) Николаевна Скавронская-Головнина (32 года)
Матрена Агафонова, журналистка (36 лет)
Ольга Васильевна Камышева (32 года)
Кэти (29 лет)
Мари Оршанская (Шталь) (34 года)
Ирина Гримм (32 года)
Кузьма, хозяин кухмистерской «У Лизаветы» (30 лет)
Лизавета, любовница Ефима и невеста Кузьмы (убита Грушей)
Даша – бывшая проститутка, ныне жена булочника (30 лет)
Кусмауль Густав Карлович, бывший полицейский следователь, ныне в отставке (66 лет)
Мещерский Владимир Павлович, князь, отец Николаши Полушкина
Егорьевск
Гордеевы:
Иван Парфенович (умер в 1884 г.) – купец и промышленник, фактический основатель Егорьевска.
Марфа Парфеновна, его сестра (умерла)
Марья Ивановна, его дочь (39 лет)
Петр Иванович, его сын (44 года)
Элайджа (жена Петра Ивановича) (45 лет)
Их дети – Анна (Зайчонок) (15 лет)
Юрий (Волчонок) (17 лет)
Елизавета (Лисенок) (18 лет)
Иван Притыков – внебрачный сын Гордеева (30 лет)
Настасья Притыкова, его мать (49 лет)
Сергей Алексеевич Дубравин (живет под именем Дмитрия Михайловича Опалинского) (42 года)
Шурочка Опалинский, сын Сергея Алексеевича и Марьи Ивановны (17 лет)
Златовратские:
Левонтий Макарович – начальник училища (56 лет)
Леокардия Власьевна – его жена (54 года)
Аглая Левонтьевна (35 лет)
Любовь Левонтьевна (30 лет)
Надежда Левонтьевна (33 года) – их дочери
Ипполит Михайлович Петропавловский-Коронин – муж Нади (42 года)
Николай Викентьевич Полушкин (Иван Самойлов) (45 лет)
Евпраксия Александровна Полушкина – мать Николая (63 года)
Василий Полушкин – сводный брат Николая (35 лет)
Фаня Боголюбская, бывшая попадья, ныне монашка в Ирбитском
монастыре (38 лет)
отец Андрей – настоятель Крестовоздвиженского собора, в прошлом муж Фани (41 год)
отец Михаил, священник – отец Фани (63 года)
Арина Антоновна – жена отца Михаила и мать Фани (60 лет)
Вера Михайлова, бывшая горничная Софи (44 года)
Ее воспитанники: Соня (19 лет) и Матвей (19 лет)
Стеша, ее дочь (8 лет)
Матвей Александрович Печинога, инженер, гражданский муж Веры (убит во время бунта на прииске)
Никанор, бывший камердинер Сержа Дубравина, отец Стеши (убит казаками)
Алеша, остяк, друг Ивана Гордеева, «король» тайги, сожитель Веры (умер).
Варвара Остякова, его дочь (33 года)
Манька Щукина, сестра Сони (25 лет)
Крошечка Влас, друг Маньки (27 лет)
Айшет, киргизка, служанка в доме Златовратских (31 год)
Анисья; Мефодий; Игнатий – слуги в доме Гордеевых
Роза и Самсон, мать и отец Элайджи, хозяева трактира «Луизиана» (64 и 66 лет)
Илья Самсонович, их сын, хозяин трактира «Калифорния» (39 лет)
Хайме, калмычка, служанка в трактире (55 лет)
Евдокия, странница (63 года)
В которой Ришикеш Рита опасается чего-то неопределенного, а Любочка Златовратская хочет изменить свою жизнь.
Будуар был обставлен в неоготическом стиле. Остроконечная устремленность исполненной из орехового дерева мебели придавала всему интерьеру странный, какой-то неуместно агрессивный вид. Темно-синий бархат обивки и голубые стены (а, как известно, синий цвет успокаивает) еще подчеркивали парадоксальность обстановки, и делали ее откровенно, хотя и невнятно, говорящей. Неуместная в будуаре неоготика явно хотела что-то сообщить или даже навязать случайному (или неслучайному?) зрителю.
Хрупкая женщина с живыми, широкими, почти сросшимися на переносице бровями, которые практически уничтожали в визуальном восприятии ее узкий и бледный лоб, сидела на кровати, покрытой фиолетовым покрывалом. Серебряные месяцы, вытканные на нем, странно, и, пожалуй что, неприятно гармонировали с ее вымученно изогнутой улыбкой и даже с продолговатыми глазами, в глубине которых тоже переливалось тускловатое рыбье серебро.
– Я не хочу и не могу больше ждать, Николаша, – сказала женщина. Голос ее звучал ровно, но где-то вблизи чувствовалась подступающая истерика. – Не желаю. Ты слышишь?
Мужчина стоял возле окна. Мучительный вечерний свет, проникавший через окно из узкой, похожей на ущелье петербургской улицы, не красил его лицо, делал его землистым и брезгливым. Черты этого лица, впрочем, можно было бы назвать правильными и даже породистыми. Вместе с тем присутствовала в них некая несоответственная более чем зрелому возрасту мужчины расплывчатость и неопределенность. Внимательному наблюдателю могло бы показаться, что этот человек начал стариться прежде, чем окончательно повзрослел.
– Я не понимаю тебя, Любочка. Чего тебе не хватает? Я даю тебе слишком мало денег? Так скажи прямо. Я надеюсь, что это скоро изменится… Честное слово, я пришел сюда вовсе не для того, чтобы выслушивать твои упреки и глядеть на истерики…
– А для чего? Для чего ты сюда пришел? Скажи прямо… – язвительно передразнила женщина.
– Изволь. Я прихожу сюда, как в то место, где я могу сбросить опостылевшую маску и быть самим собой. Место, где я хочу отдохнуть возле женщины, которую я люблю и которая любит меня… Этого достаточно?
– Нет! Теперь – нет! – резко вставая, ответила женщина. Приблизившись почти вплотную к мужчине, она едва доставала ему макушкой до подбородка. – Много лет мне было достаточно меньшего. Я ждала в Егорьевске, живя от одного твоего письма до другого. Потом я приехала сюда и много лет ждала уже тут. Ты поселил меня в этой квартире и пообещал, что все это ненадолго и скоро мы сможем окончательно быть вместе. Я поверила тебе и опять ждала. НО где это все?!
– О чем ты говоришь? Что такое «все», Любочка? Я обижал тебя? Обманывал касательно моего действительного здесь положения? За эти годы я когда-нибудь давал тебе повод усомниться в моей любви?
– Твоя любовь? А в чем, позволь узнать, она проявляется? В том, что ты меня содержишь? Очень, надо сказать, скромно содержишь, но за то я, поверь, не в обиде. Я знаю, что у тебя просто нет больших средств. Но вот другое… Ты приходишь сюда, отдыхаешь душой, сбросив, как ты сам выражаешься, маску, пользуешься моим телом, которое всегда к твоим услугам, рассеянно целуешь меня на прощание и уходишь обратно, к своим делам, интригам, надеждам и разочарованиям, к друзьям и недругам, к своей действительной жизни. А я остаюсь… Сижу, гляжу в окно, читаю опостылевшие романы, бранюсь с кухаркой и мужиком, который приносит дрова…
– Но, Любочка, так живут тысячи женщин в Петербурге. И по всей России… Я опять не понимаю тебя. Тебе скучно? Сочувствую тебе. Но в чем же ты видишь выход? Ты что, хочешь поступить на службу? Но что ты станешь делать?
– Я хочу, пока еще не стало поздно, пожить настоящей жизнью, ради которой я…
– Да что же это за жизнь такая, черт подери, объясни же ты мне наконец! – раздражение исковеркало и еще стерло черты лица мужчины, сделало его не столько старым, сколько призрачно-несуществующим. – Может быть, ты ее просто выдумала, эту жизнь, еще там выдумала, в егорьевской глуши? А по правде ничего такого и вовсе нет!
– Неправда! – вскинув голову, выкрикнула Любочка, и мелкие капельки ее теплой слюны осели на скулах Николаши. – Все есть, да только не для меня! Я уже много лет живу здесь на таком положении, каковое вообще не подобает приличной женщине, а тебе все это трын-трава… Я могла бы так жить и в Егорьевске, но там, по крайней мере, у меня мать, отец, сестры, подруги… Я все это бросила ради тебя, а ты сделал меня… Я не такая….
– Люба! Я, кажется, понял. Ты страдаешь от того, что мы с тобою живем невенчаны. Хорошо! Ты видишь, я готов во всем потакать тебе. На той неделе поедем куда-нибудь в уезд, там за соответствующую мзду любой попик нас тайно обвенчает…
– Я не хочу – тайно!! – взвилась Любочка. – Я хочу везде бывать вместе с тобой, хочу знать твоих друзей и иметь своих. Хочу принимать их в своем, в нашем доме… Хочу открыто ходить с тобой в театр и в концерты… Я хочу, чтобы этот мир меня увидел, наконец! Не бойся, я не опозорю тебя, я многому научилась, манеры у меня не хуже, во всяком случае, чем у Софи Домогатской…
В ответ на упоминание этого имени Николаша поморщился, как от невралгической боли, и осторожно снял с лацканов сюртука цепкие пальчики Любочки, которые вцепились в него в пылу спора.
– Люба! Ты же знаешь, что сейчас все это невозможно! Я объяснял тебе тысячу раз…
– Объясни еще раз, не возьми за труд. Может быть, я, наконец, разберу…
– Хорошо. Мой кровный отец – Владимир Павлович Мещерский, маменька Евпраксия Александровна сказала мне об этом много лет назад. Владимир Павлович – опытный царедворец, входит и к прошлому, и к нынешнему государю без доклада. Однако положение его, тем не менее, опасно и щекотливо, так как всегда есть желающие свалить очевидного, тем более многолетнего, фаворита и сесть на его место.
Я приехал сюда, к нему два года спустя, как после бунта бежал из Егорьевска. Ты, еще ребенок, тогда помогла мне, фактически спасла. Я этого не забыл, как видишь. Меня разыскивала полиция, или можно было так полагать, у меня совсем не было средств. Я даже не мог официально объявиться под своим собственным именем. Впрочем, какое оно было мое, если Викентий Савельевич когда-то матушку за себя взял уже беременной мною!.. При всем при том Владимир Павлович принял меня, представил в свет под именем своего какого-то дальнего родственника Ивана Самойлова (он тоже проживает или жил в Сибири). Нынче у меня есть известные знакомства, я уж несколько лет пытаюсь сотрудничать в журналах, другие еще дела и связи… Могу ли я теперь быть неблагодарным?
– В чем же неблагодарность, ежели ты, Николаша, или пусть Иван Самойлов, теперь меня благодетелю представишь, как свою жену? В твоих годах, пожалуй, неженатым страннее быть…
– Любочка! – Николаша мученически заломил кисти и правую бровь. – Ты настаиваешь, чтоб я вслух объяснился? Но это же…
– Настаиваю! – женщина притопнула изящной ножкой в домашней, вышитой туфельке. – Уж как-нибудь переживу…
– Изволь. Владимир Павлович имеет давнее пристрастие к содомской любви. Как уж там и на каких чувствах он в юности матушку мою оприходовал, и меня породил – того мне неведомо, но вроде бы не только у ней, но и у него сомнений в том нет. Стало быть, было. Но после уж все складывалось иначе… Когда он меня откуда-то из Сибири принял, и у себя в доме поселил, все подумали… Понятно, что? И он в том никого не разубеждал…
– Господи! – воскликнула Любочка, прижав ладони к внезапно загоревшимся щекам. – Значит… Значит, все эти годы ты… Ох, Николаша! Он фактически представил тебя всем не как своего сына, а как своего… любовника? Какой кошмар! Но как…
– Разумеется, он сразу растолковал мне, зачем и почему это делает, и тогда я просто не мог с ним не согласиться. Какое-то объяснение ведь должно было быть. Он меня совершенно не знал, видел впервые в жизни, матушкин медальон и письмо, конечно, сыграли свою роль, но… В общем, он просто не мог рисковать, учитывая еще ту историю, которая за мной тянулась, и его собственное положение… Тогда я принял все, как есть, надеясь, что со временем положение изменится…
– И что ж теперь, Николаша? – нетерпеливо спросила Любочка.
Казалось, она слегка уже позабыла собственную обиду и теперь искренне сочувствовала действительно трудно выносимому, на ее взгляд, положению возлюбленного. Небольшие, но блестящие глазки женщины еще разгорелись, напоминая о завидевшем добычу куньем зверьке, чудесно очерченная верхняя губа мелко шевелилась.
– Теперь я понимаю, что Владимира Павловича все устраивает так, как сложилось, – горько сказал Николаша. – Его долг передо мной, с его точки зрения, исполнен. Я присмотрен, введен в круги. Сложившиеся обо мне слухи и репутация никак не могут его волновать, ввиду собственных его особенностей. Далее я, по его замыслу, должен крутиться самостоятельно, искать возможности…
– То есть, признавать тебя как сына и обеспечивать наследством он не собирается? – четко сформулировала Любочка.
– Очень похоже на то.
– Тогда что же мешает тебе сейчас жениться на мне и представить всем, как свою супругу?
– Но, Люба! Пойми же! – Николаша умоляюще сложил ладони. Видно было, что ему действительно не хочется говорить того, что его так настойчиво вынуждали сказать. – Что за странная получится партия? Записной «любовник» князя Мещерского вдруг женится и берет в жены – кого? Почему? Откуда? С какой стати, в конце концов? Если бы это был брак сугубо по расчету – из-за наследства или титула, – например, я женился бы на богатой вдове – это все поняли бы, и вопросов ни у кого не возникло. Но жениться на никому в Петербурге не известной… Кто ты по сословию, Люба, мне всегда было как-то недосуг спросить?.. Устроив свою семейную жизнь таким образом, я разом загублю все свои знакомства и всю складывающуюся карьеру, князь Мещерский тут же попросит меня выехать из его дома, из знакомых Владимира Павловича меня никто никуда больше не позовет… И на что, позволь спросить, мы будем жить в этом случае? Что вообще делать? Рука об руку вернемся в Егорьевск, станем кормиться из Васькиной милости? Но зачем тогда все это было?
– Вот оно, значит, как… – Любочка обожгла Николашу едким, словно концентрированная кислота взглядом (он невольно потер щеку, словно кожей ощутив ожог), отошла от него и присела на обитую синим бархатом козетку. – Здесь, значит, все шиворот-навыворот. Блистательный Петербург! Искренние чувства человеческие смотрятся бредом, а любой бред или даже преступление, пройдя через преломляющие свет болотные миазмы, становятся вполне понятной, складной и всеми одобряемой картинкой… Что ж. Мне следовало давно это понять, и более читать господина Достоевского, чем слащавых романов… Нынче я и вправду получаюсь тебя и твоего нынешнего круга недостойна. Только не по рождению или богатству, а по, так сказать, степени гнилостности души… Это, разумеется, требуется исправить…
– Люба! Что ты говоришь?!
– Прости, я размышляю вслух…
В ответ на свою оскорбительную для женщины (он не мог не понимать этого) откровенность, Николаша ожидал слез, истерики, может быть, даже попытки любовницы броситься на него с кулаками или ножом для разрезания бумаги (бурный темперамент Любочки был ему хорошо известен). Внезапная сосредоточенность и спокойствие Любы почти испугали его.
– Любочка, солнышко, я все время гадаю над тем, как все устроить…
– И как же, милый? – отстраненно поинтересовалась женщина, думая о своем и не собираясь того скрывать.
– Я тебе сейчас все расскажу, чтоб ты не думала, что я от тебя скрываю, – торопливо заговорил Николаша, старательно отводя взгляд от любочкиного лица, на котором происходили какие-то странные и, откровенно сказать, жутковатые видоизменения. – С кем мне еще и говорить откровенно, как не с тобой? Там… – мужчина махнул рукой за окно, в стремительно сгущающиеся сумерки. – Там все всем врут, и даже сами иногда не помнят и не понимают, как соврали… А я… Я, раз уж в Сибири вырос, так и хочу золото в Сибири добывать… Подожди! Сейчас я тебе все растолкую. Владимир Павлович, я уж говорил, в придворной камарилье не последний человек выходит. А царь дает своим людям, как бы за верную службу, концессии на разработку Кабинетских земель. Золото, медь, черные металлы. Как раньше дворянам деревни в корм давали, понимаешь? Кабинетские земли – это Нерчинский округ и Алтай, да ты то, наверное, сама с детства помнишь. Наш, Ишимский уезд к Кабинетским землям никогда не относился. Так вот, Владимир Павлович тоже может эти земли от государя получить, и как бы уже не получил. Но самому ему этим заниматься недосуг и ни к чему. Стар он, и все интересы его уже много лет вокруг Зимнего дворца крутятся. Что ему медь или хоть золото в Сибири?
– И что же, полагаешь, Мещерский тебе эту концессию за красивые глаза отдаст? – язвительно спросила Любочка. – Как-то это не согласуется с тем, что ты до того говорил…
– Разумеется, за так никто никому ничего не отдаст. Мир не на том с давних пор стоит, и дураком надо быть, чтобы того не разглядеть. Владимир Павлович хочет эту концессию с выгодой для себя продать. Тому, кто будет золотодобычей сам заниматься. Но в Сибири, да и вообще в России сейчас таких капиталов немного, чтобы можно было разом, в расчете на грядущие прибыли, в горно-добывающую отрасль вложить. Однако, есть еще Европа…
– И теперь твой Владимир Павлович метит выгодно перепродать доставшиеся ему кабинетские земли иностранцам, – опять точно и четко подытожила Любочка. – А что ж, уж и желающие есть?
– Он со мной на эту тему, зная мой интерес, говорит не особо, но окольными путями я знаю, что вроде бы есть. Англичане. Готовы учредить в Лондоне акционерное общество и…
– А отчего же в Лондоне?
– В том-то и дело, то-то я и пытаюсь Владимиру Павловичу втолковать. Надуют ведь англичане, не резон им в Сибири промышленность развивать. Легче так как-нибудь, через биржу денег срубить и в кусты. Ты и то поймешь, если поразмыслишь…
– Да уж, конечно, если даже такая дура, как я…
– Любочка, я вовсе не о том хотел сказать, не заводись, пожалуйста, лучше дослушай меня…
– Слушаю внимательно.
– Моему отцу, князю Мещерскому, по большому счету наплевать, что там в Сибири случится или не случится. Даже деньги, и то… На его век ему с лихвой хватит. Единственное, что его по настоящему занимает – власть, возможность вертеть колесо в ту сторону, в которую именно ему захочется. Я же как раз туда и мечу: как это так, какие-то англичашки вас того и гляди надуют?! Было ведь уже два аналогичных случая как минимум. На Лене вроде собирались золото добывать, и еще где-то на Урале – медь. Лопнули компании или уж там финансовые общества, как мыльные пузыри, а деньги в песок, или, точнее, в чей-то английский карман утекли. Так не лучше ли своих подобрать, которых хоть всегда увидеть можно, рукой пощупать, а как понадобится, так тою же рукою и за горло взять…
– Но ведь у тебя, Николаша, своих денег ни копейки нету. Или ты надеешься, что Владимир Павлович ссудит тебе?
– Как же, ссудит… Держи карман шире! В том-то и закавыка. Если я сумею сейчас деньги и людей отыскать, и соответствующее общество с потребным уставным капиталом сколотить, так уж, конечно, и сам в его совет войду и после внакладе не останусь. Понимаешь? Если дело выгорит, тогда я, наконец, богат и свободен. И ты – со мною вместе.
– Да если я тебе в нынешнем положении женою не нужна, потому что неровня, так уж после-то, когда разбогатеешь и освободишься – зачем? – резонно вопросила Любочка.
– Зачем? – Николаша почесал лоб и как бы не впервые задумался над этим вопросом. – Ну… я же люблю тебя и… Что ж ты про меня думаешь, я и благодарности не понимаю? Как ты для меня все эти годы…
– Да я уж не знаю теперь, что и думать… – Любочка покачала аккуратной головкой. – А только где же ты эти потребные капиталы отыщешь? Кого уговаривать станешь? И чем возьмешь?
– Есть мысли. Во-первых, Константин Ряжский. Он из промышленных кругов, толстовец и мистик, света, несмотря на свое вполне благородное происхождение, чурается, но за новое поле деятельности возьмется охотно, если обоснования будут достаточно вескими. Свободных денег у Ряжского не так уж много, почти все вложены в дело, но, если он на это подпишется, то, зная его деловое чутье, многие из общества, поменьше его масштабом и поглупее, тоже захотят поучаствовать. Другая фигура – Ефим Шталь…
– Брат Туманова?! С которым Софи…
– Да, да, тот самый, – быстро оборвал реплику женщины Николаша. – У Ефима как раз есть деньги, и довольно много. После смерти матери он фактически заморозил ее наследство и живет на то, что сам зарабатывает, занимаясь, вслед Константину, подрядами и играя на Бирже. Но психическая картина здесь, увы, вовсе иная. Ряжский имеет убеждения, любопытство к жизни, строит какие-то планы. Шталь же даже по виду похож на окаменелость, вроде тех, которые еще в Егорьевске отыскивал Коронин вместе с моим блажным братцем. Судя по всему, его вообще ничего не интересует и не заботит. Он живет как бы по инерции своего физического тела, и те, кто сталкивался с ним в делах, говорят, что потом им приходилось долго отогреваться, как тому мальчику, который в недобрый час повстречался со Снежной Королевой.
– Кай… – напомнила Любочка. – Он еще должен был сложить из льдинок слово «вечность»… А этот Ефим Шталь женат?
– Кажется, да, но я никогда не слышал о его браке ничего, что мне бы запомнилось…
– И как же ты собираешься привлечь этого Шталя, точнее, его деньги, к своим делам? Если его совершенно ничего не интересует, то… То он, скорее всего, даже не станет тебя слушать…
– Здесь у меня тоже есть кое-какие соображения, но мне не хотелось бы о них тебе говорить.
– Именно мне?
– Именно тебе.
– Тогда тем более скажи.
– Хорошо. Но, учти, что твое неодобрение моих планов не изменит… Так вот. У меня есть основания полагать, что, если я заявлю, что у меня есть свои, личные счеты к Софи Домогатской, которые я намереваюсь предъявить к оплате, то это не оставит его равнодушным. Он вступит со мной в контакт и…
– Николаша! А какие, собственно, у тебя могут быть счеты к Софи?! Ну, у Ефима Шталь, если судить по Софьиному роману, еще туда-сюда (хотя я вполне допускаю, что она все придумала). Но ты-то?
– Это все сейчас уже неважно, Любочка. Главное, что под эту марку Шталь согласится иметь со мной дело. Остальное – вопрос моей ловкости и сообразительности… И доброй воли князя Мещерского, конечно…
– Понятно, – протянула Любочка, и опять ее странно спокойная и неопределенная по знаку реакция почти напугала мужчину. – Что ж, планы у тебя обширные, это я теперь вижу… Мешаться в них мне не след. Ну что ж… Поглядим тогда, что из всего этого выйдет…
– Ты у меня умница, Любочка! – с чувством сказал Николаша, склонился и поцеловал сидящую женщину в напудренную щеку. – С тобою мне всегда говорить можно, а это дорогого стоит. Вот сейчас, здесь, разложил все, и самому стало яснее…
– Ну что ж, и то хорошо, – Любочка отвела взгляд. – Ты ужинать станешь?
– Стану непременно. Вроде бы и ел, а вот, отчего-то снова проголодался. От нервов, наверное. Вели подавать.
– Сейчас распоряжусь.
Любочка спокойно встала, не торопясь, вышла в соседнюю комнату и аккуратно притворила за собой дверь. Там, вместо того, чтобы пойти в коридор и кликнуть кухарку, она остановилась у этажерки с безделушками, взяла с полки металлическую статуэтку, изображающую лебедя с двумя лебедятами и, глядя прямо перед собой и плотно сжав губы, тоненькими изящными ручками уверенно посворачивала шеи всем троим птицам. Потом бросила изуродованную вещицу под стол и медленно улыбнулась себе в старинном, в тяжелой дубовой раме зеркале.
Близкая весна подступала из-за горизонта желтой лихорадочной зарей, наполняла воздух острыми запахами из каналов и подворотен. Ветер, тяжелый, как мокрая парусина, прилипал к окнам, и кому-то хотелось немедленно задернуть все шторы, а кому-то, наоборот – бежать через город к плоскому морскому берегу, смотреть и дышать.
Женщина, стоявшая в скудно освещенной комнате у окна, хотела как раз второго. Но была слишком пуглива и коротконога, к тому же страдала отеками, да и годы уже, честно сказать, были не те. Желтая полоска зари над крышами притягивала ее взгляд. Она щурила близорукие глаза, смаргивая выступавшие от напряжения слезы.
– Знаете, я ее уже почти чувствую, – сообщила шепотом, оборачиваясь, – она зеленая.
Подождала резонного вопроса «почему?» и, не получив его, протянула почти умоляюще, стискивая пухлые руки в тяжелых восточных перстнях и браслетах:
– Ирочка, до чего же вы странно на все реагируете. Не молчите, скажите что-нибудь. Когда вы так вот сидите молча, мне становится совсем не по себе.
Ее гостья играла с собаками, наклонившись с дивана. Три старые левретки, подернутые сединой, как солью, вертелись у ее ног, припадали на передние лапы, тявкали дребезжащим фальцетом. Женщина у окна стиснула руками виски:
– Прекратите! Милые! Ну, невыносимо же!
– Ксеничка, извините, – Ирен Домогатская вскинула голову, жестом показывая собакам, что – все, игр больше не будет. Хозяйка была старше ее почти вдвое, но обращения по имени-отчеству не терпела. Признаться, ей и «Ксеничка» не слишком нравилось, «Ришикеш Рита» звучало гораздо лучше, но – разве объяснишь Ирен? Молча улыбнется и пожмет плечами. Ладно уж, пусть зовет хоть так.
– Вы ведь про чистую энергию говорите, да? Она – зеленая?
Ксения кивнула, жалобно глядя на Ирен. Жалобно – потому что ей отчего-то было тяжело и неловко смотреть на эту молодую, высокую, тонкую девушку с тяжелой косой, уложенной над головой короной. Не красавица, да: слишком много резких углов, а Ксения любила плавные линии, – но так молода, и такая чистая кожа… и что ей, спрашивается, делать в Ксенином пыльном, безнадежно старом жилище?
– Я на каждом шагу чувствую доказательства правоты учителя, – заявила она, идя по комнате нарочно мелкими шагами – для того, видимо, чтобы их (и, соответственно, доказательств правоты учителя) было побольше. – Но, понимаете, мой разум так устроен, что не может объяснить… Ничего не может! – Ксения вновь прижала ладони к вискам и сообщила, глядя куда-то мимо гостьи:
– Ирочка, я боюсь.
Ирен смотрела на нее молча – ждала продолжения. В громоздких складках черной шали с блестками и длинной бахромой, в наверченном на голову бисерном тюрбане, из-за которого ее маленькая головка казалась почему-то еще меньше, Ксения была очень похожа на чирка, отъевшегося за лето. Так и хотелось глянуть на подол: не высунется ли из-под него перепончатая лапа. Можно бы посмеяться, но Ирен было сейчас вовсе не до смеха. Чирок боялся… и вполне обоснованно.
– Боитесь его, – сказала она полувопросительно.
Ксения кивнула так энергично, что бисерные подвески на тюрбане хлестнули ее по лбу.
– Вы знаете, что не зря! Ирочка, я как раз об этом хотела с вами поговорить. Я, поверите ли, разрываюсь… Иногда так совестно! Как я смею! Подозревать – его? А иногда… – она махнула рукой, не находя слов.
Одна из левреток вспрыгнула на диван и улеглась, осторожно вытянув возле Ирен узкую седую морду. Две другие, завистливо порыкивая, крутились, нервно взглядывали то на хозяйку, то на Ирен: почему не гонят с дивана? Несправедливо же!
– Погодите, я вам сейчас все объясню, – Ксения уселась было на низкую оттоманку, но тут же поднялась, подошла к дивану, склонилась, рассеянно гладя собак:
– Тише, милые, тише… Знаете, мне в прошлом месяце сказали одну странную вещь. Как будто дядя… ну, мой дядя Владимир Павлович, князь Мещерский – понимаете? – бросила быстрый взгляд на Ирен и снова начала гладить левреток. – Будто он мне собирается оставить состояние. Я его самая близкая родственница. Детей же нет…
Ирен машинально кивнула, морщась от безуспешных попыток понять, причем тут дядя Владимир Павлович. То, что с Ксенией не все в порядке (вернее – все не в порядке!), она видела отчетливо – точно так же отчетливо, как желтую полосу зари в окне. Эта желтизна обвивалась вокруг отечных Ксениных щек, обхватывала их будто жестким монашеским платом… Но князь Мещерский? Кто же тут виноват?..
– Я не думаю, что это правда. У дяди есть и без меня кому деньги отдать. Хоть своему клубу, он говорил как-то… Вы согласны?
– Почему же клубу, а не вам?
– Вот! И он мне так же сказал. Я, Ирочка, с ним советовалась. Вернее, не то, чтобы… Просто сказала, как бы нам всем, всему нашему Ex Oriente Lux, – Ксения резко понизила голос, произнеся латинскую фразу нараспев, как заклинание, – пригодились бы эти деньги. И вдруг у него стало такое лицо… такое… такое острое, как нож.
– У него всегда такое лицо, – сказала Ирен тихо.
– Нет! Вы не видели и не говорите. Понимаете, он вдруг понял – и решил… Но что? Решил, что не надо этих денег? Я так всегда и думаю. Я думаю, что от денег вся моя жизнь… ну, не получилась.
Она вновь села на оттоманку, и две левретки тотчас же принялись суетливо устраиваться рядом, а за ними и третья, без сожаления покинув диван. Ксения обняла их обеими руками. Ирен молча ждала, что она еще скажет. Сидела неподвижно и прямо, как за гимназической партой. Ксения вдруг подумала: да она сейчас вскочит и убежит! Не станет слушать наговоров на учителя.
Но разве она, Ришикеш Рита, – наговаривает?
Ей стало так обидно, что перехватило горло. Зачем она откровенничает с этой девочкой? Чуть было не рассказала ей, как выходила замуж по большой любви, против воли матери… за человека, которому были нужны ее деньги. Как банально! А она столько лет думала, что во всем виноват камень. Сапфир «Глаз Бури», который у нее похитили.
– Я снова боюсь ошибиться, Ирен. Я слишком дорожу нашей общиной и нашей истиной, чтобы… Я этого не перенесу.
Последние слова она еле договорила сиплым сорвавшимся голосом.
Ирен тряхнула головой, будто сбрасывая наваждение.
– О чем вы, Ксеничка? Ему… Ачарье Дасе ваши деньги совсем не нужны. Он и свои-то отдал! С чего вы взяли?
– Да! Конечно же! Тем более, что денег-то никаких нет. Я пытаюсь это всем объяснить, но мне не верят…
– Кто не верит? Кому вы об этом говорили?
Вот, опять насторожилась. Ксения смотрела на Ирен пристально, забыв, что подозревает вовсе не ее, а учителя. Вернее – что значит подозревает? Она и не думала его подозревать! И не понимала, когда и как влезла в ее голову эта неотвязная мысль: будто он хочет отправиться в новое дальнее путешествие на ее, Ксенины, деньги.
Ирен была, конечно, не первой, с кем она этой мыслью делилась. Но – первой, кто явно принял ее слова близко к сердцу. С чего бы, если это такая чушь, как она уверяет?
– Ирен, милая, скажите мне определенно: успокойся! И я успокоюсь. Но прежде будьте спокойны сами. Я ведь для того вас и позвала, доверяя вашему… вашему третьему глазу.
– Третьему, четвертому, пятому, – беззвучно (чтобы не услышала и не обиделась Ксеничка) пробормотала Ирен, раздраженно хмурясь. Поднялась, собираясь уходить. Нет, не бежать без оглядки, просто уходить. Одна из левреток последовала за ней, извиваясь, как рыба-игла, и ловя настороженными ушами ничего не значащие прощальные слова.
Вижу, что не следует мне успокаиваться, подумала Ришикеш Рита.
Заря еще не погасла, но на тихих улицах стояла сумеречная тишина. Пустые улицы с внезапными крутыми поворотами, из-за которых непременно должен был выйти кто-то неожиданный и страшный – но не выходил. Вязкое, слегка светящееся небо – точно как в июне, в пору белых ночей. Остатки почерневшего снега в тяжелой тени подворотен. Ирен миновала их одну за другой, оставляя дробное эхо шагов под темными сводами. Она шла очень быстро, даже не пытаясь найти извозчика и почти дошла уже до дома на углу Фонтанки и Вознесенского… как вдруг остановилась, будто вспомнив что-то чрезвычайно важное. Постояла, наверно, с полминуты. Потом повернулась и почти бегом бросилась назад.
В доме, второй этаж которого занимала квартира Ксении Благоевой, не светилось ни одного окна. От улицы его отделяла широкая полоса газона, покрытого сейчас растаявшей снежной кашей, изящная решетка и ворота. Совсем недавно, когда Ирен проходила в эти ворота, они стояли распахнутые, а теперь с ними возился дворник в черном тулупе, аккуратно проталкивая меж прутьев толстую цепь с болтающимся замком.
– Подождите… – начала Ирен. И замолчала.
Стукнула дверь подъезда. Высокая худая фигура в чем-то темном и длиннополом, отделившись от двери, обозначилась на фоне светлой стены.
– Эй, любезный, открой-ка ворота, – услышала Ирен и стремительно шагнула назад, скрываясь в сумерках.
В которой бывший следователь Кусмауль принимает у себя князя Мещерского, а Грушенька Домогатская в Сибири вспоминает встречу с попутчицей
– Гусик! Здравствуй, любезный друг! Сколько лет…
– Вавик! Ты ли? Здесь?! Господи Боже! Какими судьбами?
Два старика вполне щегольского вида порывисто обнялись и расцеловались на пороге небольшого, но весьма ухоженного и уютного на вид сельского каменного дома. Потом отстранились и внимательно-придирчиво оглядели друг друга.
– Все тот же, все тот же, чертяка немецкий! Годы тебя не берут! – с искренним восхищением воскликнул приезжий.
– Лиса! Как был лиса, так и остался! Льстишь ведь, безбожно льстишь старому служаке, давно списанному в расход, – ответил явно польщенный комплиментом хозяин. – Куда нам до вас! Это вы там в сферах вращаетесь, министров как колоду тасуете, государю мемории пересказываете… А мы тут… ягодки, цветочки… гнием помаленьку…
– Да не прибедняйся ты, не прибедняйся! На воздухе, да на покое, это для нас, стариков, да для здоровья куда полезней. Вон ты румяный какой, да гладкий! А мы все суетимся, суетимся в столице, интригуем, да подсиживаем друг друга, а здоровье-то оно и того… Право, я о том годе все зеркала велел из своих покоев вынести! Мочи нету смотреть, слезы сразу… А из чего суетимся, и сказать невозможно, если как следует, на покое, рассудить. Да… А ты, Гусик, – железная немчура, достиг. Я уж вижу, как у тебя тут все… Комар носа не подточит. Помню же, как ты как раз о такой усадебке и мечтал, когда на покой удалишься… Покажешь мне? Похвастаешься?
– Беспременно, дражайший Владимир Павлович, беспременно все тебе покажу и разъясню. А только сначала пройдем в дом, расположишься, чаю выпьем, откушаем, чем Бог послал. Тебе, должно, переодеться надо…
– Да уж следовало бы… С вашими-то дорогами, – приезжий с неудовольствием оглядел свой вполне чистый дорожный костюм, счистил с лацкана несуществующую грязь, подул на рукав и брезгливо отвернул кружевную манжету. – Все испачкалось… Герасим, голубчик, поди сюда, не стой столбом! Неси мой кофр туда, куда тебе укажут…
Сопровождаемые слугами, старики прошли в дом. При некотором к ним внимании легко было разглядеть, что щегольство их двух разных родов. Хозяин и в старости оставался как-то слегка по-казарменному подтянут, его ухоженность и опрятность была откровенно гигиенической, с явной отдушкой железного запаха гантелей и мятного порошка для чистки зубов (вполне прилично, несмотря на возраст, сохранившихся). Приезжий, выше ростом, с обрюзгшим породистым лицом, был расслабленно спокоен, уверен в себе и одновременно слегка излишен в мелких движениях. Его несколько потасканная элегантность и удивительная смелость цветовых сочетаний в наряде почти открыто изобличала приверженность к эллинистической любви.
После довольно длительного перерыва, который понадобился Владимиру Павловичу, чтобы привести себя в порядок, хозяин и гость сошлись на светлой веранде, которая с северной стороны была украшена разноцветными витражами. Белокурый, безбородый мужик, в котором, несмотря на откровенно славянскую внешность, угадывалась немецкая выучка, проворно накрыл на стол, расставив на белой крахмальной скатерти немудреные, но полезные для здоровья закуски: редисовый салат с подсолнечным маслом, ветчину, сыр, сметану, такую густую, что в ней вызывающе стояла серебряная ложка, порезанные вдоль огурчики со свежим гусиным паштетом, яйца, фаршированные смесью из соленых грибов и пр. и пр.
– Уж не побрезгуй, после дворцовой-то кухни… – усмехнулся хозяин, едва скрывая действительную тревогу: а вдруг не угодил?
Тревога была напрасной. Проголодавшийся в дороге Владимир Павлович охотно и искренне отдал дань закускам, и тушеным в щавелевом соусе рябчикам, и карасям в сметане, и пирогам, и «царскому» золотому варенью из крыжовенных ягод…
После еды разговор потек легкий, сытый и непринужденный. Оба сошлись на том, что кофий и табак в их возрасте уже вредны для цвета лица, а портвейн можно откушать и на месте, и остались сидеть на веранде в покойных полукреслах с удобными подлокотниками и мягкими вышитыми подушечками под сидячим местом (оба старика уже много лет периодически страдали от геморроя и в полной мере могли оценить их удобство). В основном вспоминали о давних победах и проказах времен ушедшей молодости. Прогулки под кустами благоухающей сирени в сумраке белых ночей. Актеры, юнкера, флейтисты, барабанщики… Биллиард, который завел у себя Владимир Павлович (как известно, в увлеченности этой игрой игрокам приходится сильно наклоняться)…
После, не прерывая вовсе приятной беседы и воспоминаний, осматривали усадьбу – предмет законной гордости владельца.
Все в усадьбе было вылизано до почти невероятной чистоты и правильности очертаний. Казалось, что даже пестрые утки в небольшом пруду (для их гнездования специально была выстроена на мостках ладная крохотная избушка под зеленой крышей) плавают не иначе как строем.
– Ну как? Ну как? – заглядывал в светло-карие глаза, ждал одобрения хозяин.
– Ну немец, ну немец! – послушно цокал языком и качал крупной головой Владимир Павлович, будучи вполне равнодушен к прудам и газонам, но зная доподлинно, чего ожидает от него давний приятель. – Утешно, Густав Карлович, утешно у тебя тут, слов нет как. Просто душой отдыхаешь. Как вот представишь себе, что в этой вот беседочке, виноградом увитой, да на мягких подушках, да под соловьиные трели… А это у тебя что? Стена-то почему толстая такая? Хотел еще что-то выстроить, да передумал?
– Это мое собственное устройство! – с гордостью объяснил Густав Карлович. – С чертежами мне немного сосед Бельдерлинг помог, а так – моего произведения проект, от начала и до конца. Гляди: в доме у меня камин и две печи. Стена эта как раз с домом соединяется, но нынче того не видно, потому что там кусты специально посажены. А вот внутри этой стены трубы проходят, по которым теплый воздух как раз и сюда и подается…
– Да зачем же тебе, Гусик, кирпичную стену в саду отапливать вздумалось? – искренне удивился Владимир Павлович.
– Да рассуди ты, чудак: я более всех цветочных родов розы люблю. А в Петербургской губернии даже здесь, на юге, климат для них не больно-то подходящий. Мерзнут они здесь, понимаешь? А поскольку эта стена всегда теплее окружающего ее ландшафта, то вкруг нее моим попечением создается как бы особый микроклимат. И так розочки мои на шпалерах и грядах все вдоль нее выживают и цветут мне на радость и удовольствие. А вот, взгляни, я здесь еще и южные деревца до совокупности посадил. И тоже, заметь, неплохо себя чувствуют. А в парниках я додумался использовать тепло, выделяющееся при гниении опавшей листвы…
– Да уж, да уж… – согласился Владимир Павлович. – Все-таки до того, до чего немец из экономии или уж из фантазии додумается, русскому человеку и в голову не придет. Немец слепит аккуратненько из говна конфетку и сам радуется и других радует. А русский и из природной конфеты такое, прости Господи, произведет…
– Да ладно тебе, ладно, захвалил… Тебе ж неинтересно это, я ж вижу, ты ж политикой все да государственными делами, это тебе в удовольствие…
– Да брось ты, Гусик, мне эта политика давно уж поперек глотки встала. Однако впрягся – тяни. А вспомню, как в молодости стряпчим был, и с вашей же немецкой кодлой на острова ездил, с горок катались, на гармониках играли… Вот ведь когда веселье-то было! Настоящее, без дураков! Разве теперь такое бывает? Помнишь? Булошницы такие в теле все, ванилью пахнут. Хлеб ситный, духовитый, с крупной солью, большими ломтями. А немчики все как на подбор молодые, чистенькие, аккуратненькие… А у тебя, Гусик, как сейчас помню, тогда такие усики были – сногсшибательные просто!
Густав Карлович поспешно отвернулся, поправил покосившуюся за зиму шпалеру, украдкой, согнутым пальцем утер выступившую в уголке глаза слезу.
После прогулки, растрясши члены и проголодавшись, опять откушали пирогов, выпили портвейна.
– Ну что ж, Владимир Павлович, шуточки и болтовню побоку. Рассказывай теперь, что тебя ко мне, отставному судейскому следователю, привело? – остро блеснув глазами, спросил Густав Карлович. – И не надо «ля-ля», Вавик. Никогда я не поверю, чтоб ты, князь Владимир Павлович Мещерский, тащился в своей карете с гербами в самую глушь Лужского уезда только для того, чтоб на мои парники да на мою лысину взглянуть…
– Ну ладно, ладно, не стыди, Гусик, – замахал руками Владимир Павлович. – Я и вправду давно тебя повидать хотел. С кем нынче вспомнишь, вот как мы с тобой… Но – да, да, да! – оборвал он сам себя, поймав взгляд Густава Карловича. – Дело у меня к тебе есть, просьба. Неофициальное дело…
– Да уж понятно, – вздохнул Густав Карлович. – С официальным делом ты бы в официальные инстанции и обратился. Небось, ты в столице не без возможностей, не последний, как-никак, человек… Ладно, рассказывай, да поподробней.
– Видишь ли, Густав Карлович, дело в том, что десять дней назад кто-то убил мою двоюродную племянницу – Ксеничку Мещерскую, по мужу Благоеву. Не знаю, слыхал ли ты о ней…
– Не лукавь, Вавик! – строго прикрикнул на князя старый следователь, от одного упоминания о преступлении как будто сразу облачившийся в воображаемый мундир. – Прежде, чем ко мне ехать, ты уж наверняка разузнал, что с Ксенией Благоевой я был очень даже знаком, и вел то дело о пропаже сапфира из их особняка, и после…
– Ну разузнал, разузнал. Тебя не проведешь…
– Разумеется, а ты что думал? Рассказывай дальше. Так, значит, Ксению убили? Как? Где? Есть ли улики? Что – полиция?
– Убили ее в собственной гостиной. Ночью или уж под утро, это точно неизвестно. Что она там, полностью одетая, делала, никто не знает. Нашла тело служанка, когда утром вошла.
– Каким способом убили?
– Задушили. Чем – тоже неизвестно. Чтоб это ни было – убийца унес с собой.
– Следы?
– Похоже на то, что она сопротивлялась. Но слабо и, видимо, только в самый последний момент.
– То есть, убийца был ей знаком и она до того с ним разговаривала? Может быть, пила чай? Вино?
– Возможно. Это надо спросить у слуг или у полицейских. Я тебе все предоставлю.
– Но никто из домашних, разумеется, никого не видел?
– Разумеется. После смерти мужа Ксеничка жила одна. Прислуги у нее тоже было немного. В основном, приходящая. Держала трех левреток. Вот! Одна из левреток тоже найдена задушенной. Но – на лестнице. Не могу понять, что это значит…
– Должно быть, собачонка пыталась отомстить… Что-то пропало?
– На первый взгляд, ничего. Драгоценности Ксенички на месте. Скорее прибавилось…
– В каком это смысле? – насторожился Густав Карлович.
– Да там же, в гостиной, рядом с Ксенией нашли какую-то дурацкую книгу… Все в один голос говорят, что у Ксении такой сроду не было…
– Отчего же книга – дурацкая?…
– Густав Карлович, голубчик… – Владимир Петрович нахмурился и почесал нос. – Это вот как раз то, отчего я именно к тебе и приехал. Дело это… ну, как бы тебе объяснить…
– Объясняй прямо, не ошибешься.
– Хорошо, попробую. Ксения, как ты, может, помнишь, была дама невеликого ума. Но я ее, впрочем, всегда любил и жалел, потому что даже в несчастии своем она оставалась безобидной и простодушной, а такое в наше время – редкость. Муж ее был редкостный негодяй, хотя она его когда-то и любила, и Ксеничку своей игрой и долгами едва не разорил дотла. Хорошо, что умер, не докончив дела. Детей у них, как ты знаешь, никогда не было. Так вот, наперекор довольно безрадостной судьбе, едва ли не с юности, а уж к зрелости-то (если можно так про Ксеничку сказать) наверняка, Ксения увлекалась всякими мистическими штучками. Ну, это и тебе не хуже моего известно. Вся давняя история с сапфиром была на этом закручена. Так вот… Спиритические сеансы, духи, блюдца и прочая дребедень… Как-то все это ее утешало, должно быть, помогало жить. Кто судить возьмется? Последнее время появились во всем этом какие-то новые нотки. «Просветление» «Истина» «Свет с Востока». Раньше-то она все какой-то местной нежитью ограничивалась. Вроде бы даже какой-то Учитель у нее появился. Точно-то я не знаю, но такое придыхание у Ксенички в голосе слышалось, когда она мне о том рассказывала, что я еще тогда подумал: «будьте, нате, как бы до беды не дошло». И вот, получается, накликал! Боюсь, что вся эта история как раз по «мистической» линии и случилась. Ксения тут выглядит явной безумицей, а что еще за этим стоит, даже и думать не хочу… Сам понимаешь, не слишком-то хочется, чтобы полиция во всем этом копалась…
– Это все? – спросил Густав Карлович, испытующе глядя на князя.
– Нет, – поколебавшись, ответил тот. – Может быть, все ксеничкины закидоны тут и вовсе не причем. Может, это ко мне подбираются…
– Как так? Что тебе – Ксения?
– У меня, как ты знаешь, официальных детей тоже нет. Ксеничка – одна из моих наследниц… Была…
– Кто-то хочет увеличить свою долю?
– Не исключено. И, значит, возможны еще убийства. Я того не хочу. И еще… В этой дурацкой книге были обведены чернилами две фразы на… арамейском, кажется, языке. В университете мне перевели. «Кто высоко поднялся, тому высоко и падать…» и «Зло приходит в мир из небытия, и горе тем, через кого оно приходит». Рассуди сам, какое отношение это может иметь к Ксеничке?!
– Да, пожалуй, никакого, – согласился Густав Карлович и надолго задумался.
– До Каинска сорок верст. Подрядиться – довезут. Только возьмут много… Если сережки отдать гранатовые, это будет много или наоборот? Конечно, много! Обойдутся. Хоть и некрасивые сережки, а жалко… Значит, до Каинска доезжаем и там ждем поезда. Дня три, ну – неделю, ладно! А сколько до Питера поезд идет? Еще ж пересаживаться, в Челябинске вроде. Точно, в Челябинске. И пересядем, подумаешь. Потерпим. Вот так: стиснем зубы и потерпим. Зато уж когда приедем домой…
Торопливый шепот стих. Маленькая, тощенькая женщина, склонившаяся над устроенной на сундуке детской постелью, выпрямилась и потянулась, закинув руки за голову. Огонь из печки освещал ее сбоку. Острое лицо – то ли старушечье, то ли девичье, глаза с припухшими веками, в тенях, бледноватые губы, дрожащие в мечтательной улыбке.
– Поедем домой, Людмилочка? А? Поедем? Бабушку повидаешь, дядю, братиков двоюродных. Я тебя в Луге сразу на карусель поведу. У нас карусель такая, знаешь – быстрая-быстрая… с лошадками…
Она запнулась и нахмурилась, будто припоминая, какие именно лошадки на карусели в Луге, да и есть ли она там вообще. Ребенок, к которому был обращен монолог, беззвучно спал на сундуке, съежившись в комок под пестрым одеялом. Женщина, высоко подняв голову, уставясь неподвижным взглядом в потолок, громко всхлипнула. И, не меняя позы, двинулась через комнату к столу с лампой, под которой было брошено шитье. Она уже не улыбалась, и выражение лица было такое, будто лишь чрезвычайное усилие воли удерживало ее от воплей и битья головой о стену.
Если б кто увидел ее сейчас, очень бы удивился. С чего такой надрыв? В славной сонной тишине деревенского дома, полного запахов смолистых поленьев, сгорающих в печке, свечного воска, антоновских яблок и чуть пригоревшего молока, из которого только что варили кашу для ребенка. В окружении уюта, который Грушенька Воробьева – ныне Домогатская – умела создавать в любом своем жилище, хоть в гостинице, хоть в шляпной мастерской. Абажуры, наволочки, коврики, скатерти с кружевной каймой – все не пустое, не как у толстой дуры Дашки, а как бы слегка потертое, как бы с историей! – и готово жилье, из которого уходить не хочется.
Как же, не хочется. Из каждого своего жилья она стремилась бежать без оглядки! Не было ни одного, которое бы очень скоро ей не постыло. А уж это… Часто она думала со злорадством: вот, брошу посуду мыть да полы скрести, пусть пылью все зарастет, тогда будет точно так, как надо. Как быть должно! Когда внутри пыль… Она смотрела на мужа, и ей казалось, что эта пыль вылетает из его рта при каждом выдохе, будто пар на морозе.
Длинно заскрипела наружная дверь, что-то с лязгом рухнуло в сенях, Грушенька, очнувшись, метнулась к спящей дочери: проснулась?.. Засыпала-то Людочка быстро, но разбудить ее мог даже топоток пробежавшей мыши. И уж тогда – слезы и баюканье на полночи.
Гриша об этом, конечно же, нисколько не думал. Иначе б не вошел, громко стукнув дверью, задев длинной полою табурет, который с сухим треском проехал по полу и тоже, как ведро в сенях, рухнул бы, если б Грушенька его не подхватила. Людочка, вскинувшись в ворохе одеял, испуганно захныкала. Гриша молча прошел в угол, не глядя ни на кого, сел на стул, втиснутый в узкое пространство между столом и окном. На полу от него остались мокрые следы. И сам – Грушенька, занимаясь ребенком, бросила быстрый косой взгляд, – промок насквозь. Еще бы, который день дожди, а он все бродит. Теперь опять начнет кашлять, если не хуже. Его бы переодеть, растереть, напоить горячим. Грушеньку передернуло от одной мысли, что, хочешь не хочешь – надо этим заниматься. Это ее долг, она – жена!
– …Долг, наш долг, вот главное! – шептала, наклоняясь к ней и быстро моргая выпуклыми, как у ящерицы, глазами, попутчица, с которой они ехали в поезде от Тюмени до Каинска. – Мы, жены, должны быть не свинцовыми гирями на ногах наших мужчин, мы должны обеспечить им все условия для плодотворной деятельности! Вы понимаете? Понимаете, какая на вас ответственность?
Грушенька с готовностью кивала. Дело было прошлым летом, она ехала к новому Гришиному поселению, куда его перевели в виде милости, – и, хотя и намучилась с постоянно хнычущей и прибаливающей Людочкой, была полна радостных предвкушений. Будущая жизнь в деревне ее не пугала. После обских-то болот – чего бояться?! Коровку заведем, курочек. Гриша будет учительствовать. В революцию-то небось уж наигрался – и слава Богу.
И, опять же: Петербург со всей его заносчивой родней, с вечной Софьиной тенью над душой – чем дальше, тем лучше.
Попутчица, хоть и велела звать ее попросту Надюшей, была дворянка – как и Гриша, польских кровей. И, точно как Гриша, все толковала о долге, сгоранье на каких-то кострах и о том, что право на светлое будущее имеют только трудящиеся. К жениху, ссыльному в Енисейской губернии, она ехала не просто так, а с делами, ясное дело, революционными. О делах этих она не могла говорить из соображений конспирации, а о чем-то постороннем – потому, что увязла в революции, как стало понятно Грушеньке с первых минут, – по самые ушки и ничем больше не интересовалась. В том числе и детьми: на Людочку взглянула кратко и с осуждением.
– Это вы зря. Дети – наша ахиллесова пята. Ну, уж коль не убереглись, заимели – так хоть в Тюмени бы оставили…
Грушенька передернула плечами, но возражать не стала, с этими одержимыми спорить – себе дороже, только подумала торопливо: мой Гриша не такой, не такой! И дальше разговор вертелся вокруг трудностей пути, мерзавцев-чиновников, которых легче застрелить, чем выправить у них нужную бумагу, а главное – мужниных великих подвигов и жертв, кои грядущими поколениями непременно будут оценены и воспеты. На все эти темы Надюша высказывалась одинаковой обыденной скороговоркой, походя употребляя столько трескучих иноземных слов, что у Грушеньки, хоть она и прошла Гришину школу, моментально разболелись зубы.
– Кругом первобытная тайга, царь и бог – полицейский пристав, и в соседях одни чернопередельцы. А Володечка уже с ними все решил, вы ведь его блестящую статью о ложных друзьях народа, конечно, читали? Для него они уже неактуальны, ergo, скучны. Скука – первый враг мыслящего человека! Плюс – артрит, еще с тюрьмы, и морозы совершенно противопоказаны. Как вы полагаете, польза изделий из собачьей шерсти не преувеличена? Я везу…
Она демонстрировала изделия из собачьей шерсти – носки, шарфы, варежки, – Грушенька их разглядывала, озабоченно думая: Грише ведь тоже нельзя на морозе. Он такой, чуть ветерок, и простужается. Надо б и ему… Это с каких же собак такая пряжа выходит? Неужто с простых дворняжек?
– Именно, – энергично кивала Надюша, с силой втыкая шпильки в косу, скрученную тугим узлом, – я вам, если хотите, изложу технологию. Конечно, это едва ли панацея. Но мы должны использовать любые средства, чтобы помочь товарищам!
Товарищ, сообразила Грушенька, это муж. Вот интересно – она низко склонила голову, пряча смешок, – ночами-то они тоже всё только о революции? А что: с ней Гриша так и пытался, пока она его не окоротила. Да и теперь иногда…
…Теперь он не разговаривал с ней ни о революции, ни о чем другом. В последнее время завел новую привычку: уходить из дому и по целым дням бродить неведомо где. Сперва-то Грушенька обрадовалась: никак, ожил! – но скоро стало ясно, что хожденья эти не к добру, и как бы он не забрел туда, откуда вовсе не выбраться!
И пусть бы забрел, подумала она, со злостью стискивая зубы. Пусть бы его в тайге медведи сожрали… Взгляд тотчас метнулся к углу, к иконе за вышитыми полотенцами: прости, Господи, грех, грех! Надюша, та бы ни за что… Да ну ее, Надюшу! У нее благоверный, небось, так не мается! Статейки сочиняет одну за одной, а если куда идет, так на охоту, с собаками, с которых она потом шерсть вычесывает. Бодрый, румяный, песни поет, как мужичка увидит – непременно остановится, пошутит, поговорит о жизни. А этот?! Какого ж черта, ежели такой нежный, полез в революцию?
И от Софьи, как назло, – ни словечка. Зря ей писала. Небось, подумала, что она, Грушенька, просто избавиться хочет…
Если б его в тайге медведи сожрали, она бы ни минуты здесь не осталась! А что? Птица вольная – честная вдова! Людочку в охапку и…
– Гриша, ты хоть пальто сними. Течет же с него, весь пол мокрый. И застудишься… Да ты меня слышишь?
– Что?..
Поднял голову, посмотрел – не на Грушеньку, непонятно, куда. Глаза больные-больные. Ей сразу стало его жалко, она сказала себе: это по привычке. Он-то меня не жалеет. Сгинь мы с Людочкой – заметит ли? Разве что молока будет некому подать.
– Снимай, говорю, пальто, а я сейчас молока согрею. Чай, не лето! Да и лето-то здесь…
– А! Да, – он послушно кивнул, стаскивая пальто. В тесном углу ему было неудобно, но он и не подумал даже привстать. Смахнул рукавом кружку со стола, Людочка, услышав звон, начала плакать в голос. Грушенька резко обернулась:
– Замолчи! Замолчи, сказала!..
– Ты почему кричишь?
Она воззрилась на него с удивлением. Он, моргая, тер лоб, словно его разбудили среди ночи.
– Я кричу? Да я бы так рявкнула! Так бы завопила, кабы знать, что ты от этого опомнишься! Да куда тебе!..
Он поморщился от ее громкого голоса и оттого, что приходилось слишком активно двигаться, избавляясь от пальто. Грушенька больно прикусила губу, глядя, как блики печного огня играют на его втянутых скулах. Красив… да: и теперь красив, разве что волосы уже не пышным крылом – обвисли, и не потому, что дождь, они у него теперь всегда так. Ну, и что ей с этого принца? Ни дворца, ни венца, ни алого цветочка.
– Это все сестра твоя, она виновата, – ее тихий голос утонул в Людочкином плаче. Да она и не рассчитывала, что он услышит.
– Моя… сестра? Софи? Почему?
Удивительно: услышал и, кажется, даже заинтересовался! Грушенька быстро подошла к сундуку, отбросила пестрое одеяло и, подхватив ребенка на руки, стала расхаживать по комнате, укачивая, вернее – встряхивая монотонно и зло.
– Хватит реветь, говорю, спи! Ну, что мама, что мама? Нет здесь пауков! Один наш папенька есть – хуже паука!.. Чем виновата, спрашиваешь? Да вот этой самой своей проклятой книжкой про сибирскую любовь! Про Машку хроменькую! Я прочитала, дура, разнюнилась – а тут и тебя увидела, и все, полетела душа в рай!
– Грушенька, ты не могла бы кричать потише?
– А тебе чем не нравится? Головка болит? Иль голосок мой не флейтой? Так он у меня всегда такой был, ты ж про меня все знаешь!
Он встал, держа пальто за воротник, растерянно и неприязненно оглядел комнату, ища, куда б его пристроить. С Грушенькой он явно не собирался больше разговаривать. Господи, отчаянно подумала она, до чего ж я ему в тягость. Как же он жалеет, небось, что поднял меня, гулящую, из грязи, возвысил, имя свое дал! На что ему жена такая? Да и вообще, любая жена ему на что?
А мне-то он…
– Кабы не ты, я бы разве тут сейчас была? Скопила бы денег. Мастерскую бы открыла швейную. Нашла бы человека хорошего, вон, как Дашка… Жила бы сейчас! Ребеночек уж конечно не такой бы чахлый уродился! Ну! Куда ты меня загнал со своим благородством и своей революцией?!
Она топнула ногой. Людочка от страха перестала реветь, вцепилась в ее платье.
Гриша не ответил. Ей казалось, он вообще не слишком понял, о чем она – и хочет одного: чтобы его наконец оставили в покое.
В которой кричит попугай, а Софи Домогатская читает первое из полученных ею писем и вспоминает о прошлом
Софи, двигаясь все еще слегка машинально, так, словно все ее члены недавно замерзали до почти неподвижного состояния, ушла куда-то вглубь дома. Видимо, отправилась распорядиться и проследить за тем, как устроят Джонни.
Мария Симеоновна перевела острый, испытующий взгляд на сына.
– Ты хочешь что-то сказать, – утвердила она. – Что ж молчишь?
– Мне кажется… – Петр Николаевич облизнулся и в задумчивости прикусил кончики пшеничных, ухоженных усов. – Мне кажется, что вы, маман, поступили несколько опрометчиво, когда едва ли не одобрили всю эту затею и фактически благословили Софи на ее развитие и продолжение…
– Ты имеешь в виду этого несчастного ребенка? Но Софи уверяла нас, что он не опасен для детей и прислуги. Это не так? Ты что-то знаешь?
– Нет, я имею в виду не Джонни. Речь идет об этом наследстве… Я твердо полагаю, что Софи должна как можно скорее отказаться от него!
– А что с ним? – еще оживилась Мария Симеоновна. – На нем какие-то долги? Ты уже узнавал? Ловко, не ожидала от тебя… Особняк заложен? В бумагах какая-то путаница? Но, может быть, с нашей помощью Софи еще удастся все поправить? Отказаться от наследства – самое простое, и это никогда не поздно. Сначала, мне кажется, нужно попытаться во всем доподлинно разобраться, посоветоваться со знающими людьми… Вы согласны со мной, Кирилл Андреевич? – Марья Симеоновна оборотилась к гостю-старичку, который поспешно закивал.
– Именно разобраться, Марья Симеоновна. Непременно разобраться… Со знающими…
– Мама, вы не даете мне слова вставить! – раздраженно сказал Петя. – Этот особняк не заложен, на нем нет долгов. Нотариус, который к нам приходил, специально это подчеркивал. И все бумаги, насколько я понимаю, в полном порядке. Дело в том, что он…
– Так что же – он? – нетерпеливо воскликнула Мария Симеоновна. – Ты можешь, наконец, говорить без предисловий?!
– В этом особняке расположен публичный дом. И умершая «подруга» Софи была его хозяйкой.
– Оп-па! – маленькие, выцветшие глаза Кирилла Андреевича забавно округлились, сделавшись похожими на обтянутые ситцем пуговички на девичьем платье.
– Публичный дом? – несколько озадаченно повторила Мария Симеоновна. – Как это так?
– Официально там расположен гадательный салон. Но все всё, естественно, знают. Салон старый, довольно высокого, должен тебе сказать, уровня. С восточным уклоном. И посетители там бывали весьма значительного ранга… В том числе и из высшего света, я хотел сказать… Теперь ты понимаешь, почему Софи должна отказаться немедленно?! Ты только представь, что кто-нибудь из наших знакомых услышит о том, что Софья Павловна Безбородко получила в наследство публичный дом!.. Кирилл Андреевич, я надеюсь, что вы…
– Разумеется, разумеется, Петя, голубчик! Как вы могли подумать! – Кирилл Андреевич закрыл рот обеими ладошками, показывая тем самым, как окончательно его молчание, но потом раздвинул тоненькие пальчики и одновременно лукаво подмигнул Петру Николаевичу. – Софьи Павловны тут нет, так что… осмелюсь спросить: а вы сами-то бывали в том заведении?
– Тьфу! – едва ли не подпрыгнул Петя. – Нет, конечно! Маман! Что ж вы молчите?!
– Я думаю, – резонно отозвалась Мария Симеоновна. – То, что ты сказал, это, конечно, все усложняет… Но если сам особняк свободен от долгов и не заложен, то что нам мешает принять наследство и оборудовать в нем что-то другое?
– Мама! Что ты говоришь?! Моя жена будет заниматься переоборудованием публичного дома?! Ходить по этим лестницам, гостиным, спальням и ванным комнатам? Давать расчет девицам?!
– Ну, она совершенно не обязана заниматься этим сама…
– Это должен сделать я? Какое-то выбранное нами доверенное лицо? Ты только представь себе слухи, которые опять поползут в обществе… Господи, только-только все утихло! Нет, она должна немедленно отказаться! Пока никто не узнал…
– Дорогой мой! – решительно сказала Мария Симеоновна, отталкиваясь от подлокотников и поднимаясь с кресла. – Когда десять лет назад ты решился сделать предложение беременной Софи Домогатской, наплевав на всю ее предыдущую историю, внимание всех сплетников Петербурга было направлено на нашу семью. Я пережила это, хотя и порадовалась про себя, что твой отец уже в могиле и не видит всего этого безобразия. Знаешь, я, может быть, никогда из воспитания тебе этого не говорила, но в тот момент я даже испытала к тебе род уважения. Это был все-таки поступок, что ни говори. Но, голубчик, решившись жениться на ней, ты ведь не мог же не догадываться о том, что Софи вовсе не изменится, обойдя с тобой вокруг аналоя. Она осталась все той же Софи Домогатской (и не случайно все свои романы она публикует именно под этой, девичьей фамилией). Ты до сих пор удивляешься этому? Что ж, тогда ты глупее, чем я полагала. Мне казалось, что именно неистовая жизненная сила Софи, ее невозможность вписаться ни в какие предписанные ей рамки и привлекла тебя когда-то, заставила сделать единственный за всю твою жизнь решительный шаг… И, коли все так сложилось, я не собираюсь делать это свалившееся на Софи наследство выморочным и дарить его российскому государству. Если ты отказываешься, а Софи позволит, я сама займусь им. Я уже слишком стара, и моему доброму имени в любом случае ничего не угрожает. Я быстро превращу этот особняк в конфетку. Вы еще будете устраивать там приемы… А если Софи не захочет, его можно привести в порядок и продать, и тогда мы сможем, наконец, купить Красные покосы и кусок Марьиного леса, и построить там дачи, как я давно собиралась. Там с холма открывается прекрасный вид… Дачи мы станем сдавать в аренду…
– Мама! Остановись! Одумайся! Что ты говоришь?!
Но Марию Симеоновну уже понесло. Она увидела для себя новое поле деятельности, и не могла и не хотела останавливаться. Все в усадьбе Люблино было давно налажено и работало как часы. Всякие сельскохозяйственные усовершенствования, которые Мария Симеоновна время от времени отыскивала в газетах и специальных каталогах, покупала и немедленно вводила в своем хозяйстве, не могли полностью занять ее все еще крайне деятельную натуру.
– В конце концов, мне всегда нравился восточный стиль! – словно вбивая гвоздь, заявила Мария Симеоновна, собираясь уходить.
– Если вам, душечка, понадобится помощник, я всегда готов… – проблеял Кирилл Андреевич. – Право, неловко вам одной… Я мог бы с радостью сопроводить… У меня как раз нынче в делах промежуток. Думал: съезжу-ка в Марии Симеоновне, у нее всегда что-нибудь интересненькое… И вот…
– Что? А? – оборотилась Марья Симеоновна к гостю, про которого, кажется, в пылу дискуссии успела окончательно позабыть. – А-а-а… Поняла! Все поняла! Ах, старый вы греховодник! – раскатисто расхохоталась она.
Кирилл Андреевич потупился и часто замигал пуговичными глазками.
Из кухни донесся странный скрипучий крик. Все присутствующие невольно вздрогнули.
– Что это? – спросила Мария Симеоновна.
– Должно быть, попугай, – подумав, ответил Петя. – Попугай Джонни, про которого говорила Софи. Право, не знаю, кто бы еще в нашем доме мог так кричать.
– А почему он так кричит? – осведомился Кирилл Андреевич. – Ему что-то здесь не нравится?
– Должно быть, так… И я его, знаете ли, понимаю… – сказал Петр Николаевич и, аккуратно обойдя мать, вышел из гостиной.
Января, 20 числа, 1899 г. от Р. Х., Тобольская губерния, Ишимский уезд, г. Егорьевск.
Здравствуйте, драгоценная Софья Павловна!
Пишет Вам Вера Михайлова из Егорьевска. Вместе со мной передают для Вас приветы: Соня, Матвей, Стеша, Леокардия Власьевна и Левонтий Макарович Златовратские, а также Аглая Левонтьевна и Элайджа и Илья Самсоновичи. Желают также удачи во всех Ваших начинаниях.
У нас, слава Господу, все в основном по-прежнему. Снегу в этом году легло много, взрослому человеку по пояс. И рябина с калиной уродились, до сих пор гроздья кое-где висят, птицами нерасклеванные. По народным приметам – к богатому урожаю. Рождественские и новогодние празднества прошли утешно, молодежь гуляла и веселилась, а мы, жизнь прожившие, на них глядючи, радовались. Стеша сама, никем не понуждаемая, смастерила на диво красивого ангела из бумаги, куриных перьев и палочек, который, как за ниточку потянешь, так жезл поднимает и крылышками машет. Все удивлялись, как это у девочки к механике способности. Она все просила его Вам в Петербург послать, чтобы Вашим деткам подарить. Едва уговорила ее, что не доедет до Петербурга – больно хрупок. Аня-Зайчонок, дочь Петра Ивановича, как увидела того ангела, так руками всплеснула и долго ахала, а потом, через два дня привезла сундучок с игрушками, который от старого Тихона и Марфы Парфеновны остался. Стеша теперь от него и на ночь бы не отходила. Я сперва за нож боялась, как бы не порезалась, но Соня с Матвеем сказали: пускай, и, напротив, что помнят, обсказали ей, как Тихон-то игрушки мастерил. Теперь уж она две игрушки, Тихоном недоделанные, собрала: мельничку и кораблик. А на кораблике придумала парус из бересты сделать, а Маня, Сонина сестра, что у нас служит, помогла ей лесенки из ниточек сплести. Прямо как живой кораблик получился.
Матвей училище закончил и надо с ним дальше решать. Думаю о том едва ль не ежечасно. Я Ваше милостивое предложение помню, но боязно мне как-то его в Петербург отпускать, даже под Вашу, Софья Павловна, опеку. Не то, чтоб не смог он учиться, или опасалась, что разбалуется от соблазнов. Ум у него хороший, правильный, может, и не по годам развившийся. А сердце – шелковое, тряпочное. Несправедливости, беды чужой перенесть не может совершенно, видит едва ль не больнее своей. Куда он с такой-то душой попадет? В инженеры, как мне бы хотелось? Или уж прямо со студенческой скамьи да к нам же обратно, на каторгу? Страшно мне его от себя отпускать и ничего поделать с собой не могу. Понимаю: взрослый парень, к материной юбке булавкой не пристегнешь. Насчет того, что Вы писали, чтоб отправить его вместе с Соней, тоже решиться невмочь. Она, конечно, куда осторожнее и в чем-то здравомысленнее его будет. Да только с младенчества и по сей день шума городского и народу боится до обмороков. Даже в Егорьевск ездить не любит. А как-то поехали с ней в Тобольск, на ярмарку, обновки покупать, так она все три дня в гостинице и просидела. Один только раз на ярмарочную площадь и вышла, так и то – Матвей ее едва ли не волоком волок. Как она в Петербурге станет? Не обузой ли всем, и себе ли не в тягость?
И про то думаю неустанно: выросли оба, в тех годах, когда кровь молодая играет. Пара ли они? Или брат и сестра? Кровного родства промежду них нету, это вы знаете, но ведь росли вместе, спали, играли, все друг про друга знают… Любят они друг друга, о том спору нет, но как любят? Как потом обернется? Соня никогда не скажет, но иногда взгляд ее ловлю, будто совета просит. А что мне ей посоветовать, коли у меня у самой судьба из одних узлов связана?
Ходила на все три могилки, просила совета. Все молчат: и Матюша, и Никанор, и Алеша. Видать, сами не знают, как правильно. И то: откуда им-то такое разобрать?
Дела мои идут ни шатко, ни валко. На прииске «Счастливый Хорек», как кузятинские умельцы бочку еще по матюшиным чертежам усовершенствовали, так этот сезон был из лучших – выработка стала до 40 тысяч пудов песка в день доходить. У Гордеевых, мне донесли, – на бутаре до 100 пудов в день на рабочего. Из того и считайте. Зато Марья Ивановна библиотеку на прииске завела, чтоб рабочих от водки отвлечь, и свои книги туда пожертвовала. Не знаю, помогает ли? При случае поинтересуюсь непременно. Думали мы еще с Алешей про электрическую машину, которая от воды работает. Метеоролог наш егорьевский Штольц вместе с Василием Полушкиным ездили нынче осенью на Лену пробы какие-то брать, так после рассказали, что на Павловском прииске уж вторую «электростанцию» построили с динамомашиной и двумя турбинами. Штольц все рисовал что-то, рисовал, я ничего не поняла, но Василий-то, кажется, еще там понял и с большим энтузиазмом мне едва ль не до ночи расписывал, как то здорово и выгодно окажется. Не решила пока ничего, да и куражу особого нет, но Алеше хотелось, и Вася Полушкин подсобить обещал…
Нынче же, на границе осени с зимой вернулся в родные места на побывку Ваня Притыков, Ивана Парфеновича младший сын. Пил-гулял в обоих трактирах с таким шумом-гамом, что даже к нам, в Мариинский, долетало. Угостил и уложил вповалку едва ли не весь Егорьевск. Мне Хайме уж потом рассказывала, когда назад отбыл. Дело у Ивана какое-то на Алтае. Как я поняла, на ногах стоит крепко, и в деньгах не стеснен. Сыновей уж четверо либо пятеро, и все от той вдовы-казачки, что шесть лет назад из Большого Сорокина увез. Мать его просила ее с собой забрать, внуков нянчить, да он отказал. Отчего там промеж них кошка пробежала, не разберешь – чужая душа потемки. Настасью мне, пожалуй, жаль, хоть и сумрачна она была всегда, и в мою сторону только что не плевала. Почто злилась? Должно быть, оттого, что я своих детей без отцов рожала, а себя обиженной не числила… Впрочем, Бог ей судья, не я… А Иван мог бы и милосерднее быть. Вспомнит потом, ан уже и исправить ничего нельзя…
А осенью, накануне Воздвижения Креста Господня, случилось у нас в Егорьевске и еще одно развлечение. Явились к нам англичане. Числом не то двое, не то трое. Сомнения в числе оттого, что в одном из англичан – какая-то неясность наблюдается. Англичан я до того не видала и не слыхала, потому окончательно рассудить не берусь. Но, как я языки слышу, он, этот третий, даже говорит по-английски слегка по-другому, чем те два. Англичанин ли?
Судите сами: зовут его «мистер Сазонофф». Русский язык знает весьма хорошо. В делах наших разбирается изрядно, на тайгу, глубину снега и прочее из природы не дивится, а вроде как даже радуется тому.
И еще одно, пожалуй. Те двое – даже со спины да в шубе чужеродность видна. Двигаются по-другому, встают, садятся, ложку держат. Когда жуют, кажется, что и челюсть у них как-то не по-русски приставлена. Улыбаются враз, внутрь себя и словно не в полную силу. Фигуры линейкой проведены, а после сама она у них внутри для сверки оставлена. Словом, не ошибешься. Не то – «мистер Сазонофф». Когда я его первый раз увидела, у меня аж сердце в ребра ударило и дыхание сперло. Показалось на миг, что это Матюша, Матвей Александрович. Та же медвежатость, движения вроде бы и медленные и даже неуверенные слегка, но – ничего лишнего, и внутри – словно пружина сжата. Обернулся, я, при сдержанности-то моей, что вечно – притча во язытцах, чуть не ахнула. Спустя уж минуту поняла – помстилось, лицо у него не Матюшино, а обыкновенное, просто шрамами изуродовано слегка, оттого и кажется… Впрочем, к тому быстро привыкаешь, и уж не замечаешь ничего. Тем паче, что, в отличие от двух других англичан, лицо-то у мистера, пусть и подпорченное, но все же что-то и выражает и разгадать можно, когда ему в охотку, а когда и нет… А не только я это сходство-то увидела. Многие, из тех, кто постарше… Чудны дела твои, Господи!
Англичане были у нас проездом на Алтай, а чего хотели, так никто толком и не понял. На Алтае у них вроде еще с весны три партии оставлены, чтоб разведку вести. Медь, как я поняла, их интересует, и золото. Но там Кабинетские земли, а у нас ведь – нет. И про золото на Ишиме только Коська Хорек и знал. Где-то он нынче? Жив ли? Соня с Матюшей часто его поминают. Веселил он их, а они его, пожалуй что, и любили. Как сбежал он от страха во время тех беспорядков, что Андрей Андреич утишил, так никто о нем и не слыхал ничего. Сгинул, должно быть, в тайге, да странно… Коське ведь тайга – дом родной, в каждом самоедском стойбище – друзья-приятели, да и время было теплое, даже пьяному не замерзнуть… Пусть Господь милостив к нему будет, кривая у него жизнь, говорят, была, да только мы от него ничего, кроме добра, не видали.
В общем, потолклись у нас англичане, чаю попили, поговорили через мистера Сазонофф о чем не поймешь, и отбыли. Обещали, между тем, на обратном пути опять заглянуть. Зачем такой крюк? Ради чего? Железная дорога от нас далеко. Городок маленький. Путь, не сказать, чтоб приятный. Может, Марья Ивановна чего поняла (они с ней тоже много беседовали)? Что же до меня, то мне показалось, что мистер Сазонофф все хотел меня о чем-то напрямую спросить, да так и не решился. Хотя что ему с меня?
Из общих же разговоров я поняла следующее. Масштабы у них, если по словам судить, немалые. Какие-то важные люди в Англии и в Петербурге заинтересованы в том, чтобы английские деньги в Сибирь привлечь. Это понять можно, у наших-то воротил свободных денег немного. А кредит в Сибирском банке получить сложно, да и не выгодно выходит, если, как у нас принято, только богатые пески в разработку брать, да дедовским способом добычу вести. Вот и послали этих англичан обстановку рассмотреть и своим в Англии доложить. Мистера Сазонофф, понятно, – из тех немногих отыскали, кто в Англии русский язык разумеет и в делах что-то понимает. Судя по обмолвкам его, где он только не побывал… Мне взгрустнулось даже. Слушала и вспомнила вдруг, как Матвей Александрович обещал меня на теплое море свезти…
Двое других-то англичан мистера Сазонофф как-то… ну, не сторонятся, конечно, а словно бы и боятся, и презирают зараз. Нынче не разобрала, отчего это. Может быть, в другой раз разберу. Английский-то их язык я уже к концу начала немного понимать. Мистер Сазонофф, как заметил мой интерес, стал меня учить и называть все, а от двух других мы скрыли. Из озорства, что ли, или еще что-то в этом есть?
В общем, как я уже Вам сказала, в нашей однообразной жизни, англичане – развлечение и пища для слухов. Теперь толки и по Мариинскому поселку, и по Егорьевску. Зачем приезжали? Чего хотели? Что теперь будет? Больше из образованных и служивых волнуются. Рабочим-то все равно, на кого спину гнуть. Наш ли, англичанин – один черт. Я уж прикинула так и эдак. Если они здесь, как и на Алтае, разведку вести будут, или уж действующие прииски от хозяев скупать, как мне поступить?
Жаль, Алеши нет больше, посоветоваться не с кем. Вот ведь как… Вроде и что промеж нас было, однако, так не хватает его теперь! Должно быть, оттого это, что не только ухватистым, но и мудрым человеком Алеша был, видел человека насквозь, да не осуждал, и не злобствовал, и фантазий не строил, а смотрел на него, прищурившись, как он есть: нужен, не нужен, здесь остановиться, или дальше пойти… Мудрости в нашей жизни – как бы не менее всего другого…
Вы уж не серчайте на меня, Софья Павловна, но я ваш запрет нарушила, и, когда Алеша уж совсем плох был, сказала ему про Варвару-то – что, мол, в Петербурге она, и дела у нее все ладятся… Он уж и не ответил ничего, но я-то видела: камень у него с души упал, покатился… Так по Божеским-то законам правильно, я понимаю. А если есть здесь грех какой, так пусть он – на мне. Одним больше, да ради Алеши-то – пустое…
Теперь прошу Вас покорно: коли там в Петербурге чего про эти Алтайские дела, да англичан слыхать, так Вы уж мне отпишите, пожалуйста, да попроще разложите, чтоб я со своими крестьянскими мозгами разобрать сумела. Может, и не сами Вы, а муж Ваш, да кто-то из товарищей его? Мне бы через те сведения большое вспоможение вышло для определения себя в этом деле. А так… Что-то внутри говорит: «Сиди уж, Верка Михайлова, и не высовывайся. Старая, да дура, да Алеша помер – куда тебе?» А другое что-то и супротив подначивает: «А чего и делать-то еще? Смерти ждать? И спроста ли, что мистер Сазонофф так на Матвея Александровича показался похож? Не знак ли тебе?» Ведь ежели тут какие дела развернутся, да в них встрять с удачей, так и Матюшу-младшего можно при них (да при себе – чего уж от Вас-то таить!) оставить…
Теперь хочу от себя пожелать здоровья супругу Вашему Петру Николаевичу, милым деткам Павлуше и Марии, сестричкам и братьям, а также мой привет, ежели сможете передать, Варваре, Алешиной дочке (может, приедет когда на могилку отца-то?) и Андрею Андреевичу Измайлову, инженеру.
Софи отложила письмо, попробовала представить себе свою бывшую горничную Веру, которая осталась жить в Егорьевске без малого восемнадцать лет назад. Какая она теперь? Тогда – была на лицо писаной русской красавицей, с косой в руку толщиной и ниже пояса, с ореховыми, завораживающими, какими-то змеиными глазами. Теперь, небось, коса вся побита зимним инеем, глаза потухли и спрятались в мелких серых морщинках… Нет, решительно невозможно было представить себе Веру Михайлову состарившейся, хоть она и писала о том неустанно в каждом письме вот уже много лет. Сама себя убеждала?
Что она, Вера, делает вот нынче, сейчас? Сидит за столом у окна, подперев ладонью щеку, проверяет счета и сметы, шевеля по привычке губами? Читает в кресле? Учит английский язык? Трудно даже сказать, сколько языков знает Вера. Среди самоедов давно ходит поверье, что она может говорить на любом языке тайги. Конечно, это не так, но, чтобы удовлетворительно выучить какой-нибудь новый диалект, Вере Михайловой довольно месяца. Таково ее природное устройство.
Теперь там зима. Зима в Сибири… Софи до сих пор помнила ее. Ярко-желтая круглая луна на промороженном зеленоватом небе. Столбы сизого дыма ползут вертикально вверх. Скрипят оси и колеса возов на тракте…
Раз в два-три года термометр опускается ниже пятидесяти градусов, реки промерзают на два-три метра, а то и до дна. Тогда они останавливаются и скапливающаяся вода шлифует берега.
После того, как Вера и остяк Алеша (с помощью Коськи-Хорька и при участии, на самом излете его трагической судьбы, инженера Мити Опалинского) открыли два своих прииска, жизнь Мариинского поселка, насколько Софи могла судить из скупых Вериных писем, изменилась весьма разительно. В первый же год Вера с Алешей сдали в золотоплавильную лабораторию около 10 пудов золота. Алеша, предчувствуя, видимо, свой близкий конец, настаивал на том, чтобы более золота отправлять нелегальными путями в Китай, откладывать деньги на будущее детей. Однако Вера Михайлова, как и ее бывшая хозяйка, вдруг вошла во вкус обустройства чужих судеб, вознамерившись превратить обреченный Мариинский поселок (пески на Мариинском прииске истощались, и не в этот, так в следующий год, его должны были закрыть, тем самым оставив всех жителей без работы) едва ли не в городок наподобие Егорьевска. В самом поселке, кроме винокуренного и водочного завода (построенных и открытых Алешей) она организовала пимокатное производство, которое работало только зимой и позволяло желающим еще подработать после окончания золотопромывного сезона. Мужчины, ведущие чуть более трезвый образ жизни, чем остальные, а чаще – женщины и подростки, охотно нанимались на Верину мануфактурку. Продукция частично раскупалась в Егорьевске, а частично уходила на Ирбитскую, Тобольскую и Каинскую ярмарки вместе с возами мороженой рыбы, добываемой самоедами на рыболовных песках, которыми уж много лет владел остяк Алеша. Чуть после появился мыловаренный цех, которым неожиданно весьма успешно руководили два поселковых друга-инвалида: русский Ерема и якут Типан. У Еремы не было правой ноги (отдавило бревном), а у Типана – левой (еще в молодости медведь покалечил). Несмотря на несчастье, людьми они оставались веселыми, с молодости держались рядом, и вместе, согласно прыгая по поселку из штофной лавки и распевая песни, производили преуморительное впечатление. Оба были успешно женаты, рукасты, не чурались никакой работы, имели детей. Губило их, как и всех в округе, пьянство. Как Вера сумела разглядеть в немолодых уж друзьях-пьянчужках предпринимательский талант – неизвестно. Однако за дело они взялись рьяно, увидев в том нежданный уже интерес к жизни, штофы с водкой на удивление легко отставили в сторону, с шутками-прибаутками наладили производство не только простого, но и ароматного мыла, раздобыв где-то соответствующие рецепты и произведя потребные опыты. Вывозить продукцию не было нужды. Окрестные крестьяне, егорьевцы и едва ли не с Барабинской степи калмыки сами приезжали в Мариинский за дешевым и качественным мылом, и уезжали, благодаря и кланяясь.
Именно дикий местный обычай мытья изначально и сподвигнул Веру Михайлову на организацию мыловаренной фабрички. Во всяком случае, так она писала Софи. За отсутствием мыла крестьяне мылись «подмыльем» – квашенными кишками.
На «Степном» прииске Вера, как когда-то обещала рабочим, ввела и вовсе нигде невиданную вещь. Сезон добычи там с самого начала задумывался круглогодичным. Так вот, летом работали там приезжие – русские и самоеды из тайги, которые на зиму возвращались по домам – в Мариинский поселок, в Светлозерье, в стойбища, юрты и прочее. Зимой же к работе приступал другой люд, в основном русские и калмыки, жившие вблизи прииска и имевшие там землю или стада. Эти люди летом пахали землю и пасли скот и, таким образом, их годовой заработок получался едва ли не в три с половиной раза больше (третий раз добирался тем, что при таком напряженном трудовом ритме мужикам просто некогда было пропивать заработанные деньги, как обычно водилось у приисковых после окончания сезона. За две-три недели по обычаю пропивался едва ли не весь заработок). Уже на третий сезон в Степной ко всеобщему удивлению переехали несколько кержацких семей из Кузятина и своей звероватой серьезностью еще более подхлестнули поощряемую Верой страсть к трудовой наживе. В земледельческих делах Вера, крестьянка по рождению и воспитанию, понимала куда больше, чем в производстве. Несмотря на маленькую Стешу, она выстроила себе дом в Степном, и подолгу жила там, с давно забытым удовольствием слушая песню жаворонков над колосящимися полями, и с голодной какой-то жадностью перебирая в пальцах жирную, черную, – только на хлеб намазывать – землю. Хороший урожай для яровых считался в тех местах сам-5, для озимых – сам-4. С помощью Кузятинских умельцев (едва ли не сам Алеша, по Вериной умильной просьбе, на поклон ездил к угрюмым кержакам, и уломал-таки – перевез в Степной кузнеца с кузней и тремя богатырями-сыновьями) Вера наладила в недавно народившемся поселке производство передовых сох-колесянок, в которые запрягалась пара, а то и тройка лошадей. Для того скупила по дешевке на Каинской ярмарке пять возов неисправных металлических деталей от всех сельскохозяйственных орудий вперемешку. Сумрачные трезвые кузнецы зиму помозговали над ними и… Уже на третий год урожай у «степняков» достиг сам-7.
Понятное дело, что там, где что-то производят и зарабатывают деньги, должны быть условия и для того, чтоб их потратить. В Мариинском за два года открылось три новых лавки и трактир с комнатами для приезжающих за покупками крестьян, который, под патронатом Ильи Самсоновича (трактирщика из Егорьевска), держала его же бывшая прислуга, калмычка Хайме. Она же с Вериной помощью организовала маслобойню и молочный пункт при ней, где приходящим водки и мяса не давали, а кормили исключительно простоквашей, молочными кашами, и прочими полезными для здоровья продуктами. Здесь же можно было нанять кормилиц и нянек для ребенка и даже за небольшую плату оставить малышей в чистой теплой комнате под присмотром девочек подростков, которые следили за ними, играли и кормили все той же кашей. Последнее было чисто Вериным изобретением, которая, родив Стешу уже в годах, так и не дождалась прихода молока и сама была вынуждена искать кормилицу. К тому же, поскольку многие молодые мариинские женщины пошли работать на верины мануфактурки, вопрос, с кем оставить малолетних детишек, встал перед ними в полный рост. Бездетная и безмужняя Хайме сначала с подозрением отнеслась к этому странному начинанию, но после полюбила «детскую избу» всей душою, и в свободные от трактирных хлопот минуты с удовольствием игралась с ребятишками, изображая по их просьбам «буку» и медведя, и, скрывая слезы по своей несложившейся женской судьбе, умывала и целовала измазанные кашей мордашки.
Условия труда на всех приисках (да и на открытых Верой производствах) были поистине драконовскими. Рабочий день начинался в пять часов утра и длился порою по 14 часов. За несвоевременную явку на прииск к началу сезона – штраф 1 рубль в сутки. Задаток давали маленький – всего 15 рублей (на приисках Гордеевых-Опалинских – до 40). Основные деньги, за вычетом выбранного в лавке кредита, выдавали в расчет, и еще насильно, включая прямо в контракт, заставляли посылать семьям 25 рублей на хозяйство. Многие рабочие роптали: мол, издеваются над рабочим человеком, словно мы им рабы подневольные… Однако, семьи были, понятное дело, довольны. Даже если после окончания сезона хозяин и загуляет по обычаю и пропьет большую часть заработанных и выданных под расчет денег, все одно что-то в семье да останется.
Работали на приисках каждый день, и по воскресеньям тоже. На гордеевских приисках воскресенье выходной, да еще праздники – Вознесение да Благовещение. У Веры да Алеши – никаких праздников, одна работа. «Зимой отдохнете, коли пожелаете. А можете и вовсе – мимо пройти. Никого не неволим», – и весь сказ. Многие, кому лень жилы рвать или несподручно, или уж здоровье не то, и проходили мимо. Шли к Опалинским. Однако, на безлюдье оба Вериных и Алешиных прииска не жаловались. Находились желающие хорошо заработать и в самом Мариинском поселке, и окрест, приходили молодые самоеды из тайги, калмыки из степи, все – с жадными, раскосыми, чего-то ожидающими глазами.
Почти оконченная к 1896 году железная дорога связала Сибирь с Россией. Туда-сюда потекли люди, товары, идеи.
«Деньги, что вы зарабатываете, да на водку не тратите, – ваш пропуск в другой мир. Не вы, так дети ваши его увидят,» – говорила рабочим Вера.
Этих ее разговоров ждали. Когда начинала говорить, незанимательно вроде бы и неспешно, рассказывать, – слушали заворожено, не перебивая. Словно воочию вставали перед темно-коричневой толпой картины иной, непонятно-сказочной жизни, каких-то других миров, как будто доступных каждому, и им в том числе. Хотя саму Веру и боялись, и считали едва ль не ведьмой. Она никого не жалела и не считала обстоятельств. Телесные наказания запретила настрого, однако безжалостно рвала контракты, гнала прочь хоть раз оступившихся, ослушавшихся разумных команд десятников и мастеров. Могла почти к каждому таежному или степному жителю обратиться на его языке. Сказать несколько холодно-приветливых слов, выслушать и понять ответ. Колдовство? Есть ли у Веры Михайловой душа, или, как и у ее давно погибшего мужа, инженера Печиноги, нету вовсе? А вместо нее – чуть теплый серый дымок, вроде того, что поднимается над недавно погасшим или только что залитым костром… Может быть, они и правы, и так все и есть? – спокойно и риторически спрашивала Вера в одном из своих писем к Софи. Кто разберет?
Софи помотала головой, разгоняя усталость и желто-голубые круги перед глазами. Выбившийся из прически локон ударил по щеке. Софи заправила его за ухо, потянулась к стоящей на краю тарелке, свернула в кувертик тоненький, янтарно-прозрачный блин, окунула в блюдечко с яблочным повидлом, сунула в рот. Воровато оглянувшись и убедившись, что никто не видит, вытерла замаслившиеся пальцы об нижнюю обивку полукресла, на котором сидела.
Потом, вздохнув, потянулась ко второму, лежащему перед ней письму. Тоже из Сибири. Но сколько угодно готова тянуть, представлять нынешний быт и промышленные успехи бывшей горничной, лопать блины, от которых к середине масленицы уже вся физиономия жиром лоснится, вот еще с котом можно поиграть… Довольно! – оборвала себя Софи, взяв костяной ножик, вскрыла конверт и, не разворачивая листа, уставилась на ровные, словно гимназистом-приготовишкой написанные строчки.
Адрес и почерк она узнала сразу. Письмо не от брата Гриши, от которого и вправду давно не было вестей, а от его жены – Грушеньки Воробьевой, теперь – Аграфены Домогатской. И чего же хорошего можно ждать от этого письма, если учесть, что Грушенька ненавидит Софи всеми силами своей издавна перекореженной душонки?!
Гришу сослали в 1896 году. Еще обучаясь в Университете, он вступил в кружок «Освобождение труда», который возглавил Юлечка Цеденбаум (Л. Мартов). На следующий год Юлечка был арестован за распространение нелегальной литературы и исключен из университета. Гриша, по счастью, успел закончить курс и получить диплом. Пошел служить, начал набирать практику. Семья вздохнула с облегчением. Однако, после возвращения из ссылки в Вильно вовсе не унявшийся Цеденбаум снова связался со своими прежними сподвижниками и развил поистине бешеную организаторскую деятельность. В декабре 1895 года объединение всего со всем получило название «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Гриша встретил все начинания Цеденбаума-Мартова с воодушевлением. «Теперь мы сможем строить нашу борьбу на строгой научной и организационной основе», – вещал он, посещая сестру и шурина в их поместье в Люблино и страстно критикуя эксплуататорские порядки на ткацкой фабрике, которая по завещанию Туманова принадлежала Софи.
– Почитай «Капитал», там все написано! Поверь, он тебя перевернет! – горячился Гриша.
– Можно, я пока останусь неперевернутой? – щурилась Софи.
Петр Николаевич печально качал головой.
Отвоевавшись, Гриша брал черную лакированную гитару-семиструнку и высоким, задушевным голосом исполнял романсы, музыку к которым сочинял сам на стихи Петра Николаевича. Вся семья и даже прислуга с дворней собирались послушать.
«Потеряю человека, в этом городе,
Где угол каждый след его хранит,
Легкой занавесью снега
Темнотой парадной гулкой
Вечер нас разъединит.
Человек уже потерян,
Он еще шагает рядом,
Теплый локоть, взмах руки,
Но молчаньем путь отмерян…
Площадь, сад, ограда сада,
Мост над призраком реки…»
– Как ты думаешь, чем все это кончится, Петя? – спрашивала Софи после отъезда брата, сдерживая слезы и яростно накручивая на палец локон, едва ли не выдергивая его с корнем.
– Разве тебе нужен мой ответ? – меланхолически вопрошал Петя. – Ты ведь и сама все знаешь…
В 1896 году, после трехмесячного заключения в Петропавловской крепости, Гриша уже ехал по этапу в Сибирь. К немалому удивлению Софи, Груша почти сразу же отправилась вслед за ним. Более того, спустя чуть менее года после ее приезда у Груши с Гришей родился в Сибири ребенок – девочка, которую крестили Людмилой.
«Делать им там нечего, вот и… – решительно высказалась по этому поводу Мария Симеоновна, категорически и ни под каким соусом не одобрявшая никакого вольнодумства. – Так и у скотины бывает…»
– Молчите, ради Бога, молчите! – непривычно высоким голосом вскрикнула Софи, сплетая пальцы.
– А что, правда глаза-то колет? – усмехнулась Мария Симеоновна, никогда не упускавшая случая уязвить невестку. – Законы-то для всех одни. Господом и природой дадены. И не нам их отменять. А эти тут… выискались… освободители! Раз не хочешь по Божеским законам жить, так что же останется? Скотство одно…
– Мама, пойдемте! – Петя успокаивающе моргнул Софи и поспешно увел Марию Симеоновну, стараясь успеть до того, как с одной или с другой стороны будет сказано или сделано нечто плохо поправимое.
Петя всегда, все эти годы после своей женитьбы жил между двух непрерывно горящих огней, и со свойственным ему прохладным, явно тяготеющим ко стоическому, мировоззрением, вполне приспособился к такой жизни. Самое же удивительное и, пожалуй, приятное в его положении заключалось в том, что в общем и целом Мария Симеоновна и Софи ладили между собой, и даже как-то по-своему уважали друг друга.
Когда после своего тайного венчания Софи и Пьер впервые появились перед родственниками, Мария Симеоновна, которая больше всех противилась этому браку, вела себя странно сдержанно до самого конца вечера и не позволила себе ни одного резкого или обидного слова в адрес новобрачных или кого бы то ни было еще. Такое крайне редко с ней случалось, и это отметили все присутствующие.
После чая она пригласила Софи в зимний сад – свою тогдашнюю гордость. Петя хотел увязаться за ними, но Мария Симеоновна шуганула его так, как прогоняют несносную собачонку. Софи согласно кивнула, и Петя подчинился воле своих женщин.
– Присядь, – в оранжерее Мария Симеоновна с неожиданной заботой пододвинула невестке гнутый венский стул. Софи, не скрывая удивления и настороженности, села. На грани поздней осени и зимы ей было приятно вдыхать свежие, влажные запахи теплой земли, листвы и распускающихся тропических цветов. Мария Симеоновна напоминала ей охотящуюся в джунглях кошку. Погрузневшую, но все еще опасную.
– Ты брюхата? – напрямую спросила она невестку.
Софи, помедлив, кивнула, не подобрав нужных слов.
– Ребенок – от того?
Еще один кивок.
– Петя когда узнал?
– Сразу, как предложение мне сделал. В ту же минуту, – честно ответила Софи.
Мария Симеоновна удовлетворенно кивнула. Ответ явно понравился ей, хотя Софи так и не сумела разгадать – почему. А что изменилось бы, если бы Петя узнал о ее беременности раньше, или на неделю позже?
– Пьер, конечно, признает ребенка?
– Мы еще не решили окончательно. Но, думаю, так и будет.
– Правильно. Я про того сама узнавала. И Густав Карлович нам все подробно обсказал. Теперь он где? На ребенка претензии заявлять будет?
– Претензий не будет, – Софи плотно сжала губы, глядела в воду крохотного, поросшего крупной ряской бассейна. В свободной от ряски «полынье» то и дело медленно всплывала огромная толстая рыбка-вуалехвост и выпученными глазами смотрела на Софи. – Михаил Туманов погиб.
– Понятно, – кивнула Мария Симеоновна. – Ты поэтому и согласилась, так?
– Да, – ответила Софи. – Если бы Михаил был жив, наш с Петей брак был бы невозможен.
– Что ж, по крайней мере честно, – Мария Симеоновна вдруг улыбнулась открыто и ясно. – Да и все, что я о нем узнала, мне подходит.
– В каком смысле – подходит? Кто вам подходит? – удивилась Софи.
– Твой Туманов подходит мне для того, чтобы быть отцом моего внука, – невозмутимо разъяснила Мария Симеоновна. – А что он теперь погиб, так это еще и лучше. Меньше головной боли для меня и для Пети…
Софи хрипло расхохоталась. Рыбка-вуалехвост резво нырнула в темную глубину. «Разве они слышат нас?!» – удивленно подумала Софи.
– Вы – просто прелесть, Мария Симеоновна! – вслух воскликнула она. – Вам это говорили?
– Говорили, – сразу же согласилась хозяйка Люблино. – Последний раз лет тридцать назад, если быть честной.
После рождения Павлуши Мария Симеоновна и вправду взяла на себя почти все хлопоты по его воспитанию. Софи занималась фабрикой, написанием романа, издательскими делами (кроме фабрики, Туманов оставил ей еще и небольшое издательство, которое Софи почти сразу же расширила и реорганизовала, ориентировав на выпуск романов и детской литературы).
Впрочем, надо признать, что особых забот маленький Павлуша и не требовал. Родившийся очень крупным, он всегда охотно, много и непривередливо ел, сидел там, где его оставили, не капризничал и не просился на руки. Куча разноцветных тряпочек или старых открыток могла занимать его целый день. Когда он чуть подрос, его любимым занятием стало раскладывать пуговицы, бусы, фасоль, горох и пр. по разным коробочкам. Каждый раз он по-разному сортировал все это: по цвету, по размеру, по количеству дырочек в пуговицах и т. д.
Разговаривал Павлуша мало и не слишком охотно, но как-то ни для кого не заметно уже в четыре года научился читать. Детские книжки с картинками не любил с самого начала. Предпочитал старые иллюстрированные журналы, книжки по географии и естественной истории. Позже, к немалому изумлению всех окружающих, – полюбил читать газеты и почти тогда же научился внятно и кратко пересказывать бабушке основные содержащиеся в них новости и выбирать интересные для нее рекламные объявления.
Выглядело и слышалось это странно и по сей день.
«Общество Взаимного кредита санкт-петербургского уездного земства объявляет о состоянии своих счетов, – громко зачитывал Павлуша, переворачивая газету и выглядывая подчеркнутые строчки и обведенные в рамку абзацы. – Я подумал, может, нам это надо… На Выборг земля опять вздорожала, а лес под сруб дешевеет. Дачи на нашем направлении идут в среднем по 100 рублей за лето… Да, вот. Помощь от Красного Креста по поводу бедствий, вызванных прошлогодним урожаем, больше не собирают. Можно им не платить. Мы ведь платили, так?… Еще вот здесь… Гляди, бабушка, это может нам пригодиться. «Контора инженера Борейна берет на себя производство работ по поднятию местности на высоту одной сажени и более, образуя в короткое время из малоценных, затопляемых наводнениями участков площади высокой ценности»… Я подумал, может нам в районе Николина луга ивняк и вербу, которые каждый год заливает, извести и все вместе вот так поднять? Это ж сколько земли получится! Как ты, бабушка, полагаешь?
– Думать надо, – серьезно отвечала Мария Симеоновна, шевеля губами и явно что-то подсчитывая.
Петру Николаевичу подобные картины искренне казались дикими.
– Мама, что вы делаете? У мальчика же нет детства, – иногда говорил он.
– А я причем? Нет, говоришь, детства? Ну так купи ему мяч и кольцо, – спокойно отвечала Мария Симеоновна. – И уговори побегать во дворе с ребятишками. Я первая посмеюсь, как ты уговаривать станешь.
С детьми Павлуша никогда не общался, изредка снисходя к младшей, обожающей его, сестре. На всех детских праздниках, которые устраивали в Гостицах или Люблино, он стоял в стороне, подпирая стену и снисходительно-презрительно оглядывал веселящуюся малышню. Софи в этих случаях старалась не смотреть в его сторону, чтобы не раздражаться, а главное – не вспоминать другого человека, десять лет назад вот так же отстраненно подпиравшего стены на тех светских сборищах, куда ему по случайности доводилось попасть.
– Папа, гляди, – довольно мирный по характеру Павлуша не любил ссор между родными. – Ты вот на велосипеде ездишь, тут для тебя: фонари ацетиленовые, новейших конструкций, по 5, 6, 7 рублей за штуку. Киннеман и комп., Гороховая, семнадцать… И еще, я тебе сказать хотел, надо бы купить. Вот, написано: редкий случай!
– И что же мы должны приобрести по этому редкому случаю?
– «Случайно продаются карманные американские револьверы системы «Смита и Вессона», 32 калибра, никелированные, по смешной цене – всего лишь 12 рублей. Коробка патронов – 2 рубля, кобура – 1 рубль». Я думаю, и вправду недорого…
– Павлуша, Господи! Зачем тебе револьвер?! Я полагал, что как раз оружие-то тебя не интересует!
– Конечно, меня оно и не интересует, – согласно кивнул мальчик. – Но я для мамы имел в виду. Она вечно по таким местам шляется…
– Павел! – Мария Симеоновна привстала с кресла. – Как ты смеешь так выражаться! Ты говоришь – о ком?!
– Прости, бабушка! Прости, папа! – Павлуша мигом склонил голову и изобразил полнейшее раскаяние. – Но вы же знаете нашу маму! При ее образе жизни и знакомствах ей положительно необходим револьвер! А тот, который у нее есть, он же уже старый, может в решительный момент дать осечку…
– Черт знает что такое, а не семья! – пробормотала себе под нос Мария Симеоновна. – Сын велит отцу прикупить матери револьвер… И ведь самое-то поганое, что он, похоже, прав…
На любые, самые диковинные изменения жизни Павлуша, несмотря на все свои особенности, реагировал вполне адекватно и не по возрасту здраво. Если не мог склонить ситуацию в свою пользу, тут же проявлял конформизм, вполне удивительный для балованного десятилетнего мальчика-барчука, ни в чем не знавшего отказа.
– Бабушка! Вот тут у братьев Грибш, на Караванной продается подстилка для полов – линолеум. Разные цвета и воды не боится. Написано, что материал будущего. Любопытно, что такое. Может, у Джонни в комнате для опыта настелить? Он каждый день все проливает, у него в руках ничего не держится. Лукерья уж жаловалась, что все полы вспучило. А так бы и хорошо было…
Так ты с мамой насчет петербургского-то особняка, который Джоннино наследство, сговорилась или как? За нами останется? Тогда гляди: на Большой Морской Большой восточный магазин. Надо бы туда заглянуть. Там восточная мебель, ширмы, столики, табуретки… Если там, в этом особняке, чего поизносилось, можно прикупить…
Для развлечения Павлуша любил удить рыбу, посидеть на лавочке с поселковыми стариками, со знанием дела потолковать с ними о погоде, политике и видах на урожай. Пользуясь теми же сведениями, почерпнутыми из газет, на равных вступал в разговор: «А вот прибыли холмогорские коровы. Продают. Что скажете про них, уважаемые?»
В три года он увлеченно играл с бабушкой «в магазин», продавал и покупал, явно стремясь соблюсти свою выгоду. В четыре года попросил подарить ему копилочку, а из остальных подарков, которые наверняка принесут приглашенные на праздник гости, – «денежки». Модест Алексеевич, муж Аннет, в последний год не раз заставал Павлушу в своем кабинете за чтением «Биржевых ведомостей».
Все это вместе показалось бы странным кому угодно. Но Софи не слишком много внимания обращала на детей, а Мария Симеоновна тоже беседовала с внуком почти на равных и была тем вполне довольна. «Милочка – сентиментальная дура, – откровенно отзывалась она в отсутствие внуков. – А Павлуша – мозг. Ну и что, что с игрушками не играется? Значит, не надо ему. Он еще свое покажет.»
Единственное, что, пожалуй, не устраивало Марию Симеоновну в воспитании Павлуши, так это его серьезная, насчитывающая уже два года, переписка со ссыльным дядей. Многие, если не все мысли, которые Гриша Домогатский излагал в письмах племяннику, казались ей откровенно крамольными. Однако, прекратить вредное общение она была не в силах. «Я могу спросить у него то, что больше не у кого, – так объяснял Павлуша свое пристрастие. – Не думай, бабушка, что я все на веру беру. Но надо ж со всех сторон смотреть, чтоб в объеме увидеть. Правильно?»
– Правильно-то правильно… – вздыхала Мария Симеоновна и, понимая прекрасно, что ее надежды необоснованны, взглядывала на Софи.
Софи, разумеется, не собиралась прекращать переписку брата и сына.
– Гриша всегда был честен, – говорила она. – От чести, какой бы она ни случилась, вреда не бывает. Вред – лишь от бесчестья. А Павлуше, коли он с таких лет к делам да финансам тянется, полезно бы знать…
– Задурит голову мальчишке, ох, задурит… – качала головой Мария Симеоновна, но больше союзников искать было негде: Петя почти не вмешивался в воспитание Павлуши, резонно полагая, что там всего достаточно, и как бы не лишнее.
В результате писание и чтение стихов Павлуша полагал блажью и бессмысленной тратой времени, но каждый раз, услышав где-либо новые стихи отца, вежливо хвалил их за выдержанность формы и свежесть образов. Где, собственно, он почерпнул эту «свежесть образов» никто так и не понял.
В которой Софи читает второе письмо и гуляет с котом, а Марья Ивановна Опалинская размышляет о прошлом и о будущем
Здравствуйте, любезная Софья Павловна!
Зная, как Вы меня полагаете, решилась писать к Вам только в великой крайности. Но тому, я думаю, Вы и сами поверить сумеете, иного не предположив.
Братец Ваш, Григорий Павлович, а мой Богом данный муж и супруг, нынче стал совсем плох. И даже не в телесном здоровье дело, хотя и оно пошатнулось изрядно, и кашель уж пятый месяц не проходит. Другое хужее, а чтоб описать, у меня и верных слов нет. Это ж Вы, Софья Павловна, писательница, не я. Лежит Гришенька цельными днями, отвернувшись к стене, и ничто ему не мило. И Людочке нашей малой не рад, и со мной сквозь зубы разговаривает. До людей, что вокруг нас живут, в поселке, ему уж и вовсе дела нет. Намедни «товарищ по борьбе» приезжал, так и с ним говорил, едва себя пересиливая. Я потом к товарищу кинулась, что, мол, делать-то, так он на меня взглянул так, словно я мышь, которую на дороге колесом придавило. И жалко, и любопытно, и сам собой за это любопытство брезгуешь. Потом отвел взгляд на облака, сказал: никто не обещал, что борьба за народное счастье будет легка, и на том пути жертв не будет. Каждый, кто на эту дорогу вступил, поклялся, если понадобится, свою жизнь отдать… «И мою, и Людочкину?» – хотелось спросить, однако, не спросила. Он сам догадал и тут же ответил: «Товарищ Григорий допустил слабость и опрометчивость. Революционер должен быть один. Чтобы спасти многих, весь народ, нужно неустанно ковать себя из железа и слабых мест не иметь вовсе…»
После того визита и вовсе свет померк.
Людочка еще заболела и капризничает все время. Жара нет, а и здоровья – тоже. Зовет папу, а он только рукой машет: «отстаньте, мол».
Вот уж второй день Григорий Павлович есть почти отказывается, только воду пьет. Меня до себя не допускает, велит заниматься ребенком, сам сидит у окна, завернувшись в одеяло и читает книгу. Третий день на одной странице.
Я все крепилась, а вчера уж не стерпела, бросилась ему в ноги: «Гришенька, свет мой, что ж мне еще сделать-то, как тебе, как нам всем помочь? Погибель ведь для всех настает!»
Он головой так помотал, как лошади оводов отгоняют, а потом пробормотал что-то, и я в том разобрала: «Соня бы догадала, что делать, а я сам – не могу…»
Вот, теперь сижу, пишу Вам, а за окном – темень, да и на душе – чернота беспросветная. Право, и сама не знаю, зачем. Что Вы из Петербурга сделать-то можете, коли он из дому последнее письмо даже до конца не дочитал, так и лежит… Знаю одно: коли с Гришенькой, упаси Бог, что случится, так и нам с Людочкой не жить…
Иногда думаю, что все это мне Бог за мои грехи посылает, и тогда молюсь смиренно, благо, тут в деревне церковка и еще часовенка есть, попечением местного купца выстроенная… В заключение желаю, чтоб Вас, Софья Павловна, и Вашу семью всяческие напасти стороной обошли. Не всем же век несчастными оставаться, кому-то и счастье должно быть.
Дочитав, Софи нервным движением отшвырнула листок и вскочила, едва не опрокинув кривоногое кресло. Обернувшись, не глядя, поймала его за спинку, поставила прямо.
– Бог! – раздраженно пробормотала она. – За грехи! А ребенка? Черт знает что такое! Сто, тысячу раз говорила, и – вот! Не мальчишка ведь! Как будто не знал, что самое сложное не на плаху взойти, сказать красиво и сдохнуть за этот самый народ. Это-то, извольте, просто. Вот что сложно: жить каждый день, каждый день утром без солнца из постели вставать, холодной водой умываться. И заставлять себя… Когда все пропало, все рухнуло, ни в чем смысла нет – заставлять! Революционер! Тряпка! Рохля!
Софи, не в силах более оставаться в четырех стенах, почти выбежала из комнаты, поспешно оделась, накинула капор, сунула ноги в теплые белые валенки. Распахнула дверь, спустилась по скрипучим ступенькам, торопливо пошла по дорожкам зимнего, усыпанного снегом сада. Еще с ночи ударил мороз, и нынче даже к полудню термометр стоял ниже двадцати градусов. Негреющее солнце искрилось в каждой льдинке. Холод сразу охватил щеки Софи своими ладонями, принялся, пока аккуратно, пощипывать нос и кожу над бровями.
Софи, у которой внутри пылал костерок бессильного гнева, эти прикосновения покуда казались приятными. Оглянувшись, она увидела, что вслед за ней по дорожке, переваливаясь, бежит угольно-черный кот. Хвост его был напружинен и вытянут кверху, глаза горели любопытством.
– Кришна! Куда ты? Вернись! – крикнула ему Софи. – Коты в такую погоду не гуляют!
«А мне – наплевать!» – ясно пропечаталось на независимой широкой морде.
– Господи! – пробормотала Софи, оглядываясь и почти ожидая увидеть где-нибудь по колено в снегу нелепую фигуру Джонни, неодетым кинувшегося вслед за сбежавшим любимым котом. – Зачем мне это все? И почему я не могу хоть немного побыть одна, сама с собой, ни о ком не думать? Почему за мной вечно тащатся… всякие коты?
Поймав себя на последней фразе, Софи поневоле улыбнулась. Вот уж, воистину, пустой гнев делает человека глупее в три, если не более раз. Все еще улыбаясь, женщина присела на дорожке, протянула руку. Кот тут же подбежал, ткнулся в варежку лобастой башкой, затоптался на месте, дрожа тощим хвостом и переминаясь на передних лапах.
Кришна считался, да и был котом Джонни, но при том обладал крайне независимым характером и сам выбирал, с кем и когда он хочет общаться. Практически все слуги и члены господской семьи в Люблине познакомились с этой его особенностью буквально в первые дни пребывания кота в доме, и еще некоторое время ходили с укушенными пальцами и ладонями и расцарапанными запястьями. Исключений не было. Понадобилось некоторое время, чтобы самые смышленые догадались о том, что Кришна – зверь не злой и даже, как ни странно, не вздорный. Просто он привык выбирать сам. Когда был не расположен к общению, всегда прежде предупреждал, а уж потом портил шкуру сунувшемуся невпопад. Те, кто сумел это разобрать, наладили с котом вполне приличные отношения. Остальные дружно считали и говорили вслух, что наглую, злобную зверюгу следует пристукнуть кочергой или уж зашить в наволочке и утопить (что по зимнему времени было совершенно невозможно, но ведь помечтать-то можно всегда…).
Иным было отношение к напарнику, точнее напарнице Кришны, также прибывшей в усадьбу вместе с Джонни. Большая, белая, облезлая попугаиха Радха у всех (а не только у Милочки) вызывала одно и то же чувство – ее хотелось пожалеть и немедленно переместить куда-нибудь, где ей, наконец, будет хорошо. Что это за место – никто не мог даже вообразить. Робкое предположение Милочки, что Радха, должно быть, скучает по родным джунглям, вызвало издевательский смех Павлуши, поддержанный сдержанной улыбкой Петра Николаевича и покачиванием головы Марии Симеоновны.
– Да ты погляди на нее! – озвучил общую мысль Павлуша. – Что она будет делать в джунглях?! Ее же первый случайно проходящий мимо зверь съест. А если такового не случится, так она сама от страха околеет…
В общем-то на то было похоже. Большую часть времени Радха печально сидела на жердочке в своей обширной клетке, вздрагивала от любого резкого звука, ела и пила словно бы через силу и ежедневно роняла на пол клетки белые, бессильные перышки… Со слов Джонни можно было понять, что попугаиха умеет говорить, но ее разговоров никто покуда не слышал. Лишь иногда она печально и хрипло вопила, словно жалуясь на судьбу кому-то невидимому. Служанки тоже чувствовали эту «обращенность» Радхиных жалоб, с легкой руки кухарки называли эти крики «бесовской молитвой» и крестились каждый раз, когда их слышали.
Самым занятным во всей этой звериной истории были отношения Радхи, Кришны и Джонни между собой. Радха была старше всех, но появились они в салоне Саджун практически все одновременно – младенец Джонни, попугаиха Радха, купленная на Сенном рынке из прихоти тяжело беременной Саджун для каких-то неопределенных гадательных целей, и черный тощий комочек с розовой жадной пастью, выброшенный на улицу кем-то лишенным жалости, и Саджун же подобранный. С тех пор эти трое практически не расставались. Радха сразу же усыновила котенка, ловко ловила блох в его жидкой шкурке, и даже пыталась кормить зерном и хлебом из клюва. Котенок, естественно, от зерна отказывался, но засыпать на комоде или в самой клетке попугаихи, залезши под оттопыренное крыло названной матери, привык почти сразу. Радха, несмотря на собственную трусость, ревностно защищала сон детеныша, крутила головой и грозно щелкала огромным клювом, когда кто-то или что-то в окружении клетки казалось ей опасным.
Джонни, подрастая, считал обоих, и зверя, и птицу, своими старшими родственниками и, несмотря на собственное слабоумие, обращался с ними весьма внятно и уважительно. Кришна ни разу не поцарапал мальчика. И клюв Радхи, которым она играючи колола грецкие орехи и рвала медную проволоку, ни разу не причинил ему никакого вреда.
Все десять лет своей жизни Кришна прожил в гадательном салоне, и никогда не бывал на улице. Узнав об этом, все дружно решили, что, оказавшись в усадьбе, на «волю» старый кот не пойдет, побоится. Но не тут-то было! Уже в первый день пребывания на новом месте, Кришна, напружинившись, стоял у дверей кухни и жадно нюхал влажный, но еще холодный воздух, долетавший из сеней. На второй день сиганул между ног кухарки…
С четверть часа весело гогочущая дворня практически в полном составе прыгала по сугробам и безуспешно ловила черного, как уголь, котяру. Потом Кришна сам заскочил на кухонное крыльцо, отряхнулся и независимо вошел в дом. Полакал молока и улегся возле печки – греться.
На следующий день он гулял уже дольше, и никто его не ловил. Потом еще дольше. Потом еще… Казалось, целью кота стало не упустить ни одного дня зимней, оглушительно пахнущей свободы. Может быть, он думал о том, что скоро все это удивительное дело кончится и надо будет ехать обратно, в Петербург. Мороз и снег не останавливали его совершенно, хотя мех его никто не назвал бы густым. Замерзнув, он возвращался, отогревал лапы возле плиты и снова шел гулять. Круги, которые Кришна описывал вокруг дома, становились все более широкими…
– Кришна, иди домой! – строго сказала Софи.
Кот фыркнул и скрылся под кустом, с которого тут же осыпалась маленькая снежная лавинка.
– А я тебя все равно вижу! – рассмеялась Софи. – Ты же черный, Кришна!
Кот в переплетении ветвей выглядел смущенно-обескураженным, как будто и вправду понимал человеческую речь.
– Ну и как же мне поступить? – спросила у него Софи. – Что же теперь будет?
Кришна переступил передними лапами и от этого провалился поглубже в снег. В целом движение выглядело так, как будто кот пожал плечами.
Софи огляделась. Мороз к полудню не утих вовсе, а, кажется, стал еще ядренее. Высокое голубое небо поблескивало едва улавливаемыми глазом разноцветными искорками. Ветви высоких плакучих берез, там, где доставали лучи солнца, казались облитыми жидким золотом. На конце каждой веточки сверкал снежный бриллиант. На ветках кустарников белел иней. Несколько алых округлых снегирей зимними яблоками сидели на ближайшем кусте. Кришна смотрел на них с хищной тоской и ярился от явной невозможности обладания.
Софи засмеялась от захватывающей дух красоты и жизненности представившейся картины.
– Правильно, Кришна, – кивнула Софи. – Я и сама так думаю. Что будет?! Что будет?! Как говорила моя няня: что-нибудь да будет непременно, потому что никогда не бывает так, чтобы ничего не было. Правда, Кришна?
Кот немного подумал, кивнул лобастой головой и скрылся поглубже в кустах. Софи развернулась на каблучках и решительно зашагала к дому.
– Господи, и все-то я делаю не так.
Женщина средних лет, слегка грузноватая, в лисьей шубке и теплой шали козьего пуха, тяжело поднялась с колен. Не глядя, протянула руку за тростью, она давно уж – лет десять, пожалуй, – без нее шага из дома не делала, хотя особой нужды в том не было – не такая уж калека. Но – привыкла… Да и правду сказать: удобно, особенно зимой, на льду.
Зима – кончалась. Солнце за окнами Покровской церкви стояло совсем весеннее. Не то, что оттепель – настоящая весна, с тревожными запахами и птичьими пересвистами. Это в Сибири-то, в феврале-то! А в апреле опять пойдут морозы, и опять ничего не родится…
Она думала об этом точно так же автоматически, как опиралась на трость, как считала столбы в заборе, каждый день проходя мимо усадьбы отца Михаила. В церковь – шесть столбов, и обратно столько же. Да, еще – обязательно! – бросить взгляд на шатровую кровлю Крестовоздвиженского собора и горестно вздохнуть. Сколько уж лет она туда не ходила? По большим праздникам только… Грех это, конечно, грех. Отца Андрея многие хвалят…
Она остановилась. Поправив шаль – в уши задувал сырой ветер, – неторопливо перекрестилась на кресты собора. Вот и все, а идти туда… Владыка Елпидифор бы сказал: гордыня! Она поморщилась, болезненное воспоминание явилось, как всегда, мгновенно: негромкое пришепетыванье, шарканье теплых валенок, запах просфоры и ладана… Ее детство оказалось накрепко переплетено с владыкой и, когда он ушел, рассыпалось безвозвратно. А до той поры все казалось: вот оно, за спиной, и, как только выпадет просвет в делах, можно будет туда вернуться и все поправить, наладить как следует!..
Марья Ивановна Опалинская шла домой по сыроватому утоптанному снегу – быстро, не глядя по сторонам. На протяжное приветствие матушки Арины Антоновны, взиравшей с высокого крыльца, как народ растекается от церкви, ответила коротко, едва взглянув, – и тут же подумала: до Пасхи непременно съездить к Фане!
Фаня Боголюбская – ныне сестра Дорофея – вот уж восьмой год коротала в Ирбитском монастыре, под черным клобуком. Для нее сбылось то, о чем когда-то Машенька мечтала для себя. Вернее – это ей казалось, что мечтала! А Фане и не казалось никогда, она и в страшном сне о том не могла помыслить. Виновата, конечно, была сама. Уж во всяком случае – не Арина Антоновна, глаза по дочери выплакавшая. Но Маша почему-то винила попадью. Не отца Михаила, даже не мужа Фаниного, что служил теперь в Крестовоздвиженском соборе (нет, его, конечно – тоже, но все ж не так), – ее, мать! Видела ж, за кого девку замуж отдаешь! Почему не настояла? Сам велел – как же! Вот так весь век и живем.
Маша уже давным-давно не жила – так. Попросту сказать, у нее не было самого, который мог бы велеть. Это она была сама. А как иначе? И не нужно иначе, да и невозможно – от последних иллюзий, слава Богу, скоро десять лет как избавилась.
До Пасхи съездить к Фане… А если англичане как раз приедут? Марья Ивановна смущенно улыбнулась; старательно двигая губами, проговорила беззвучно: «to give – gave – given… What do you want from me?»
Ох, до чего ж глупо. Это не они от нее что-то «want» – она от них, а они-то без нее прекрасно обойдутся. И не только англичане! Она мгновенно перестала улыбаться, вспомнив вчерашний разговор с Иваном Притыковым. Как он вежливо смотрел на нее – ни разу глаз не отвел! Со всем, что говорила, соглашался. Да, запасы не исчерпаны… новые способы добычи… новое оборудование… было б что предложить, как равноправным партнерам – тогда и прибыли… британцы, все знают – народ надежный, хоть и безжалостный… Ты совершенно права, сестрица Машенька, да вот ведь оказия: вовсе нет свободных средств, и ниоткуда не вынешь. Хорош братец Ванечка. А она-то едва не взвыла: выручай, поддержи, ведь последняя ж возможность на краю удержаться! Господи, а то он не знает.
В распахнутых воротах крутились собаки, на дощатых мостках, с утра тщательно отчищенных от снега, красовалась свежая, еще курящаяся лепешка конского навоза. Радость великая: Петр Иванович с охоты вернулся – и трех дней не прошло, как отбыл; и, судя по веселому голосу из глубины двора, кажется, трезвый. Пятнистая, как Арлекин, Пешка Малая издали увидела Машу, кинулась навстречу, ухмыляясь всей своей широкой брылястой мордой. Маша, наклонившись, выставила вперед руки, оберегая от грязных собачьих лап шубу и подол:
– Ну, утихни, утихни… радости-то! Сколь зайцев подняла?..
Пешка Малая была единственной из братниных собак, с которой Маша дружила. Не потому вовсе, что когда-то пришлось кормить ее из соски – мало ли щенков выхаживала, с ними вечно что-нибудь случается; вырастая, они переставали ее интересовать, только что голова болела от разноголосого бреха. И собаки ее тоже не замечали, а вот Пешка всякий раз подбегала и ластилась с самым счастливым видом; как тут не подружишься?
– О-о, свет Марья Ивановна! – Петя, широко улыбаясь, остановился на крыльце. Все-таки он был слегка пьян – терпимо, лишь бы сейчас не добавил… да, впрочем, это не ее, не Машино дело. – А что же Неонила сказывала: барыня, мол, с утра уехали в поселок?
– Нашел кого слушать, – Маша поморщилась, расстегивая на ходу крючки шубы, – она тебя-то хоть узнала? Или опять обозвала Бовой Королевичем?
Неонила, дочка плотника Мефодия, была взята в дом совсем недавно – на место Анисьи, которая, проживши почти до сорока лет незамужней девицей, вдруг нашла себе суженого из казаков и уехала жить в Большое Сорокино. Службу горничной Неонила исполняла с истовым рвением и редкой бестолковостью. Причина последней заключалась, видимо, в том, что она только малой частью своего существа находилась в этом бренном мире, а куда большей – в компании прекрасных принцев и герцогов, мага Мерлинуса, кровожадного Дракулы, несчастной бразильянки Изадоры и прочих персонажей копеечных книжек, кои добывались ею откуда только возможно в немыслимых количествах. Шурочка, научивший когда-то Неонилу читать, вполне мог гордиться результатом!
Парень, водивший вдоль навеса Петину чалую кобылу, захрюкал от смеха. Маша, осторожно обогнув прислонившегося к дверному косяку Петю, размотала шаль, повесила шубу и прошла, отчего-то тревожно прислушиваясь, на свою половину.
В комнатах громко тикали часы и лежали вечные сумерки. Эти комнаты оживали, только когда в них появлялся Шурочка. Стоило ему уйти – и они мгновенно приобретали совершенно нежилой вид. Даже запах появлялся застойный, с привкусом нафталина. Такой же запах, казалось Маше, исходил и от ее собственных платьев, и от одежды мужа. Она думала: все правильно. Мы не люди, мы – просто вещи в этих старых комнатах, где давно никто не живет.
И теперь она подумала так. И усмехнулась этому претенциозному сравнению, вполне достойному Неонилиных ярмарочных книжек. Однако же где Митя? Вот кто бы должен сегодня поехать в поселок. Но – не поехал, разумеется. Да толку-то от него там…
В вязкой тишине раздался вдруг долгий, глубокий звук – сверху, Маша, споткнувшись, вскинула голову. Кто там? Звуки падали один за другим, как тяжелые капли. Она заторопилась вверх по лестнице.
Дмитрий Михайлович сидел в ее гостиной за роялем, низко склонив голову. Играл осторожно, одной рукой, будто разбирая ноты, хотя никаких нот перед ним не было. Маша, невольно сдержав дыхание, остановилась в дверях. Она не могла понять, почему не решается шевельнуться или сказать слово. Ей совсем не было приятно, что муж сидит за ее инструментом! Ее – ох, Господи… Сама-то сколько лет не садилась? А он, оказывается, тоже играть умеет.
Трость неловко стукнула о половицу; Дмитрий Михайлович поднял голову. Бог весть с чего, ей показалось – он не очень-то рад ее видеть. Хотя – что радоваться? И трех часов не прошло, как расстались.
– Что, служба кончилась?
Маша, не отвечая, дошла до кресла, тяжело опустилась в привычную глубину, сунула под локоть думку.
– Ты не говорил, что музицировать учен.
– А, – он усмехнулся; встал, закрывая крышку, – в гимназии чему только не учили… Не в этой жизни.
Он сделал большой шаг от рояля и нарочито бодрым тоном заговорил о делах – явно опережая ее вопрос о не состоявшейся поездке в поселок:
– Так что, понижаем цены? Я тебе гарантирую, все покупатели Веры Михайловой будут наши. Сейчас – самый удобный момент; она проглотит. Эти англичане…
Она прервала:
– Митя, я с тобой как раз об англичанах хотела поговорить.
Так оно и было, – однако ж это обстоятельство не помешало возникнуть тягостному ощущению, будто она ради ерунды уходит от важного. А важное – что? Молча смотреть на него? Снова и снова пытаться ответить самой себе на какие-то вопросы… или хоть задать их внятно? Он улыбался, демонстрируя деловую готовность к серьезному разговору. Высокий, легкий, моложавый – будто отражение в пыльном зеркале: сотрешь пыль и увидишь юношу… Ох, как глупо-то, прости, Господи! Грехи, грехи…
– Давай подумаем, как лучше найти к ним подход.
– Что? – он поморщился, лицо стало такое, будто раскусил горький орех. – Подход к англичанам? Зачем?
Раздражение, как веник, тут же вымело прочь невнятные вопросы и ответы.
– Митя! Что значит зачем? Мне тебе объяснять?
– Можешь не объяснять. И не надеяться на них, Маша! Напрасный труд.
Он широко взмахнул рукой и, развернувшись на каблуках, отошел к окну. Дернул в сторону тяжелую суконную штору, заслоняющую свет.
– Митя, что ты? Гардину сорвешь.
– И очень хорошо. Эти бурые тряпки…
– Бронзовые, – сказала Маша, с легким удивлением слушая собственный голос. Дмитрий Михайлович посмотрел на нее непонимающе, она объяснила:
– Это бронзовый цвет.
– Это цвет грязи, – отчетливо проговорил он, и Маша удивилась еще больше: до нее дошло наконец, что он едва сдерживает злость. Спрашивается, он-то с какой стати?! – Вашей сибирской октябрьской грязи, в которой нам сидеть еще много лет, и боюсь, что на том свете – тоже. А эти англичане, Маша, они сюда явились, чтобы устраивать свои дела, а не твои, – и не за твой ли счет?.. Ведь говорил же я тебе, говорил: уедем! А…
Он внезапно замолчал и отвернулся, как будто устал от произнесения бессмысленных звуков. Маша, глядя ему в спину, подумала: сам – мошенник, вот других и подозреваешь. Этих мыслей следовало устыдиться, но вместо стыда вдруг явилась жалость к себе. Да сколько ж можно! Пусть она виновата. Все сделала не так. И до сих пор все всегда делает не так! Но они-то что ж – они, умники? Мужчины? Почему только ей приходится решать?!
– Ладно, уезжай, – она встала. Митины плечи дрогнули, но он не обернулся и не сказал ничего. Маша продолжала:
– Вези Шурочку в Петербург. Пора. Денег я дам.
– Благодарствуйте, матушка, – оборачиваясь наконец и низко наклоняя голову, сказал Дмитрий Михайлович.
В которой Марья Ивановна вспоминает, как англичане приезжали в городок Егорьевск и строит планы
Англичане приехали в Егорьевск октябрьским вечером, вскоре после того, как утих дождь, моросивший почти три дня без перерыва, и распахнулось небо, обнажив холодный желтый закат. Коляска на высоких рессорах неторопливо катила через жидкую грязь, лошади – замечательная серая в яблоках пара – фыркали, брезгливо переставляя тонкие ноги. И коляска, и лошади – это было замечено всеми! – принадлежали Василию Викентьевичу Полушкину. И на козлах сидел человек Василия Викентьевича – Афоня, горделиво поглядывал по сторонам и, в связи с торжественностью момента, даже не грыз орешки. Коляска остановилась у трактирных ворот, над которыми сияла вот только что, третьего дня обновленная вывеска: “Hotel California”. Хозяин – Илья Самсонович – моментально возник на крыльце, и, повинуясь его стремительным жестам, двое парней подскочили к коляске и потянули на свет Божий здоровенные клетчатые баулы, обхваченные ремнями. Вслед за чем и Афоня неторопливо сполз с козел, а уж после него изволили ступить на землю и англичане. Егорьевцы – все без исключения, даже те, кто был сейчас далеко от «Калифорнии» и никак не мог наблюдать исторического события – затаили дыхание.
Хотя – что уж было в этом событии такого исторического? Видали в Егорьевске иностранцев. С некоторыми так и ели, и пили, и братались, например, с норвежцем Свенссоном. И вообще – с тех пор, как в трех десятках верст от города прошла Транссибирская магистраль, Европа стала как-то существенно ближе, и многие это чувствовали.
Но все-таки… все-таки – было в них, англичанах, нечто эдакое. Не во внешности даже. То есть, и внешность они имели очень даже заметную, по крайней мере двое. Первый – грузный, осанистый, в пышных бакенбардах, глаза из-под нависших бровей глядят, как и положено у начальства, брезгливо и внушительно. Хоть сейчас бери и производи его в генералы! Впрочем, очень возможно, что он и был генерал – там, у себя в Британии. Второй – еще того примечательнее. Высокий рост, могучие плечи, руки – только кочергу в узел вязать. Скажите, восхищенно подумал Илья Самсонович, кланяясь с крыльца, – оказывается, и на их чахлых островах эдакие водятся. Его бы – к нам в Сибирь; да вот же, он и приехал… Лицо сумрачное, и на нем – шрамы, будто от львиных когтей. Да небось от них и есть, тут же решил трактирщик; англичане ж только и знают, что охотиться на львов да носорогов!
Третий с первыми двумя не шел, надо сказать, ни в какое сравнение. Хотя тоже не обижен ростом, но солидности – никакой. С длинной худой физиономии словно стерты все краски, белесые волосы зачесаны назад, и глаза – тоже светлые, как-то слишком уж легкомысленно поблескивающие сквозь круглые стеклышки, которые непонятно каким образом держались на носу, в руке – длиннейший зонтик с острым концом. В дом, вслед за своими товарищами, он не пошел, а остановился посреди двора и начал с любопытством осматриваться. Лиственничные бревна, из которых была сложена конюшня, привели его в восторг:
– Siberian power! – он взялся мерить диаметр бревна ручкой зонтика, а потом сравнивать полученный результат с собственной талией. Трактирная собачонка Шушка выскочила из кустов, заискивающе помахала хвостом и тут же получила от англичанина кусок печенья. Увидев такое дело, осмелели и дети, из-за забора жадно глазевшие на приезжих. Печенья хватило всем (оно было на удивление пресное и не сладкое), – англичанин, смеясь, доставал его из многочисленных карманов, но ничего большего они не дождались.
– That’s all! – объявил гость, и, мгновенно потеряв интерес к детям, бревнам и собакам, взбежал по ступеням крыльца.
– Это что ж за птицы такие, а? – почтительно осведомился конюх Авдей у Афони, обтирая полушкинских лошадей.
– Известно, что за птицы, – тот пожал плечами, прикидывая: доставать ли уже орешки или, ради солидности, потерпеть еще, – лорды.
– Чего?.. – Авдей нахмурился. – Ты, паря, не крути. Мы тоже кой-чего знаем. Не просто ведь так приехали, а?
– Известно, что не просто, – Афоня, решившись, выгреб таки из кармана горсть орешков, – а про что знаешь, молчи. Дело не наше.
Конюх покладисто закивал головой. Не наше, так не наше. А только Егорьевск – городок маленький, так и так все наружу выплывет и всех коснется.
Марья Ивановна Опалинская узнала о приезде англичан от Неонилы. Та, совершенно ошарашенная, потерявшая от восторга способность связно изъясняться, только всплескивала руками, отрывистыми жестами и гримасами изображала шрамы, очки и длину зонтика. Маша так и не поняла, кто именно из приезжих – и, главное, почему? – произвел на нее такое впечатление. Но – заинтересовалась. Англичане все ж таки, с того самого туманного острова, откуда были родом эльфы и персонажи ее любимого романа «Джен Эйр». К тому же – лорды. Вернее, лорд был только один: Александер Лири, третий сын герцога Уэстонского (звучит-то как, люди добрые!) – тот самый, с длинным бесцветным лицом и легкомысленным взором, одетый точь-в-точь как отважные покорители Африки на картинках в журнале «Нива», только что без пробкового шлема.
Впрочем, Маша его в таком облачении не видела, судила только по Неонилиному невнятному описанию. К ней с визитом он явился в безупречной серой паре. Под цвет полушкинских лошадей, тотчас подумала Маша, углядевшая в окно, в каком экипаже он прибыл. Это был совершенно классический британский аристократ – именно такими она их себе и представляла. На его фоне вовсе потерялся обремененный бакенбардами «генерал» (на самом деле не генерал, а, как ей уже было известно, мистер Барнеби, знаток юриспруденции – в каком-то сложном специфически английском звании, а попросту говоря, стряпчий). То есть, потерялся только в глазах Марьи Ивановны, Петя, например, уверял потом, что только один этот Барнеби и вел себя по-аристократически: глядел вокруг будто с возвышения и, когда ему приходилось до чего-нибудь дотрагиваться, принимал вид страдающей кротости, с каким, должно быть, вставала со своей горошины андерсеновская принцесса.
Лорд же Александер, кажется, и не подозревал о том, что являет собой в диких дебрях цвет британского пэрства. Весело блестя круглыми стеклами очков, подлетел к хозяйке, поцеловал руку – куда изящнее, чем Митя в лучшие времена! – и выдал по-английски длинную восхищенную тираду.
– Old chap, translate, for safe of my soul! – обернулся к третьему гостю. Тот сообщил, не скрывая усмешки, впрочем, вполне доброжелательной:
– Милорд говорит, что Сибирь повергает его в шок, и что ему нравится пребывать в шоке.
Голос у этого третьего был низкий, с приятной мягкой растяжкой, и говорил он по-русски очень правильно. В Маше тут же проснулось любопытство, она пригляделась к нему внимательнее. И сразу решила, что на сей раз Неонила права: это – древний воин. Варвар! Лохматая шкура на плечах, шлем с рогами и на лице – следы львиных когтей! То-то вся прислуга от него едва не шарахается. Вот кому бы в тайгу, да медведя поднять на рогатину. Ну, и – почему нет? Их же развлекать как-то надо…
Как развлекать и вообще – как встречать таких редкостных гостей, она не очень хорошо себе представляла. Особенности европейского этикета были ей известны исключительно из романов, у Пети же и таких знаний не имелось. Оставалось надеяться на Митю, а главное – на Шурочку, который, во-первых, чувствовал себя в любой компании как рыба в воде, а во-вторых, единственный в семье кое-как разговаривал по-английски.
– Oh, you and I share the same name! – заявил он милорду, демонстрируя хоть и далекое от лондонского, но все же вполне внятное произношение. Тот радостно воскликнул:
– Excellent! – и предложил поднять за столь уникальное совпадение имен тост. Машенька, глядя, как наполняют бокалы, понадеялась про себя, что с вином она впросак не попадет: Илья Самсонович головой ручался, ему в таких вещах доверять можно. Еще раз окинула стол быстрым придирчивым взглядом. Кажется, все на нем… Никаких европейских худосочных фуршетов она делать не стала – сохрани, Господь! – раз приехали в Сибирь, так по-сибирски и угощаем. Тревогу вызывало не то, что на столе, а то, что за столом, именно Петя. Пока он был трезв, но на провозглашенный тост отреагировал со слишком явным энтузиазмом. Осушив бокал, глянул на него снисходительно: да, хороши Рейн с Луарой, но лучше бы беленькой… и тут же взялся развивать мимолетную Машину мысль об охоте. Мол, ежели собраться в ночь, то как раз попадем на последнюю тягу. И будет вам, дорогие сэры, настоящая охота – не лис гончими травить! Лорд Александер воодушевился и, кажется, готов был ехать с Петей немедленно; однако, поглядев на спутников, объявил со вздохом, что теперь, увы – дела! А вот по возвращении в Егорьевск через недолгое время – если, разумеется, мистер Гордеев подтвердит свое любезное приглашение…
Хорошо, хоть Каденьки нет, подумала Маша, в который раз представляя, как бы тетка вцепилась в англичан на предмет потогонных методов эксплуатации, грабежа африканских колоний… чего там еще? Нет, это очень удачно, что она в Екатеринбурге. Из Златовратских присутствовал один Левонтий Макарович; Машу беспокоило, как бы он не начал донимать англичан Спартаком и Цинциннатом, – но покамест он сидел тихо и в черном, наглухо застегнутом сюртуке смотрелся весьма внушительно. Аглая же… вот против Аглаи Маша как раз ничего не имела, и та была, конечно, звана, да один Бог ведает, почему не явилась.
В общем, Петя представлял главную опасность. Да еще – его детки: одолеет их любопытство, и придут… и не запретишь ведь! Она все поглядывала на дверь. И, чуть что – вставала, вроде бы распорядиться насчет перемен. Страхи пока оставались напрасными, молодые Гордеевы (надо же: они – Гордеевы! Они, а не Шурочка. Нонсенс…) как ушли с утра из дома, так до сих пор и не возвращались.
– Лорд Александер приятно удивлен тем, что в сибирских гимназиях, оказывается, преподают английский, – перевел «древний варвар» очередную тираду милорда. Кстати, фамилия у него была и для варвара, и для англичанина не сказать, чтоб обычная: Сазонофф. И сам он тоже… Пожалуй, если и варвар, то не простой. Себе на уме. И – опасный, кажется. Впрочем, не для нее. Им-то что делить.
– Ничего такого у нас не преподают, – пожал плечами Шурочка, – в Егорьевске и гимназии-то нет. А английский… как без него? Ведь будущее, всем понятно – за Россией и Североамериканскими Штатами! И… за Британским королевством, – последнее было добавлено исключительно ради гостей; Дмитрий Михайлович отвернулся к окну, индифферентно улыбаясь.
– Учебник я, элементарно, раздобыл у госпожи Михайловой… – продолжал меж тем Шурочка; и Маша, вздрогнув, невольно бросила на сына негодующий взгляд: об этой-то зачем? О змее?! Еще расскажи, как она языками владеет! А тут и Левонтий Макарович очнется, станет расхваливать!
Очнулся, к счастью, не Златовратский, а знаток юриспруденции. Глядя на Шурочку издалека и сверху, важно задал вопрос, который м-р Сазонофф терпеливо перевел:
– Какое же будущее мыслит для себя наш юный друг?
Маша облегченно перевела дыхание. Шурочка, и впрямь настроившийся поговорить об уникальной землячке, покладисто перешел на другую тему:
– Маменька хочет, чтоб я в Петербург ехал, в Университет. Я и не против. А вот правда ли, что на Лондонской бирже за фунт стерлингов дают рубль с полтиною? Это, по-моему, никуда не годится!
М-р Барнеби сделал круглые глаза, а милорд расхохотался.
– Данные устарели, – сообщил м-р Барнеби.
И заговорил с Машенькой об Университете: мол, это замечательно, да что же потом? В Сибирь вернуться? Стать первым в деревне… или вторым в Риме? Маша молча кивала, спрашивая себя: верно ли, что мистер Сазонофф смотрит на нее как-то эдак? Или чудится? С чего б ему смотреть?..
– Вы себе не представляете, – заметил, все с той же непонятной и неприятной Маше улыбкой, Дмитрий Михайлович, – как много людей этим вопросом вовсе не задается.
– Отчего так? – взгляд мистера Сазонофф скользнул по лицу Опалинского и вернулся к Маше. Нет: чудится, подумала она. Это потому, что глаза у него – как у рыси: пристальные и пустые. И совершенно невозможно разобрать, какого они цвета.
– От бессмысленности-с. Спросите, например, почтенного Левонтия Макаровича, одного из умнейших, уверяю вас, представителей рода человеческого: вставала ль перед ним хоть раз подобная альтернатива?
Дмитрий Михайлович улыбался, играя серебряным ножиком. Маша взглянула на него, хотела сказать: что за чушь несешь, – но тут ей стало жалко мужа и неловко за него, и она промолчала.
– Начнем с того, что Сибирь – не деревня, – заявил Левонтий Макарович, вызвав явное удивление не только у Опалинского, но и у англичанина. Кажется, они оба не ожидали, что тот вмешается, – стать здесь первым… это, пожалуй, не хуже британской короны. Только едва ли кому по зубам, хоть своему, хоть пришлому.
Лорд Александер, которому м-р Сазонофф, в строгом соответствии с правилами хорошего тона, успевал переводить все реплики, с интересом посмотрел на Левонтия Макаровича и сообщил, что ни в коем случае не имеет подобных намерений.
– А каковы ж ваши намерения? – полюбопытствовал простодушный Петр Иванович. Милорд живо обернулся к нему и, не обращая внимания на недовольное шипенье м-ра Барнеби, объяснил:
– Разумеется, нам хотелось бы принять участие в освоении вашего Эльдорадо. Сибирь необъятна. Чтобы выпросить у нее тысячную долю того, что она может дать, вовсе не обязательно перебегать друг другу дорогу! Напротив, сотрудничество – единственное, что поможет нам не сгинуть в ваших чащобах… как они называются – тайга? В вашей тайге!
– Интересно, – это Дмитрий Михайлович, – какое же это будет сотрудничество? Может быть, акционерное общество…
– Отчего нет? Есть много способов… Но подождите: мы должны увидеть все, что намечено, и тогда уж мы непременно будем делать общее дело…
Голос милорда, то медлительный, запинающийся на согласных, а то вдруг чирикающий по-птичьи, странным образом переплетался с мягким хрипловатым басом мистера Сазонофф; так, что Маша уже не могла понять: чьи это слова? Чьи мысли? Митя нараспев повторил:
– Интере-есно… – и засмеялся.
Интересно! – думала Маша ночами, уже после того, как англичане уехали. Общее дело… почему нет? Эти господа хотят участвовать в освоении Эльдорадо. У них есть деньги. А у нее… у нее – прииск, вовсе не до конца исчерпанный, но умирающий без нового оборудования, которое она купить не в состоянии. Еще десять лет назад инженер Измайлов, которого она до сих пор вспоминала с тоской (самый дельный был человек из тех, что у нее работали! Так вот ведь – выжили, как будто все нарочно против нее…), составил план модернизации с точным подсчетом расходов и прибылей. Прибыли – таковы, что хоть локти грызи от злости! Потому что не увидеть их никогда: расходы-то неподъемны. Да, конечно: можно взять в банке кредит под залог капитала, рискнувши всем, что имеешь. Если б не Шурочка, она бы так и сделала. Но одна мысль о том, что сын в любой день может серьезно разболеться, и тогда до прииска ли будет – дай Бог сил и денег доехать до теплого моря, до целебных вод! – одна мысль об этом гасила все ее авантюристические планы.
Короче, годы шли, а на прииске если что и менялось, то слегка. Способы добычи оставались старые. Машины потихоньку изнашивались. Маша уже перестала дергать душу, думая об этом. Усердно занималась магазинами, подрядами, лесоторговлей. Иногда думала: вот, пришла к тому же, с чего отец начинал. Каково ему с неба-то глядеть? Но эти мысли гнала. Деньги шли хоть и небольшие, но стабильные. Шурочке хватит.
Конечно… не для такой жизни, какой она бы для него хотела! Разве ему в Егорьевске место? В Петербург, в Европу! Она представляла его там – в бальной зале, в слепящих бликах множества ламп, отражающихся в огромных окнах и зеркале паркета. Рядом почему-то всегда оказывалась Софи Домогатская, глядящая на Шурочку с недоверчивым восхищением: откуда такой? Маша и сама не раз задавала себе этот вопрос, любуясь сыном. Откуда такой? Легкий, тонкокостный, пышноволосый – как свечной огонек. Ее ли сын?.. Она закрывала глаза и вспоминала Митю – тогда, восемнадцать лет назад. Похож… Но – нет, Митя был совсем другим. Митя… Серж… Тут ее начинала мучить совесть, и она спрашивала себя: хорошо, а поступи она тогда правильно – что бы с ними было? Уговори Митю – Сержа! – покаяться, принять кару. Отдай все деньги, чтоб вернуть обманутым. Последуй за ним на каторгу, на поселение – на манер княгини Трубецкой. И что? Не гляделся бы он теперь таким пыльным, как будто в нем душа высохла и осыпалась? А Шурочка?..
Да никакого Шурочки тогда бы и не было!
Дойдя в своих рассуждениях до этого момента, Маша вздыхала облегченно и успокаивалась. Ненадолго, конечно. Сознание того, что Шурочка никогда не покажется в петербургской бальной зале восхищенным глазам Софи Домогатской, сидело в ней постоянно ноющей занозой.
И вот!..
Думать-то она думала, но решилась не сразу. Зато когда решилась, тут же почувствовала жгучую жажду действий. Ах, как же она их упустила, этих англичан! Почему не поговорила тогда же, в тот вечер… ведь они-то ее слов ждали! И милорд, и особенно Сазонофф, с этими его желтыми глазами, насквозь проницающими (теперь его глаза, цвета которых она так и не разглядела, вспоминались ей именно желтыми). Она едва не впала в отчаянье. Хотела даже посылать человека на Алтай с письмом – да впору бы и самой ехать! – но заставила себя остыть, успокоиться, все как следует продумать и взвесить. Это даже хорошо, что их тут нет – иначе наломала бы дров. Англичане – народ ушлый, моментально бы поняли, как сильно она в них нуждается, и не успела б она и глазом моргнуть – осталась бы и без прииска, и без денег. Нет. Она должна обратиться к ним как равная к равным. Предложить такое, за что они точно ухватятся.
Прииск в аренду – хорошо, да мало. Болота за озером, где заимка! (Как всегда, едва вспомнила о заимке, у нее коротко сжалось сердце, дернуло болью – и отпустило. Не до того…) Когда-то это были гордеевские земли. Потом пришлось продать. А ведь как раз там Коська Хорек в свое время шнырял, разнюхивал. На этом сыграть можно… если б найти деньги да выкупить… В одиночку – вряд ли выйдет. Да и страшно. Нужна опора.
Об Иване Притыкове она подумала в первую очередь. Он вел дела как раз на Алтае, – почему-то это казалось ей верным знаком того, что англичане должны его заинтересовать.
Нет. Не заинтересовали. И даже то, что она, сестра – которой он кой чем, да обязан! – его просит, не произвело на него впечатления. Митя тоже отнесся к ее планам, мягко говоря, – странно. Ну, и ладно, и Господь им судья. Она плакать не станет. У нее есть Вася Полушкин.
Уж в ком-ком, а в Васе Полушкине Маша не сомневалась. С раннего детства это был верный, надежный, спокойный друг. Не из самых близких, но – всегда под рукой, как привычная трость. Когда-то она глядела на него снисходительно, потом, с годами, поняла ему цену – научилась уважать. И до сих пор жалела. Очень уж он был неприкаянный; хотя кто не знал его близко, ни за что б не поверил. Глупенькая Любочка Златовратская улетела в Петербург… такой судьбы лишилась! Иногда Маша ловила себя на том, что завидует этой не случившейся судьбе.
Она встретилась с Васей в «Калифорнии». Понятно, приличной женщине не след по трактирам расхаживать, но Илья Самсонович не чужой человек – родственник, и у нее нашлось к нему дело: поговорить о племянниках. Начала с пустого, а потом так увлеклась разговором, что едва не прозевала Васю. Тот вошел в комнату, именуемую в «Калифорнии» господской обеденной залой, и, встав на пороге, огляделся: ясно, искал себе компанию, о делах за обедом потолковать. И тут же нашел бы: человек пять вполне для того годных сидело в разных концах залы, устроив локти на кружевных скатертях. Машенька, умолкнув на полуслове, торопливо кивнула свояку и двинулась к Васе.
– Василий Викентьевич, вот удача. Я спросить хотела: карп амурский – что за рыба? Стоит ли в садок запускать? Говорят, он всю траву разом съедает…
Вопрос был задан правильно. Вася тотчас зажегся и с полчаса, наверно, рассказывал ей про карпов: какова с этой рыбы польза и почему ее не только стоит, но и непременно следует запускать в садок. Когда подали чай, Машенька испугалась, что не успеет поговорить о главном, и перебила:
– У меня, Вася, к вам еще один вопрос.
– Эк планов-то, – он засмеялся. – Не соболей ли разводить? Знаете, мне это и самому в голову приходило.
– Мысль хорошая. Хотите – вместе займемся?
– Что, на паях?
– Почему нет? Мы с вами, Вася, всю жизнь друг друга знаем, а дела вместе почему-то не вели. Что, или достойной меня не считаете? Женщина, мол?
– Ну, вы, женщины, бываете такие, что нам… – он отчего-то замолчал. И в открытом взгляде вдруг мелькнула – или Маше показалось? – тревога.
– Так вы и впрямь о соболях?
– Нет, дорогой Василий Викентьевич, не о соболях. О болоте за Черным озером, где Атаманова заимка. Хочу его выкупить у казны.
Не показалось! Точно – тревога. С чего бы это?
– На что вам? Там, кроме комаров, сроду никакого зверья не водилось.
– Мне зверье и не нужно. Выкуплю, а потом в аренду сдам.
– В аренду? Кому?
– Да хоть англичанам.
– Так, – Вася согласно кивнул. Отщипнув хлебный мякиш, начал катать его по столу. Маша невольно следила за его длинными сильными пальцами – и чувствовала, как растет в ней тягостное удивление.
Он не хочет! Точно как Ваня Притыков. Не станет ей помогать. То есть… как это не станет?!
– Вася, я одна не справлюсь. Я ведь и впрямь – женщина. Мне совет нужен.
– Совет дам, – он поднял голову и поглядел на нее прямо, чуть исподлобья. И опять ей почудилось в его взгляде какое-то странное выражение… виноватое, что ли?
– Ну… говорите. Каков ваш совет?
– Совет мой таков: не связывайтесь с англичанами.
Она хоть и знала уже, что он это скажет, – вздрогнула, как от удара.
– Почему ж так?
– Не под силу они вам, Марья Ивановна. Хорошо, если просто откажутся. А то сожрут.
– Сожрут? Так ведь я оттого и предлагаю… – она едва не сказала ему «ты», как когда-то в детстве, но язык не повернулся. – Вас, небось, не сожрут. А дело выгодное может сложиться.
– Нет, Марья Ивановна… Машенька – не может. И я не могу.
Она хотела снова спросить: отчего ж так? – но промолчала.
Это его «не могу» было таким твердым и окончательным, что сразу стало ясно: нет смысла уговаривать. Да он по-другому и не умел. Да – да, нет – нет, остальное – от лукавого.
Где ж тот лукавый, беззвучно прошептала Маша, отчаянно давя в себе злость. Злость не поддавалась, разбухала стремительно, как перепревшее тесто. Дышать уж было совсем нечем.
Однако ж она себя смирила – впервой ли! – и не встала из-за стола даже после того, как он ушел, неловко попрощавшись. Неторопливо, глядя перед собою в стену, пила чай. Илья Самсонович подошел, задумчиво крутя часовую цепочку, свисавшую из жилетного кармана. Она, коротко покосившись на него, хотела сказать: отстань, Илья, не до племянников сейчас, – но прикусила язык, вдруг разглядев в его смородинно-черных глазах: знает!
Неужто подслушивал?..
Илья вздохнул, заметно морщась: не хотел первым затевать разговор, но и отступать был не намерен.
– Я тоже полагаю, Марья Ивановна: она его уж обработала.
– Она?..
– Кто ж еще?
– А вам что за интерес?
– Интерес не праздный.
– Ох, Илья Самсонович… – Маша, тяжело опершись о край столешницы, поднялась. Удивительное дело: злость, не сделавшись меньше, будто расступилась, перестала душить.
– Сделайте милость, проводите меня до саней.
Во дворе смеркалось, и занялась метель: зима, вытолкав нечаянную весну, спешила исправить все, что та натворила. Маша глубоко вдохнула колкий снежный воздух.
– Говорите, Илья, здесь и теперь, если есть что сказать.
Илья Самсонович поежился под накинутой шубой.
– Вот чего терпеть не могу, так это зимы сибирской… Сказать – конечно, есть что, а то б и не начинал. Вам угодно коротко? Тогда о племянниках не буду…В общем, если коротко, деньги у меня есть.
– Ох, Илья Самсонович!.. – повторила Машенька, чувствуя – хотя уже и ожидала чего-то подобного, – как стремительно растет удивление.
– А что? Всю жизнь трактирный гешефт ловить? Скучно! И опять же: своих-то детей у меня не будет, а им, – он, вздохнув, пробормотал что-то на идиш, – им все это не пригодится, нужен живой капитал, да боюсь, что немалый. Разве только Аннушка… Э, да я таки завел о племянниках!
– Мы с вами о них поговорим, – Маша тряхнула головой, ей, в отличие от Ильи Самсоновича, было жарко – вернее, стало жарко, пока она его слушала, – снежинки, падая на щеки, таяли мгновенно. – Все обсудим подробнейшим образом. Вот вы сестру навестить придете, и… Только, вы ж понимаете: если делать, так надо срочно, сейчас! Я ж ему все выложила! Ох, убить меня за это мало, – она стукнула кулаком по обледенелым перилам.
– Едва ль он ей скажет, – заметил Илья, и Маша сразу поняла, что он прав. – Но что срочно, это да. Нынче к вам и подъеду – потихоньку, – все обговорим… Но вы уж меня простите, Марья Ивановна: когда эти-то, джентльмены, приедут – мы с вами для представительства не подойдем. Ну, вы понимаете? Человек нужен… Может – Дмитрий Михайлович?
– Он еще меньше подойдет, – Маша резко поморщилась. И вдруг – улыбнулась, вспомнив, как Левонтий Макарович защищал перед англичанами честь Сибири. И тихо проговорила, удивляясь неожиданной идее:
– Думаю, человек найдется.
В которой Софи получает предупреждение об опасности и узнает об исчезновении Ирен
– Софья Павловна, здравствуйте!.. Вы меня еще помните, Софи? Я что, так сильно изменилась?
Быстро войдя, гостья оглядела обстановку комнаты жадным, внимательным взглядом, и даже коротко вздохнула от явного разочарования. Никакой оригинальности, стиля. Ничего. Несколько раскрытых книг на столе, кресле, бюро. Но названий прочесть нельзя. Взгляду решительно не за что зацепиться. Кроме самой хозяйки, конечно. Против столичного регулярного обыкновения, где каждый – от князя до фабричного рабочего – был вписан в свою среду, как картина в рамку, а сам Город с той же строгой, слегка высокомерной подчиненностью выстраивался вдоль продольных тускловатых зеркал дельты, Софи являла собой совершенный контраст с окружающей ее обстановкой. Казалось, что с вампирской обстоятельностью она втянула в себя всю ее жизнь, и теперь существует среди случайно выстроенного, обезличенного интерьера с удвоенной скоростью и энергией.
– Любочка! Конечно! Да, изменилась! – Софи окинула гостью взглядом настолько цепким, что он, как крючки повилики, казалось, цеплялся за каждую складку платья и души женщины. Любочка невольно поежилась. – В вас что-то такое новое появилось, как мы не виделись… Не знаю. Как будто вы шагнули куда-то… Не знаю. Да и не хочу знать, если честно! Каждый в душе углы имеет, куда другим не лезть, и за то Богу слава. А у кого душа круглая, без углов, тех дураками зовут, и сказки про них слагают… Вы ж не без дела ко мне, к нам? Сейчас чаю велю и расскажете… Я одну минуту позволю, вот эту бумагу надо сейчас на фабрику с человеком отослать, вы его видали, должно быть, он в прихожей или на кухне ждет… Сейчас…
Софи почти мгновенно переместилась от окна к стоячему бюро («У нее только такое и может быть, – подумала Любочка. – И обязательно в гостиной, где неуместно»), перелистала что-то, быстро выписала в столбик несколько цифр, подняла взгляд к потолку, подумала мгновение, чуть шевеля темными губами («считает, что ли?»), коротко написала что-то внизу, расписалась и буквально выбежала в коридор, на ходу подмигнув Любочке и свободной рукой прихватив лежащий на краешке бюро кусок черного хлеба.
«Не удивлюсь совершенно, если это ее завтрак,» – сказала себе Любочка и попыталась сообразить, как ей следует поступить в сложившихся обстоятельствах, чтобы все было в соответствии с правилами. Она так много лет готовилась к светской петербургской жизни, что правила вспоминались и даже читались легко, так, словно были крупными буквами написаны с внутренней стороны черепа.
Уже все подсчитав, подстроив реплики, и скорчив соответствующую мину (Любочка отчетливо понимала, что Софи все это совершенно безразлично, и делала это для себя, так сказать, для тренировки), она внезапно как-то впервые в жизни подумала о том, что Софи Домогатская может иметь любые манеры и делать вообще что угодно, но при этом все равно останется той же самой Софи, а она, Любочка Златовратская, сколько бы ни выламывалась… На какое-то короткое мгновение Любовь Левонтьевна вдруг (вполне неожиданно для себя) глубоко и искренне разделила социал-демократические и даже коммунистические взгляды мужа своей сестры Нади, и яростно возненавидела весь этот «свет» и всех этих аристократов, но тут же смирила себя. Так… Любочка всегда была отнюдь не бессильна в логике. Стало быть, если она их ненавидит, и допустить, что Ипполит Коронин и его сподвижники правы, и поднявшиеся в гневе темные народные массы должны закономерно их уничтожить, и построить жизнь, в которой все будут равны (и одинаковы, что ли? – вот этого Любочка просто умом не могла понять), то на что же тогда потрачена ее собственная жизнь?! Ведь она-то всегда именно к этому и стремилась: занять место среди них, добиться, чтобы они ее приняли, как… как равную? Что ж, в этом, пожалуй, есть даже какая-то ирония… И не стремятся ли к этому же самому не только она и Николаша Полушкин, но и «темные народные массы»? С кем можно поделиться подобной мыслью? Пожалуй, с той же Софи, но тогда ей слишком много пришлось бы объяснять про себя… Это лишнее…
Софи вернулась в комнату, пробежалась вокруг стола и присела на стул. Почти сразу же тугощекая горничная подала чай.
– Может быть, вы хотите вина? – спросила Софи.
– Нет, спасибо, – чуть удивилась Любочка. – А почему вы спросили?
– В вас напряженность с порога чувствуется. Многие женщины в нашем возрасте пользуются. Я и подумала… – прямо и равнодушно объяснила Софи.
Любочка обиделась и на напоминание о возрасте (она была на два года моложе Софи) и на равнодушие. Софи тут же уловила и то и другое, улыбнулась и упрямо мотнула подбородком: «пустое, мол, да разве вы меня не знаете? Я такая. Прошу любить, а если не выйдет, так хоть жаловать, что ли…»
Черт знает что отдала бы Любочка вот за эту легкость в обращении с жизнью, которая в ее глазах была сродни легкости ярмарочного жонглера, шутя подбрасывающего в воздух одновременно четыре факела. И ни один из них никогда не гас и не падал на землю…
– Вы же мне сказать что-то пришли, Любочка, так? – подбодрила между тем гостью Софи. – Булочки с мармеладом берите, их из кондитерской внизу приносят, хороши… Простите меня, я ведь этих разговоров пустых про погоду и виды на урожай не выношу, и с детства не любила. Да и вы, я помню, Каденькой не так воспитаны. Потому только и позволяю себе… И я, поверьте, вся внимание и слушаю вас, как знаю, что пустого у вас ко мне быть не может. Надя, Ипполит, Каденька, Аглая – в порядке?
– Да, – кивнула Любочка, аккуратно отпивая из чашки. – В Егорьевске, как я судить могу, все по-прежнему. Я же о здешнем говорить хочу. Вы меня когда-то здесь в Петербурге приветили, помогли Николашу отыскать и прочее… Я в долгу быть не люблю…
– Что за глупости, Любочка? – недовольно нахмурилась Софи. Видно было, что оборот разговора искренне не нравится ей.
– Оставьте, – упрямо склонила голову гостья. – Я так чувствую. Кто возразить сможет? Итак: Николаша вместе с Ефимом Шталь и, может, еще с кем, про кого я не знаю, станут пытаться вам навредить как-то. Предупрежден, – значит вооружен. Я хотела, чтоб вы знали…
– Николаша… Ефим… Но с чего же? Столько лет прошло! Даже женщины столько не помнят, а уж мужчины… Ерунда какая-то!
– И вовсе не ерунда! – горячо воскликнула Любочка. – Вы не поняли, а я – объяснить не сумела. Тут мужские интересы замешаны, а не женское… Золото, концессии, деньги. Николаша хочет Ефима чем-нито заинтересовать, а уж потом…
– А… И что же им от меня теперь надо-то? Все равно разобрать не могу…
– Да я толком и сама не знаю, – Любочка с сожалением пожала плечами, и тут же снова оживилась. – А вот скажите, Софи, про Ефима я вроде бы знаю, если из вашего романа судить. А чем же вы Николаше-то досадили? Вы же вроде сначала дружились с ним. Дело давнее, но мне знать охота…
– Вправду охота? – Софи испытующе взглянула на гостью.
Любочка энергично кивнула.
– Хорошо, скажу, только не знаю, что вы из нынешних своих обстоятельств с этим делать станете. Я, как вы помните, жила в Егорьевске у вас дома из милости, на птичьих правах и совершенно без средств. Покровителей у меня не было. Пользуясь тем, Николаша предложил мне стать его любовницей и получать соответствующее содержание, за что и получил натурально по физиономии. Вот и все, что припомнить могу.
– Вот, значит, ка-ак… – протянула Любочка. – Но он же тогда на Машеньке собирался жениться…
– Так в его глазах одно другому и не мешало. Замуж он меня не звал. Я ведь для всех вас была девочка – неизвестно кто, и неизвестно, откуда взялась…
– Вот, значит, как, – механическим несколько, неживым голосом повторила женщина. Софи взглянула на нее с тревогой. – Значит, он уж тогда – одним жениться, а другим…
– Что, Николаша теперь жениться собрался? Не на вас? – Софи всегда соображала достаточно быстро и старалась в любом разговоре сразу перейти к выводам.
– Да нет, нет! – поспешно отмахнулась Любочка. – Он нынче совсем другими делами занят. Золото хочет у нас в Сибири добывать.
– Николаша? Золото? – удивилась Софи. – Это каким же макаром? Я от вас же слыхала, что средств у него особых не водится, а на золотодобычу, как я понимаю, большие деньги вложить нужно.
– Вот он из того и крутится, – подтвердила Любочка и, подумав, добавила невнятно, но вполне искренне. – В общем, вы не волнуйтесь особенно… Я, Софья Павловна, зная Николашу доподлинно, думаю, что ничего страшного и даже крупного из всего этого не выйдет, пустое все… Но лучше знать все-таки, и коли вы сторожиться станете, если что, так тогда и наверняка…
– Конечно, конечно, Любочка, – Софи все еще задумчиво качнула головой. – Спасибо тебе… Сторожиться? – она недоуменно подняла бровь. – Как это? Собаку, что ли, завести?
Любочка брезгливо поморщилась. Софи уловила гримасу, улыбнулась.
– Псов, что ли, не любишь?
– Да нет, – Любочка потрясла в воздухе небольшой, но широковатой в запястье кистью. – Псы разные бывают. Вот как у Веры вашей были или Баньши у инженера Печиноги, это – да, это – звери, тех уважаю. А вот шушеру всякую комнатную терпеть не могу. Левретки, мопсы, болонки… Трясутся, сопят, скулят, чихают… Гадость!
– Ну… – видно было, что Софи никогда не задумывалась над этим вопросом. – Люди развлекаются, преданную душу хотят иметь, женщины в основном… Что ж плохого? Не станешь же в городской спальне волкодава держать!
Любочка упрямо помотала головой, сжав красивые губы, и Софи сочла за лучшее прикрыть собачью тему.
– А что ж у вас-то с Николашей? Как видится?
– Да никак! – Любочка вздохнула и сплела пальцы в замок. – Суетится, пишет, интригует. Тысяча дел. Я – тысяча первое получаюсь. И поскольку ни титула, ни денег у меня нет и не предвидится, то перспективы мои в этом вопросе весьма печальны.
Удивительно, но лицо Любочки при этом крайне пессимистическом высказывании осталось бесстрастным совершенно. Много лет зная ее природную истеричность, Софи взглянула на гостью внимательно.
– А как вам-то, Любочка? Может, иного… иное дело нашли?
– Может быть, может быть… – Любочка покачала головой и улыбнулась бегучей бледной улыбкой, похожей на промелькнувшего по краю поля зрения горностая. – Сколько ж можно все дурой сидеть и другим в рот заглядывать? До старости? Так недолго и осталось… Вот вы, Софи… Никогда никому не поддавались, все по своей мерке мерили и резали, где хотели. И правильно делали. Зато кругом все вашими объедками сыты…
– Что ты говоришь, Любочка?! – пораженно вскинула брови Софи.
– А как же? – гостья открыто и приветливо улыбнулась, приглашая и хозяйку к улыбке. – Судите сами. Сестра вместо вас за старика пошла. Машеньке Сержа с барского плеча кинули. Забирай, мол, нам больше не надо… Мне – Николашу. И, заметьте, как раз на тех основаниях, на которых от вас оплеуху получил. Ефим Шталь… на ком он там женился, в конце концов?
– На Мари Оршанской, – автоматически ответила Софи.
– Вот! – искренне обрадовалась Любочка. – Мари Оршанская, значит… Михаил Туманов…
– Михаил Туманов не достался никому… – металлически звенящим голосом сказала Софи.
– Да, – тут же согласилась Любочка. – Это – да. Такое просто и не может надолго быть. Как пожар. Но вам ведь и с Петром Николаевичем неплохо живется? Так? – она попыталась заглянуть в лицо Софи, но та уже отвернулась к окну. Не оборачиваясь, ответила.
– Совершенно верно, Любочка. Мне с Петей вовсе неплохо. А тебе… Пусть у тебя все будет хорошо… Матери и сестрам писать будешь, привет передай.
Любочка поняла, что ее фактически выставляют за дверь. Но не обиделась совершенно. Ведь она увидела, сделала и сказала именно то, что хотела. И картинка в результате нарисовалась ничуть не хуже, чем получаются у самой Софи.
Сердечно распрощавшись с хозяйкой, клюнув ее в щеку колючим, женским, черт знает что означающим поцелуем, Любочка спустилась по широкой лестнице и вышла на улицу.
Пожилой извозчик, согнувшись на козлах, покашливал и шлепал рукавицами. Каурая лошадка поводила заиндевевшими ноздрями. Наглый, веселый воробей (зиму, считай, уже пережили!) расклевывал теплый навозный катышек едва ли не под самым копытом.
«Может быть, мне тоже попробовать романы писать?» – думала Любочка, усаживаясь на извозчика, пряча руки в меховую муфту и сама чувствуя на своих губах морозную, ядовитую улыбку.
Пучочек мышиных волос, скрученных на затылке, казался не больше крупного грецкого ореха.
«Отчего не подстрижется по моде или уж шиньон не носит?» – подумала Софи, разглядывая Лидию, малознакомую ей компаньонку младшей сестры Ирен и уж догадываясь об очередных, и, видимо, не мелких неприятностях.
После окончания Бестужевских курсов Ирен не вернулась в Гостицы и осталась жить в Петербурге, где вместе с сокурсницей Лидией Безруковой организовала начальную школу для разночинских девочек. Модест Алексеевич помог средствами вначале, но через два года Ирен уж вернула долг (что Модеста Алексеевича немало обидело, так как Ирен, как и младших мальчиков, он всегда рассматривал как собственную дочь. Софи пришлось тогда утешать старика, объясняя ему, что бестужевки всегда отличались странноватым на некоторый взгляд этическим кодексом, и судить их поступки по привычным, старо-усадебным меркам не стоит, чтобы не расстраивать собственных нервов).
Для школы Ирен и Лидия сняли небольшую трехкомнатную квартирку на углу Фонтанки и Вознесенского проспекта. В одной из комнат жили сами. В другой, для старших учениц, стоял длинный стол, стулья, глобус и классная доска. В третьей, для младших, располагались четыре удлиненные парты, на 6 человек каждая, столик для учительницы, классная доска с привешенной к ней коробочкой для мела. Больше оборудования не было. Все потребные для обучения пособия девушки изготовляли своими руками.
В младшем классе преподавала Лидия, в старшем – Ирен. Для обучения закону Божьему два раза в неделю приглашали молодого батюшку из ближайшей церкви. Кроме платы, по уговору поили его чаем с пирогами. Пироги, которые Лидия пекла сама, батюшка очень уважал.
Большинство учениц было из семей среднего достатка. Родители отдавали их в частную школу, так как считали, что там учат лучше, чем в народной, бесплатной, и легче будет потом поступить в гимназию. Поначалу многих смущал юный возраст обеих учительниц. Ирен и Лидия изо всех старались поддерживать реноме серьезных дам. Лидия носила очки. Ирен ходила в темных платьях с небольшими стоячими воротниками и укладывала толстенную косу венцом, как крестьянки на картинах Венецианова. Детей провожали в школу и встречали после занятий либо родители, либо прислуга. Занятия длились четыре часа с получасовым перерывом и завтраком. Завтрак ученицы приносили с собой, в специальных корзиночках. Достаток у всех семей был разный, и соответственно содержание корзиночек – тоже. Ирен и Лидия учили делиться, объединять провизию. Старшие девочки делились охотно и с любопытством заглядывали в чужие корзинки, где казалось вкуснее, а малышки – жадничали, норовили хоть украдкой, но скушать свое.
После завтрака всех учениц выпроваживали в переднюю, а классы – проветривали. В передней сразу же начиналось шушукание, то и дело прерываемое визгом, а то и слезами. Девчонки толкались, щипались, дергали друг друга за передники, старшие иногда в толчее скалывали платья английскими булавками. Ирен и Лидия не вмешивались, полагая, что после двух часов смирного сидения детям нужна разрядка нервов. На особенный шум могла выглянуть из кухни кухарка Лина и замахнуться половником. Ее боялись едва ли не больше учительниц. Особенно малыши…
– Что ж, Лидия, вы, может быть, чаю хотите? – Софи отвлеклась от воспоминаний и вернулась к обязанностям хозяйки дома. – Я велю подать…
– Нет, Софья Павловна, не надо, недосуг теперь…
– Отчего же?
– Ирен пропала! – выпалила Лидия и по-куриному закатила глаза, выпятив вперед белую (без морщин! – невольно отметила Софи) шею. Именно так в юности закатывала глаза лучшая подруга Софи – Элен Скавронская. И всегда безмерно раздражала Софи этим жестом, открыто и, пожалуй, навязчиво демонстрирующим окружающим сильное переживание.
– Когда пропала? Где? При каких обстоятельствах?
– Я ничего не знаю! – Лидия, похоже, раздумывала, не заплакать ли ей.
И, к счастью для Софи (слез она тоже терпеть не могла, и считала проливание их пустой тратой времени), кажется, склонялась к отрицательному варианту. «Возможно, у нее просто нет с собой достаточно свежего платка», – подумала Софи.
– И все-таки! – настойчиво повторила Софи. – Скажите мне все, что знаете. С чего вы вообще решили, что Ирен – именно пропала? А не отправилась, например, в Гостицы? Или еще куда-нибудь?
– Позавчера после уроков она уехала по своим делам, – послушно начала рассказ Лидия, слегка успокоившись от того, что сумела отыскать желающего взять на себя ответственность за происходящее. – Сказала мне, что вернется часам к восьми-девяти. А потом… потом не пришла домой ночевать. Я думала… ну, в общем, это уже теперь неважно, что, потому как она и утром на уроки не пришла. А это… это уже совсем невозможно… Ирен никогда… Никогда… Я боюсь, что с ней что-то случилось! – на последней фразе Лидия заговорщицки понизила голос.
– В полицию ходили?
– Да, – кивнула Лидия. – Они там все записали, приметы и прочее… Сказали, что в… в убитых и умерших Ирен не числится. А когда узнали, кто мы, то и вовсе беспокоиться перестали…
– В каком смысле – кто вы? – переспросила Софи.
– Ну, Софья Павловна, будто вы не знаете, как официальные чины к бестужевкам относятся? Они же не разбирают… Сказали, что, как мы особы свободного поведения, так будто Ирен сама может куда угодно отправиться, и меня не предупредить… А такого быть никак не могло! Это я точно знаю! Ирен не такая!
– Гм-м… Пожалуй… – Софи задумчиво накрутила на палец локон. – Но… может быть, ее задержали… какие-нибудь непредвиденные обстоятельства? Я… я имею в виду сердечного свойства?
Софи решительно ничего не знала о сердечной жизни своей младшей, незамужней сестры, но рационально предполагала, что у двадцатипятилетней женщины, умной, свободной и по своему весьма привлекательной, что-то такое непременно должно быть. С самого детства Ирен была крайне скрытной и никого не подпускала к своим душевным тайнам. Софи, в свою очередь, никогда не обнаруживала излишнего любопытства по этому поводу. И – зря, как теперь неожиданно выяснилось.
– Нет! – твердо сказала Лидия. – Ирен не из тех людей, которые позабудут свой долг ради… ради каких-либо страстей. Она в любом случае нашла бы возможность известить, предупредить меня…
– Пожалуй, так, – снова качнула головой Софи. – Но вот те дела, про которые вы говорили, куда она отправилась после уроков – что они?
– Я точно не знаю, – Лидия говорила отрывисто, нервно покусывала бледные губы. – Меня это никогда не интересовало. Я даже спорила с Ирен. Поэтому она… не слишком распространялась…
– Так «не интересовалась» или «спорила»? – уточнила Софи. – Согласитесь, это разные вещи… И, пожалуйста, подробнее, это важно…
– Да, да, конечно, вы правы, – Лидия переплела пальцы и стиснула их. Раздался хруст, от которого Софи передернуло. – Попробую объяснить. Дело в том, что Ирен, несмотря на весь рационализм полученного нами образования, всегда интересовалась мистикой…
– Да, я помню, – не удержавшись, вставила Софи.
Пожалуй, Лидия выразилась излишне мягко. С детских лет Ирен мистикой не просто интересовалась. Она с нею жила. Странные способности девочки, а потом и девушки были притчей во язытцах у населения едва ли не всех окружавших Гостицы деревень. На протяжении многих лет Ирен то предсказывала что-то такое, что после сбывалась, то лечила покалечившегося крестьянина или заболевшего ребенка наложением рук, то совершала еще какие-нибудь, не менее странные поступки. Впрочем, надо признать, что сама она своих непонятных способностей сторожилась, и старалась их не афишировать без крайней на то надобности. Но любопытство и тревога, разумеется, жили в любознательной и умненькой девушке. И в общем-то нет ничего удивительного в том, что, оказавшись в Петербурге, Ирен сразу же попыталась отыскать единомышленников или, точнее сказать, «единочувственников». Учитывая же обширность и крайнее разнообразие оккультного петербургского болота (в этом месте Софи невольно вспомнила Ксеничку Мещерскую, ее сапфир и спиритические сеансы в ее салоне…)…
– Ирен ходила в какие-то кружки, еще когда мы учились, – продолжала между тем Лидия. – Сначала она смеялась над ними, и много и остроумно рассказывала мне о том, какими глупостями там занимаются. Называла все это средневековьем и мракобесием. Я спрашивала ее: «Зачем же ты туда ходишь? Зачем тратишь свое время на всю эту чушь? Ведь есть множество передовых обществ, кружков, в которых люди встречаются, чтобы поговорить, обсудить и приблизить будущее России, всего мира, а не копаются в давно отмершем прошлом…» Ирен отвечала мне приблизительно так… – Лидия снова закатила глаза, теперь уже вспоминая. – Мир, по-видимому, несколько больше, чем мы о нем понимаем в текущий момент. Что-то в нем поддается научному познанию. Что-то – пока не поддается. Кроме строго научного, у человечества на протяжении тысячелетий были еще и другие способы постижения мира. Отвергать их все разом в угоду голому рационализму, как бред и чепуху, нет никаких оснований. Она, Ирен, чувствовала все это с самого детства своей собственной шкурой (этого я не могла понять, а она – объяснить). Теперь настало время попытаться как-то все это уразуметь, разложить по полочкам. Я, помню, даже советовала ей идти в церковь. Мне кажется, что, если внеразумное постижение мира существует, то его следует искать именно в рамках мировых религий, их тысячелетних практик, а не…
– Да, вы знаете, я согласна с вами! – быстро сказала Софи и взглянула на тусклую Лидию с невольным уважением. – А что же Ирен?
– Ирен говорила, что в традиционных религиях ее отпугивает их закоснелость, невозможность пересмотра даже самой маленькой, случайной, быть может, догмы. Все эти кружки были, по ее словам, хоть каким-то, но поиском новой истины, соотнесенной со временем прогресса…
– Да, это очень похоже на Ирен…
– А потом, с год уже, наверное, что-то изменилось. Сначала она перестала смеяться, а потом и рассказывать…
– И вы… Неужели вы ничего у нее не спрашивали, Лидия? Вы же жили вместе! Право, мне трудно поверить в существование молодой женщины, начисто лишенной любопытства…
– Разумеется, я спрашивала. Она отвечала вежливо, но как-то… отчужденно, что ли? Говорила, что все это слишком сложно и серьезно, чтобы объяснить мне в двух словах, да она и сама еще не слишком разобралась, и потому не хочет вводить меня в заблуждение, путать…
– Она называла какие-то имена? Явки? Пароли?
Лидия взглянула на Софи с удивлением. Ирен упоминала о том, что ее старший брат был связан с революционерами и пострадал из-за этого. Что же, выходит, и старшая сестра – тоже из них? А как же ее фабрики, издательство, прочее?…
– Нет, – подумав, с достоинством ответила Лидия. – Никаких явок и паролей Ирен, разумеется, не называла. Имя же я запомнила только одно, хотя и не уверена в том, что это именно имя…
– Ну! Как? Не тяните же! – нетерпеливо прервала Софи и притопнула обеими ногами сразу, подавшись вперед и вцепившись в ручки кресла побелевшими от напряжения пальцами. Вздохнув, Лидия, в свою очередь, вспомнила о том, что, по словам Ирен, манеры ее сестры временами очень далеки от светских, и это – часть ее очарования и оригинальности. «Возможно, возможно…» – мысленно покачала головой Лидия. Невоспитанность и отсутствие терпения никому не придавали очарования в ее глазах.
– Даса. Звучит, как собачья кличка, вы согласны?
– Даса? – повторила Софи. – Он что же, индус? Китаец?
– Не знаю наверняка, но из каких-то слов Ирен у меня сложилось впечатление, что он такой же европеец, как мы с вами. Кажется, русский. Вроде бы из образованных и даже знатных слоев…
– Из образованных и знатных? Это уже легче… – пробормотала Софи себе под нос. – Спасибо, Лидия, – сказала она, вставая. – Я немедленно попытаюсь что-то разузнать и предпринять.
– Вы… найдете Ирен? – Лидия тоже поднялась (оказавшись одного роста с высокой по любым меркам Софи), взглянула прямо в лицо беспомощно и близоруко. – Она ведь не могла… Вы понимаете? Она не могла просто так… исчезнуть, никого не предупредив… Она не такая…
– Конечно, конечно, – закивала Софи, думая про себя, что, если кто-то из их семьи и мог исчезнуть вот таким непонятным образом, так это как раз Ирен. – Я извещу вас.
– Софья Павловна, я должна вам сказать. Если вам понадобится любая помощь с моей стороны, вы всегда можете на меня…
– Могу рассчитывать. Это очевидно. Спасибо, – Софи говорила отрывисто и явно ждала, когда Лидия уйдет. В душе девушки снова шевельнулась неприязнь к сестре Ирен. «Порядочная женщина из общества не должна быть такой… такой откровенной» – с учительской привычкой она облекла свое недовольство в слова, с неодобрением взглянула на Софи, невнятно пробормотала какую-то прощальную формулу, получила такое же бормотание в ответ и вышла из комнаты.
– Фрося, проводи гостью! – крикнула Софи, как всегда, совершенно не заметив вызванного ее поведением недовольства. Подобные тонкие вещи ее просто не интересовали. «Хочешь драться, так дерись, а мириться – так мирись! – говорила она еще в детстве. – А чего подпрыгивать друг перед другом, как петухи в пыли? Только время терять…»
Терять время Софи не любила из природного рационализма, хотя никакого недостатка в нем никогда не ощущала. Иногда ей вообще казалось, что в ее собственных сутках несколько больше часов, чем в сутках, предоставленных судьбой другим людям. Единственным человеком, который понимал ее вполне и жил в таком же, как бы растянутом относительно прочих времени, была и оставалась бывшая горничная Софи Вера Михайлова.
Отношения Софи со временем оставались весьма удивительны для большинства окружающих. Несмотря на огромное количество дел, которые она делала практически одновременно, у нее всегда находилось свободное время не только на чтение книг или ленивое безделье, но и на любое новое начинание, которое ее хоть сколько-нибудь занимало. Сверстницы и подруги Софи, которые, встав поздним утром, практически не успевали заметить, как наступил вечер, а с весны до Рождества каждого года насчитывали два-три запомнившихся из собственной или общественной жизни события, удивлялись и, пожалуй, не по-хорошему завидовали этой особенности Софи Домогатской.
«Я просто очень многого не делаю из того, что все, – объясняла желающим Софи. – Оттого и времени много остается. Прически, притирания, ванны, вся эта суета перед зеркалом в будуаре. Потом – чай, визиты, карточки, разговоры ни о чем. Мода, портные, доктора… Целый большой кусок жизни ко мне отношения не имеет.» – «Но что ж, если заболело что-то? – удивленно переспрашивала собеседница. – Как же без доктора?» – «Болезни – от скуки, или от того, что делаешь не то, что надо. Или уж от исчерпанности жизни, – отчеканивала Софи. – Думать надо, что еще сделать можно, а не пилюли глотать!» – «Ну это уж вы, милочка, чересчур!» – недовольно бормотала собеседница. – «Извольте, как знаете!» – Софи облегченно вздыхала и вместе с ощутимым кожей сквозняком уносилась по очередному делу.
«Все три сестры Домогатских уродились чертовски разными, – давно уж заметил кто-то из наблюдательных знакомцев семьи. – Вокруг Софи постоянный тревожный сквозняк, средняя – непрерывно зевает, а младшая – всегда стоит на пороге».
Софи, не доверяя первому впечатлению, перелистала воспоминания об Ирен. Действительно, девочка, а потом и девушка всегда помнилась в обрамлении какого-то дверного проема. Теребит толстую косу, глядит искоса и чуть исподлобья, слегка раскачивается с носков на пятки, словно не решается шагнуть…
– Ирен! – тихонько, себе под нос позвала Софи. – Ты, наконец, шагнула с порога? Куда? И почему не предупредила меня?
В которой Софи и Элен Головнина вместе с детьми посещают Масленичные гуляния и беседуют о наболевшем
– Мамочка, дай три копейки, я судьбу попытаю! – попросила Милочка, опасно подпрыгивая на сидении высокой, с гербом кареты и дергая Софи за рукав.
– Что?! – удивилась Софи, и сверху вниз оглядела дочь так, как будто бы само ее наличие явилось для нее неожиданностью.
– Да вон там! – ломким, переменчивым голосом сказал подросток Ваня, и указующе дернул тонкой шеей в воротнике синей гимназической шинели. – Вон, где мышь, туда ей надо.
Элен Головнина с доброй улыбкой взглянула сначала на сына, потом на Милочку и, не дожидаясь реакции Софи, протянула девочке двугривенный.
– Беги, солнышко, коли хочется. Ванечка тебя сопроводит. И купи себе игрушку какую-нибудь.
Сын Элен протестующе и независимо дернул шеей еще раз, однако возражать вслух не стал. Милочка же зажала в кулачке двугривенный и, стараясь даже случайно не встретиться с матерью взглядом, споро выпрыгнула из коляски. Ваня неуклюже полез за ней. Когда он оказался рядом с ней, Милочка сунула ему в руку свою ладошку и потащила в ту сторону, где толпились ребятишки и шарманщик вертел ручку своего органчика, нестройно выпевающего чувствительную мелодию «Мой костер в тумане светит». Кудлатая девчонка в разбитых, подвязанных бечевкой ботинках, не старше Милочки годами, охрипше и бесчувственно выкрикивала:
– А вот кому судьбу попытать! А вот кому судьбу! Три копейки – судьба!
Прямо на ящике шарманщика стояла небольшая деревянная клетка с ржавыми прутьями. В клетке сидела крупная белая мышь и ела заплесневевший с краю кусочек сыра.
Таща за собой Ваню, Милочка протолкалась сквозь толпу.
– Мне, милая, мне судьбу! – привлекла она внимание девчонки и показала зажатый двумя пальцами двугривенный. Какой-то мальчишка-оборванец хотел было выхватить монетку из Милочкиной руки, но Ваня, неожиданно быстро сориентировавшись, отвесил ему увесистую затрещину.
Девчонка-шарманщица хрипло засмеялась и показала оборванцу язык.
– Так тебе, Федька! Не лезь к господским детя́м!.. А вы, барышня, проходьте сюда, проходьте! Сейчас Матильда вам все доподлинно разузнает…
Воришка ощерил черные зубы, но не убежал, а остановился поодаль, сунув в карманы иззябшие кулаки.
– Это ты – Матильда? – спросила Милочка, покуда девчонка доставала ей сдачу откуда-то из глубины своих живописных лохмотьев.
– Не, я – Катька! – усмехнулась девчонка, просовывая в клетку пальцы и отбирая у флегматичной мыши кусок сыра. – А Матильда – вот она!
Достав мышь из клетки, Катька посадила ее на ящик возле маленькой коробочки с прорезью. Матильда быстро шастнула туда и сразу же вылезла обратно, держа в зубах свернутую в трубочку бумажку. Милочка в восторге захлопала в ладоши. Катька, не торопясь, вернула мышь в клетку и отдала ей сыр. Потом развернула бумажку и глянула на девочку с тенью тревоги на скуластом лице.
– Вы прочитать-то сможете? Или вон, кавалер ваш…
– Да я сама умею читать, – удивилась Милочка и взяла бумажку из Катькиных грязных пальцев. Ваня, словно невзначай, заглянул ей через плечо.
«Тайны сгущаются вокруг вас», – вслух прочитал он.
«Ох! – вздохнула впечатлительная Милочка, которая тоже прочла надпись. – Жутко-то как!»
– Не дрейфьте, барышня! – усмехнулась Катька и ковырнула пальцем в широком носу. – Вам еще понравится будет, вот увидите!
– Глупость какая! – на этот раз Ваня дернул плечом. – Охота тебе! Пойдем…
– Пойдем, пойдем, Ваня! – горячо согласилась Милочка, уже позабывшая о странном предсказании. – Пойдем еще поглядим! Вон там, смотри, обезьянка! И еще Петрушка… И карусель… Побежали туда…
– Ерунда все… – пробормотал Ваня, широко шагая вслед за бегущей девочкой.
Впрочем, справедливости ради надо заметить, что он не так уж сопротивлялся происходящему. Несмотря на возраст (этой зимой Ване исполнилось 12 лет) и гимназический мундир, ему и самому было любопытно. Никогда еще он не принимал участия в народных масленичных гуляниях.
Гуляния эти проходили ежегодно на Семеновском плацу, который начинался сразу за казармами Семеновского полка и тянулся до Обводного канала между Звенигородской улицей и Царскосельской железной дорогой. На масленицу весь плац заполнялся балаганами, качелями, каруселями, ларьками с игрушками, сладостями и горячими блинами. Гуляния посещал в основном простой люд, мастеровые, чиновники низших классов. Аристократы иногда привозили детей посмотреть на веселье, но из экипажей не выходили. Отец Вани Василий Головнин, впрочем, и это считал ненужным. Между тем несколько учеников из разночинцев, с которыми Ванечка учился вместе в гимназии, рассказывали, что на масленицу на плацу «отменно весело». Потому не было ничего удивительного в том, что, когда Ванечка узнал, что лучшая подруга матери, Софья Павловна Безбородко, почему-то назначила ей встречу не в особняке Головниных и не в своей городской квартире, а возле масленичных балаганов (пусть Милочка развлечется, посмотрит), мальчик охотно (поворчав лишь для вида) вызвался сопровождать мать и даже согласился развлекать Милочку.
Теперь же ему просто до щекотки в носу хотелось прокатиться на карусели. Карусель-«корабль» была удивительно хороша и пользовалась заслуженным успехом. Площадка карусели при вращении меняла плоскость движения, отчего создавалось впечатление, что палуба под тобой качается и ты действительно находишься на корабле в сильную бурю. Для большего впечатления на перилах были развешаны спасательные круги. Центр ограждала круговая стенка с иллюминаторами, а сбоку висел большой якорь. При отправлении и остановке карусели раздавался пароходный гудок. Карусель вращали вручную несколько здоровенных парней, которые упирались могучими руками в горизонтальные балки.
– Милочка, у нас же деньги остались, – солидно сказал Ваня. – Идем на морскую карусель. Это очень занимательно и познавательно.
– Хорошо, Ванечка, – тут же согласилась Милочка, которая не любила никому отказывать. Огромная карусель, между тем, изрядно пугала девочку. К тому же ее укачивало практически в любом экипаже. А что будет на карусели? – Но сначала давай Петрушку посмотрим, ладно? – попросила Милочка, рассудив, что, если немножко отложить неизбежную неприятность, то она, может быть, окажется уж не такой и страшной…
Ванечка вздохнул и поплелся вслед за девочкой смотреть Петрушку.
Представляли «Петрушку» два артиста – один с ящиком и ширмой, другой – с гармошкой и барабаном. Ширма расставлена в виде замкнутого четырехугольника, внутри сидит артист, который управляет куклами. Во рту у него особая свистулька, которая искажает звук человеческого голоса. Другой в это время играет на гармонике и заменяет собой чуть ли не целый оркестр. За спиной у него турецкий барабан с медными тарелками наверху, от которых к ноге протянута веревка. За манжету на правой руке заложена колотушка для барабана, так что правой рукой он и играет на гармонике, и бьет в барабан. На голове – медный колпак с колокольчиками. Все вместе создает ужасный шум, который нравится собравшейся публике. Главный герой представления – Арлекин-Петрушка. Он никого не боится, всех побеждает, может выкрутиться из любого положения, острит и шутит. Сидящий за ширмой человек говорит разными голосами за разных героев. Вот над краем ширмы появляется кукла-городовой с красной физиономией и необыкновенно длинными усами. Он грозно ревет: «Я тебя, Петрушка, в участок заберу, ты всех обижаешь!» В руках у Петрушки появляется палочка, он бьет ею городового по носу. Петрушка хохочет, публика тоже. Все воспринимают это так, что есть сила выше городового…
Представление с Петрушкой с самого начала кажется Ванечке довольно глупым. Вместе с родителями и братом он много бывал в петербургских театрах, в концертах, у них ложа в Мариинке, в особняке Головниных часто бывают музыкальные вечера… Но вот уже два городовых со свистками наступают на Петрушку, а тот, отшучиваясь, отходит к самому краю ширмы… «Что ж делать, люди добрые? – с ноткой растерянности обращается к людям Петрушка. – Неужто за так пропадать во цвете лет?» – «Нет! Не надо! Дай им, Петрушка! Покажи им!» – кричат вокруг. Мальчишки подпрыгивают, чтобы лучше видеть. Подвыпившие мастеровые ударяют кулаком по ладони. Девчонки стоят, полуоткрыв рты и забыв лузгать подсолнухи.
– Ну же, Петрушка, не сдавайся! – вместе со всеми кричит Ванечка, изо всех сил сжимая мокрую Милочкину ладошку.
Разумеется, Петрушка побеждает.
Милочка, нога за ногу, плетется вслед за Ванечкой к карусели. Чтобы утишить ее страхи, Ванечка покупает ей горячую булку с марципаном. Гармонь играет вальс. Карусель отправляется…
– Три копейки – судьба! – говорит Софи Домогатская в полутьме кареты и некрасиво щерится.
– Да успокойся же, Софи, – ласково уговаривает подругу Элен Головнина. – Ну пусть дети развлекутся, раз уж ты здесь решила. Васечка никогда бы не позволил, а Ванечке, я знаю, охота… И Милочка… Кстати, а почему ты Павлушу с собой не взяла?
– Да потому, что ему все это не надо. Он это презирает.
– Что презирает? – удивилась Элен. – Масленицу?
– Развлечения. Веселье. Не знаю. Иногда мне кажется, что он родился старичком.
– Как это грустно, – вздохнула Элен. – Ну, тем более. Пусть Милочка с Ванечкой…
– Да я ж вовсе не про них, Элен! – с досадой сказала Софи. – Пусть себе делают что хотят, лишь бы нам не мешали…
– Софи! – Элен понизила голос и одновременно, как записная трагическая актриса, подпустила в него темно-синей, морской глубины. – Ты знаешь, как я к тебе отношусь, но иногда мне кажется ужасное…
– Что же? – поморщилась Софи. От голоса Элен ей вдруг представилось, что в горле подруги медленно колышутся длинные водоросли. Видение получилось не из приятных.
– Мне кажется, что ты… что ты вовсе не любишь своих прелестных крошек!
Софи не стала отвечать, и лишь усмехнулась при мысли о том, что сказал бы Павлуша, если бы его в глаза назвали «прелестной крошкой».
– Но ведь ты хотела говорить о чем-то, – напомнила Элен после некоторого молчания.
– Да, – кивнула Софи. – Кроме тебя, мне, получается, говорить не с кем… Ирен, Гриша и публичный дом.
– Что? – Элен выпрямила спину и сделала себе соответствующее ситуации лицо. – Говори все, я тебя слушаю.
Внимательно выслушав подругу, Элен некоторое время молчала. Софи ждала. Они с Элен были знакомы с раннего детства и, несмотря на коренное, казалось бы, различие взглядов и темпераментов, всегда оставались близки. В отличие от большинства окружающих Элен людей, Софи знала о том, что Элен Головнина – это не только светская дама, чьи образцовые манеры и безупречный вкус признаны всеми, не только идеальная, заботливая, как наседка, жена и мать, но и вполне развитый, зрелый, хотя и не особенно гибкий ум.
С Элен она действительно могла поделиться любыми своими проблемами и всегда остаться в выигрыше. Даже ничего не поняв и ни в чем не разобравшись, Элен умела принять тех, кого любила. Бескомпромиссно осуждала поступки, которые казались ей дурными, но не людей. Это дорогого стоило, и Софи была достаточно умна, чтобы знать подлинную цену.
Много лет их дружба как бы играла в одни ворота. Проблемы и дела Софи казались ей самой настолько запутанными и масштабными, что простуды и учебные успехи и неудачи Ванечки и Петечки, повышение по службе, которое получит или не получит Васечка, нервное расстройство самой Элен, воровство кухарки, принятой на службу в особняк Головниных – все это казалось Софи весьма мелким и скучным, и едва достигало ее сознания. Позже, когда, окончательно повзрослев, она внезапно осознала это длящееся неравенство, ей стало просто невдомек: как же Элен много лет терпела это откровенное пренебрежение к своим делам и проблемам? Со свойственной ей прямотой она тут же осведомилась об этом у Элен, присовокупив к вопросу едва ли не оскорбительное:
«Не может же так быть, чтобы тебе, кроме меня, и поболтать не с кем было!»
– Нет, Софи, не так, – грустно улыбнулась Элен. – Я просто люблю тебя. Такую, какая ты есть. Это ты понять можешь?
Вместо ответа Софи закусила губу и, намотав локон на палец, сильно дернула книзу, почти желая причинить себе боль.
– Почему ты меня всегда дурой выставляешь? – с досадой спросила она.
– Разве? Я? – удивилась Элен. За много лет она так и не привыкла к умению подруги все вывернуть наизнанку и в свою пользу.
– А то кто же? – сварливо отозвалась Софи. – Ладно. Теперь ты мне еще раз все про себя скажешь, а я буду учиться слушать.
– Что же сказать? – растерялась Элен.
– Да что хочешь! Только не мямли, пожалуйста! Сейчас! Иначе я прямо на твоих глазах скончаюсь от снедающего меня чувства вины, – Софи привыкла к тому и давно организовала свою жизнь так, чтобы все ее желания исполнялись практически незамедлительно.
Справедливости ради следует отметить, что и сама она при этом вовсе не сидела, сложа руки, а готова была работать буквально день и ночь. Но и другие тоже должны поворачиваться. Просто сидеть и ждать Софи не умела совершенно. Любое, даже самое глупое и бесцельное действие казалось ей более предпочтительным.
– Софи, да что ты такое говоришь?! – нешуточно испугалась Элен. – Какая вина? За что?!
– Да неважно теперь! – отмахнулась Софи. – Коли уж я исправилась. Говори!
– О чем же ты хочешь говорить?
Софи фыркнула, скрипнула зубами от досады, но тут же из обстоятельств переломила себя и ответила с неожиданной в ней лаской.
– Элен, голубка, пойми, я хочу не сама говорить, как всегда бывало, а как раз послушать тебя. Есть же что-то, что тебя-то тревожит или, напротив, радует… Про деток, может быть, или про мужа… Я вот помню, что матушка твоя сильно хворает…
Элен вздохнула и, как было с детства, покорно приняла правила новой игры, которую для чего-то навязывала ей Софи. Подробно рассказала о болезни матушки, о многочисленных и противоречащих друг другу предписаниях докторов, о переэкзаменовке у Петечки и о том, как Ванечка полез на дерево доставать кошку, а после неловко спрыгнул и подвернул ногу.
– А ты-то, ты-то сама, Элен? – выслушав все, Софи недоверчиво заглянула в круглое, безмятежное лицо подруги. – Васечка, Петечка, Ванечка… Другие всякие. Столько лет от тебя и слышу… А что же с тобой-то?
– Так это и есть моя жизнь, Софи, – улыбнулась Элен. – Тебе ведь для рассказа события нужны. А что ж еще со мной может отдельного произойти?
Софи несколько времени подумала, неожиданно вопрос показался ей весьма важным. Когда заговорила, слова падали с ее темных губ вязко и едва ль не в три раза медленнее, чем обычно.
– Получается, твоя жизнь полностью растворена в других людях, в семье. Это очень возвышенно, благородно. Ты, сколько я тебя помню, вроде бы так и хотела. У тебя все сложилось, и ты, выходит, всего достигла уж много лет назад. Ты говоришь, мне события нужны. Это не так. Мне как раз твои (а точнее, не твои) события не интересны. Мне интересно, что у тебя внутри, вот там, – Софи протянула руку и дотронулась пальцем до безупречной, волосок к волоску, прически Элен. – Меня ты интересуешь, Элен. Ты, – понимаешь? Я много лет тебе рассказывала, что со мной происходит, а о тебе, получается, и не знаю ничего… Это странно…
– Да что ж тут странного, Софи?! – горячо воскликнула Элен, словно отметая какое-то серьезное обвинение. – Просто у меня, по сравнению с твоей, жизнь вовсе неинтересная! Но я за то никого не виню, потому что, ты правильно сказала, сама выбрала.
– Элен! – Софи подалась вперед и схватила кисть подруги своими горячими руками. Элен вздрогнула. – Неужто ты мне так и не скажешь?!
– Господи, да чего же?! – Элен уже готова была заплакать с досады.
Софи тревожила, трясла, неудобно мяла ее душу. Хотелось стряхнуть с себя ее цепкие пальцы, уйти. «Но не за то ли я всегда ценила ее?» – спросила себя Элен и в тот же миг – решилась.
– Хорошо, Софи, я скажу.
Обычно румяная, Элен стала бледна, но, как у нее всегда водилось, заговорила об интересующем ее предмете сразу и без малейшего кокетства. Софи между тем внимательно разглядывала подругу и завидовала ей. В повседневной жизни Элен категорически не прибегала ни к каким косметическим ухищрениям, но как у всех полных физически и чистых душой людей, к тридцати годам на лице ее не было ни одной морщинки или иного следа увядания.
– Софи, это давний след. Ты, вероятно, уже сто раз позабыла про тот разговор, но я все же хочу тебе сказать: ты тогда была права абсолютно, а я – совершенно неправа, с лицемерным негодованием отнесясь к предложенному тобой предмету…
– К чему? В чем не права? Элен, я категорически ничего не понимаю.
– Я сама только нынче с полной отчетливостью поняла, как я виновна перед Васечкой. Меня воспитывали… Но ведь еще римляне говорили: незнание закона не освобождает от ответственности. В конце концов тебя воспитывали также, а ты уж давно сумела изменить… Ты должна понять, это буквально убивает меня.
– Господи, Элен, но в чем твоя вина?! Перед Васечкой? Да ты же всю жизнь его только что не облизывала, как кошка котят лижет. Я даже придумать не могу. Ой! – Софи усмехнулась и закрыла рот ладонью. – Неужели ты завела любовника?!
Элен закатила глаза, побледнела еще более и отшатнулась от подруги. Софи противно захихикала.
– Но что же тогда?
– Я не исполняла, как должно, долг супруги и он, бедняжка, был лишен… Софи! – прошептала Элен трагическим шепотом. – Софи, я бы не удивилась, узнав, что мой Васечка… Васечка когда-нибудь… посещал падших женщин! В их вертепах!
Тут Элен зажмурилась от ужаса и мелко, по-старушечьи, затрясла головой.
«Ну да, я бы тоже удивилась, если бы наоборот, – скептически подумала Софи. – Тем более, что мы с ним, помнится, даже как-то столкнулись на пороге одного… гм… вертепа… Но что же все-таки с Элен?»
– Элен, ты можешь сказать определенно: о каком долге мы говорим?
Элен запрокинула голову и судорожно сглотнула, как курица, неожиданно поживившаяся крупным червяком. По ее белому горлу прокатился комок.
«Ага! – подумала Софи. – А вот на шее у нее морщины. Точнее, перевязочки, как у младенца…»
– Я… я не удовлетворяла его в спальне! – выпалила между тем Элен.
– Ого! – Софи с трудом удержалась, чтобы не расхохотаться. – Это смело! Это для тебя… ну просто, как Рубикон перейти. Но что же навело тебя на такую мысль? И почему сейчас? Неужели Васечка предъявил какие-то претензии?
– Нет! Нет! – Элен, забывшись, замахала руками и вместе с потоками воздуха до Софи долетел знакомый запах ее духов. – Как ты могла такое подумать?! Васечка культурный человек, и он никогда не стал бы обсуждать…
– Мир богат и разнообразен, – задумчиво сказала Софи. – К примеру, на Востоке признаком культуры и развития человека как раз считается возможность и способность обсуждать эту тему…
– Вот! – Элен наставила на Софи пухлый палец с овальным розовым ногтем. – Вот именно это! Я знаю, что ты до сих пор общаешься с той женщиной… ну, подругой Михаила… И у тебя есть свой опыт. Я хочу, чтобы ты помогла мне!
– Ты знаешь, я все готова сделать для тебя. Но как же я помогу, если у тебя с Васечкой никогда… – Софи была искренне удивлена.
– Никогда не поздно исправить допущенные ошибки, – бодро заявила Элен. – Так учил Христос: раскаявшийся грешник дороже двух праведников. Я хочу, чтобы ты помогла мне… усовершенствоваться в этом вопросе!
– Ну ни черта себе! – сказала Софи и рукой вернула на место отвалившуюся челюсть.
Софи всегда старалась держать данное ею слово, даже если совершенно не верила в успех предприятия. Тем более, что подруга едва ли не в первый раз за жизнь попросила ее помощи. Почти сразу же после удивительной беседы с Элен Софи отправилась в гадательный салон.
– Тут дело вовсе не в Василии Головнине, – сразу же заявила проницательная бирманка, выслушав Софи. – Просто твоя Элен к тридцати годам дозрела и сама захотела настоящей, полноценной мужской любви. Самый возраст для женщин в вашей стране, как я заметила. Сейчас я расскажу тебе, что можно сделать, а ты передашь ей. Но хочу тебя предупредить: надежды мало, ибо в Василии слишком много от стихии воды.
– Что такое? – уточнила Софи.
Саджун глянула безжалостными, черно-лиловыми глазами:
– Слизь, текучесть и ненадежность для живущих на суше.
Софи вздохнула. Насчет стихий, о которых говорила Саджун, она ничего не знала, но о Васечке была приблизительно того же мнения.
Когда Софи передавала подруге рекомендации Саджун (при этом кое-чего прибавляя от себя), Элен Головнина попеременно бледнела и покрывалась красными пятнами, но в обморок не падала и даже не закатывала глаза.
После того знаменательного разговора прошло более двух лет. Софи не раз хотелось поинтересоваться, как обстоят дела в спальне Элен, но как-то не выпадало случая. Кроме полученного Софи воспитания, в рамках которого разговоры на подобную тему были абсолютно недопустимы, еще и сам образ Элен гасил излишнее любопытство. Иногда Софи даже спрашивала себя: да не привиделось ли ей это все? Действительно ли Элен Головнина, похожая на аккуратную сахарную голову, спрашивала ее об этом?
Может быть, как раз теперь – время? Полумрак кареты, Широкая масленица, гудящая за занавешенным окном…
– Элен, я давно хотела спросить тебя: как у вас с Васечкой?
Элен выпрямилась еще сильнее, хотя на мягких подушках это казалось уж невозможным.
– Ты действительно хочешь знать? Сейчас, когда у тебя…
– Разумеется! Иначе не стала б и начинать. Теперь я решилась, а в другое время хочу, но… я тебя стесняюсь, понимаешь?
– Нет, не понимаю! – сразу отмела Элен. – Так слушай, пока я тоже решиться могу…
Софи пришло в голову, что Элен, по-видимому, уже давно ждала возможности выговориться, и она выругала себя: «Ну, и кто из нас здесь весь такой отважный, эмансипэ, без предрассудков и прочее? Чего ожидала-то столько времени? Что Элен, с ее деликатностью, сама тебя за пуговицу возьмет?»
– С Васей у нас, увы, никак, – начала между тем свой рассказ Элен. – Тогда, после нашего с тобой разговора, я пыталась что-то сделать, но он ни на что не согласился. И я от этого просто с ума схожу. Потому что, конечно же, я сама во всем виновата…
– Отчего же – ты? – логика Элен порою оставалась для Софи просто непостижимой. – И как, прости, это выглядело – «не согласился»?
– Он… он сказал мне… – Элен говорила с явным трудом, тоном отчужденным и пыльным, как старый циркуляр по железной дороге. – Он сказал мне, что ничего ему такого не надо, и не надо его нигде трогать и ласкать. И… даже рассердился на меня, и долго спрашивал, откуда я все эти вульгарные глупости взяла и… и потом догадался, что все это как-то от тебя, и стал говорить… Но тут я ему, конечно, замолчать велела. Он фыркнул и замолчал, и больше… больше мы к этому разговору никогда не возвращались, а он… он после того стал совсем редко ко мне в спальню приходить… А я… я ведь, ты знаешь, всегда еще дочку хотела, но теперь…
Софи! Я глупая и гадкая грешница, конечно, Васечка прав, такие женщины не должны… Которые так могут думать…
– Прекрати нести ерунду! – строго сказала Софи. – Если ты – гадкая грешница, так Господь в раю сидит в одиночестве и сам с собой от скуки в шашки играет. Или уж они там внутри Троицы как-нибудь, как на иконе Рублева, но этого я никогда разобрать не могла… Пустое! Скажи мне: как именно ты сейчас обо всем этом думаешь?
В полутьме кареты алебастровая кожа Элен смотрелась теперь низкого качества бумагой. Яркие карие глаза подернулись тусклой серой дымкой. «Как бы в обморок не откинулась! – озабоченно подумала Софи. – Полежит и встанет, конечно, но что я детям скажу? Испугаются же!»
– Я сама не знаю, как это вышло, – тихо, ровно заговорила Элен. – Он, Васечка, стал теперь таким, незнакомым, как будто чужим. Хотя как это может быть, я не могу понять? Он весь зарос белым таким жиром, и кожа лоснится и натянулась. Мне кажется, что он сквозь этот жир уже вообще ничего не чувствует. И говорит про всех и про все: «Глупость! Глупцы!» Как будто бы он сам… ну, Бог весть, что такое, и право имеет… И еще он так спит на спине, раскинув руки и ноги, и выпятив живот, и тогда челюсть вниз и внутрь куда-то проваливается, и пальцы такие плоские, желтые торчат из-под одеяла, и пятки, и храпит, не ритмично так, знаешь, как дети похрапывают или мопсы, это даже уютно бывает, а по-другому, захлебываясь, хрюкая, все время меняя тональность, как какая-то вещь или машина, а не человек вовсе… А как выпьет в клубе или в гостях, так от него сразу мертвяком пахнет…
И я не знаю, что мне со всем этим делать…
– Господи! – потрясенно прошептала Софи, а Элен от этого шепота, наконец, смогла разрыдаться.
Софи подавшись вперед, неловко обняла подругу и гладила ее плечи и лопатки.
– Видишь теперь, какая я гадкая? – слегка успокоившись, Элен шмыгнула носом и достала кружевной платок. – Как я могу так? Ведь он мой муж, отец моих детей…
– Будет себя уговаривать, – строго сказала Софи. – Ты чувствуешь так, как чувствуешь, и отменить этого нельзя, как бы тебе не хотелось. Теперь думать надо о том, что делать дальше…
– Что ж делать? Жить… – Элен тщательно вытерла глаза и опухший нос. Выговорившись и отрыдавшись, она явно почувствовала себя лучше и бодрее. – Теперь вот надо с твоими делами решить, а у меня – что ж… Я разве одна такая?
– Не одна, конечно, если в общем посмотреть, – согласилась Софи. – Но меня-то общее никогда не интересовало. Что мне до него? Это все равно как наша Оля Камышева, хочет всех спасти. Для меня ты – особенная совершенно, даже сравнить не с чем. Так что просто так я это тоже оставить не могу. Когда ты мне уж сказала… Я потом об этом подумаю, ладно, Элен? Когда смогу…
– Софи! – улыбнулась Элен. – Какая же ты милая! Своих забот полон рот, а вот уж готова решать, как мне с Васечкой в спальне разобраться…
– Разберусь, – едва ли не угрожающе сказала Софи. – Дай только срок…
Теперь уж Элен засмеялась и, тут же снова став серьезной, заметила:
– А не желаешь ли, устроительница, выслушать, что я думаю по поводу твоих дел?
– Желаю, – буркнула Софи. – Для того, между прочим, и звала.
– Я думаю вот как, – Элен теперь явно стала бодрее, чем была в начале встречи. – Главная покуда проблема, это то, что мы ничего не знаем. Что на самом деле происходит с Гришей? Что затевает этот… Николаша? Кто такой Даса, какие у него были отношения с Ирен и чего он вообще хочет? Куда пропала Ирен и по своей ли воле она это сделала? Что собирается делать или, наоборот, не делать Ефим Шталь? Так?
– Да, ты права, – кивнула головой Софи. – Сведений явно маловато. Ты предлагаешь провести расследование?
– Ну что ты! Я же не полицейский! Я предлагаю решить все эти проблемы разом, и как раз с помощью салона бедной Саджун, который и сам по себе, насколько я понимаю, является твоей проблемой…
– Это каким же образом? – заинтересовалась Софи. – А, я догадалась! Ты предлагаешь снова открыть салон и заманить туда Дасу, Ефима и Николашу? Чтобы девочки у них все выведали, а потом…
– П-фу, Софи! – Элен брезгливо потрясла в воздухе пальцами. – Ты, конечно, оч-чень оригинальная и свободно мыслящая женщина, но все-таки… есть границы…
– Тогда как же? – вопрос о границах не заинтересовал Софи совершенно.
– Слушай меня и не перебивай, пожалуйста, – Элен наставила на Софи аккуратный палец, похожий на молодую белую редиску. – А не то я путаться буду, и время потеряем. Значит, если этот Даса действительно из кругов, то я про него по своим связям из одного-двух дней все доподлинно разузнаю: настоящее имя, фамилию, где живет, чем занимается и прочее. Потом. Надо как можно более ускорить все перестройки в особняке Саджун, а кое-что из интерьеров, напротив, оставить, как было, и о том аккуратно слух пустить. Это я тоже, как твоя всем известная конфидентка, на себя возьму…
– Но, Элен, зачем это?…
– Я же просила не перебивать! – воскликнула Элен. Софи послушно прижала палец к губам и покаянно затрясла головой. – Потом ты объявляешь о приеме, или о музыкальном вечере или как тебе пожелается и всех интересующих тебя лиц приглашаешь в обновленный особняк вместе с прочими светскими знакомцами…
– Элен! Прости, конечно, но это ты глупость сказала! Кто из света по приглашению Софи Домогатской пойдет в бывший публичный дом?! Это же скандал!
– Сонечка! – Элен усмехнулась снисходительно, и это выражение на ее лице поразило Софи до крайности – возможно, доселе она вообще никогда его не видела. – Ты все-таки очень рано (разумеется, по обстоятельствам!) покинула петербургский свет, и потому совершенно в нем не разбираешься. Что, по-твоему, движет и питает энергией его жизнь? Разумеется, скандалы! Конечно, все скажут свое «фи», заочно очередной раз обольют грязью и тебя и все, что только возможно, но потом… Потом не только придут – прибегут, как миленькие! Это ведь так чертовски пикантно…. как, впрочем, и все, что делает «эта невозможная Софи Домогатская… И как только муж ее терпит!» – Элен очень похоже передразнила визгливый голосок графини К. – Так что за явку ярких представителей нашего света, я, на твоем месте, беспокоиться бы не стала. Далее по списку. Разумеется, как только мы обнаружим и вычислим этого Дасу, его мы пригласим в первую очередь. Если он сам и не причастен к исчезновению Ирен, то, наверняка, сможет многое рассказать о ее знакомствах и интересах. Кроме того, ты обязательно должна будешь пригласить Мари Шталь…
– Да уж она-то точно не пойдет!
– Ерунда! Ты что, забыла, как устроена наша милая Мари Оршанская? Да даже если бы Ефим решил приковать ее к дивану (чего он, конечно, делать не станет, так как на все без исключения проделки жены ему наплевать), так она из снедающего ее любопытства все равно явилась на эту вечеринку, а слуги несли бы за ней диван. Причем великолепная Мари наверняка сумела бы повернуть дело в обществе так, что будто носить с собой место отдохновения – последний крик парижской моды, и на следующий прием уже многие явились бы со своими диванами…
Софи не удержалась от улыбки. Право, отчего это многие не догадываются, что Элен Головнина – умна, и считают ее скучной и примитивной? Софи никогда не могла этого разобрать.
– Если правильно поведем дело, то у Мари мы наверняка сумеем разузнать что-нибудь о планах Ефима. Он держит ее от себя далеко, но она умна и хитра, и, если я хоть что-то в ней понимаю, наверняка о многом осведомлена. Кроме того, тебе придется пригласить, как бы из старых знакомств, этого Николашу, или Ивана Самойлова, как он известен. Ему-то как раз идти будет невместно, но все знают, что он, как любой «из грязи в князи» никаких возможностей не упускает, да уж и не так много, куда его из вправду приличных домов зовут… Так что и он, я думаю, придет. Здесь уж от тебя зависеть будет, как ты с ним сумеешь. И еще, я полагаю, мы пригласим Олю Камышеву, как будто бы старый, из юности, круг собрать. Она, конечно, теперь революционерка, а я, например, эксплуататор трудового народа, но с тобой, как я помню, она отношений не рвала. Повидать всех она, я думаю, не против, да и агитация в кругах врагов, повод, опять же. И еще, мне кажется, у нее изворота мозгов хватит, чтобы проституток, которые у Саджун трудились, за угнетенные народные массы считать. У нее мы все возможности про Гришу и разузнаем. Надо же его оттуда как-то вытаскивать, пока он жив… Но вот я вижу закавыку…
– Какую же?
– Васечка не пойдет на твой прием ни под каким соусом. Я же, как замужняя дама, не могу явиться туда без сопровождающего. Никто из друзей дома не решиться вызвать Васечкино неудовольствие и сопроводить меня, а своих друзей-мужчин у меня, как ты понимаешь, нет и по моему положению не может быть…
– Ловко! – воскликнула Софи.
Как в Элен все это вместе уживалось – тоже оставалось для нее загадкой. Строить вполне деятельные планы по подготовке побега политического ссыльного и обустройства публичного дома и одновременно не мыслить своего появления на светском приеме без специально подобранного спутника. При всем при том (и Софи не могла этого не понимать) – Элен оставалась завидно цельной личностью, которая никогда не изменяла своим принципам.
– Но я должна там быть, чтобы поддержать тебя, да и сама моя репутация поможет заманить в особняк гостя-другого, – задумчиво продолжала рассуждать Элен. – «Если уж Элен Головнина там будет, значит, милочка, не так страшен черт, как его малюют…» – теперь Элен блестяще спародировала блеющую интонацию Ирочки Гримм и ее чуть квакающий немецкий акцент. – Ты просто физически не сможешь беседовать со всеми интересующими нас лицами одновременно и, значит, кого-то я должна буду взять на себя… И все это получается решительно невозможно, и я теперь чувствую себя неловко по отношению к тебе, так как знаю, что ты, эмансипэ, думаешь про мои принципы…
– Элен, не волнуйся, я очень уважаю твои принципы! – отрывисто сказала Софи. План Элен она уже внутренне приняла, и теперь прокручивала в голове детали, сметы и сроки потребных устроительных работ. – И я, клянусь, найду тебе кавалера!
– Где же ты его найдешь? – с тревогой спросила Элен. – Васечка, ты знаешь, он очень долго может помнить обиду, и я б не хотела, чтобы у кого-нибудь из-за меня… Если кто-то из друзей Петра Николаевича по доброте душевной…
– Элен, я достану тебе спутника не из высшего света, – сказала Софи. – Которому плевать на Васечку и на отношения с ним. Твои принципы, надеюсь, это позволяют?
– Но откуда же все-таки ты его возьмешь? – растеряно переспросила Элен. – Мастера с твоей фабрики? Управляющего имением? Издателя?
– Господи! – не удержалась Софи. – Мне бы твои заботы! Я… Я позову на прием инженера Измайлова. Он тебе подходит?
– Измайлова? – карие глаза Элен блеснули любопытством. – Это тот самый, который как бы герой твоего романа?
– Ну да, – усмехнулась Софи. – Как бы герой.
– Ты знаешь, мне всегда было любопытно на него взглянуть, – призналась Элен. – Насколько он похож… Михаила Туманова я хотя бы немножко знала, и Сержа Дубравина, а Измайлова даже не видела… И еще Машеньку Гордееву…
– Ну, Машеньку я тебе предоставить никак не могу, а вот Измайлова и повидаешь, – подытожила Софи. – Я тоже давно его повидать хотела. А тут и случай вышел…
– Но, может быть, он и не захочет… не согласится? – с сомнением протянула Элен.
– Увидев твою ослепительную красоту, любой мужчина почтет за честь сопроводить тебя на бал, – отчеканила Софи. Элен мило, совершенно по девически зарделась.
– А что он нынче делает-то? – заторопилась она отвести разговор от своей персоны.
– Андрей Андреевич Измайлов, насколько я о нем осведомлена, служит нынче инженером на Николаевской железной дороге. Живет совершенным бирюком, на съемной квартире со столом, семьи не имеет, из шинели носа не кажет. Раз в три-четыре месяца пишет и отсылает в «Вестник железной дороги» статьи, по слухам, весьма дельные. С прошлыми своими знакомцами, по революционным делам, порвал совершенно, а новых – не завел, как будто бы и без надобности. Два раза в месяц посещает Михайловский театр, причем билеты покупает на галерею, по пятьдесят копеек…
– Софи! – удивленно воскликнула Элен. – Но откуда же ты все это знаешь?
– Дядюшка его, Андрей Кондратьевич Измайлов, промышленник, мне по делам известен, еще со времен Михаила, – объяснила Софи. – После он мне изрядно помог советом, когда я дела на фабрике налаживала, и магазины, и прочее к ней присоединяла. Вот он-то мне не раз на племянника и жаловался…
– За что ж?
– Да он-то его вырастил, как сына, хотел к делу семейному пристроить, смотрел, как на наследника и продолжателя, а Измайлов ему: «Вас не надо!» Любому обидно бы стало…
– Пожалуй… – протянула Элен. – Но что ж поделать, если у Андрея Андреевича душа не лежала…
– Ничего не поделать! – с тенью непонятного раздражения в голосе сказала Софи. – Будто мы все только то и делаем, к чему у нас душа лежит…
– Ну уж ты-то – во всяком случае! – неожиданно веско сказала Элен, смягчив, впрочем, свои слова улыбкой.
– Ого! – Софи как будто готовилась возразить, но не успела, так как именно в этот миг дверь кареты распахнулась и в нее буквально влетела подсаженная Ваней Милочка.
– Ой, мама, ой, тетя Элен! – защебетала она. – Там так здорово, так красиво, такой ужас! Мы на карусели катались-катались, пока денежки не кончились, меня потом тошнило, но Ванечка мне головку подержал и свой платок дал, и все уже прошло. Только пирог с марципаном жалко, он весь наружу убежал, но его воробушки склюют, так что – ничего. А на карусели было такое призовое кольцо на пружинке. Кто его сумел вырвать, тот может еще бесплатно кататься. И Ванечка хотел вырвать, но у него не вышло, а оборванец тот, Федька, который у меня денежку хотел украсть, целых два раза сумел, а мышка вытащила, что над нами тайны сгущаются, и я сначала испугалась, но Катька сказала, что мне еще понравится…
Софи сжала руками виски, а влезший вслед за Милочкой Ваня выразительно взглянул на мать: «Понимаешь, мол, как мне тяжело пришлось?».
Элен ласково улыбнулась сыну и нежно обняла дрожащую от возбуждения Милочку.
– Все хорошо, солнышко, все хорошо! – проворковала она. – Сейчас домой поедем, молочка попьем, и в кроватку…
В которой инженер Измайлов говорит о тяжкой доле литературного героя, деревенские дети штурмуют снежную крепость, а Джонни становится братом милосердия
Инженер Измайлов снимал квартиру на Полтавской улице, недалеко от Знаменской площади и Николаевского вокзала. Софи, которая прямо-таки до щекотки любила ковать железо, пока оно горячо (то есть, говоря иными словами, реализовывать любую свою блажь немедленно после того, как она пришла ей в голову), велела ехать туда тот час же, полагая, что в выходной день инженер просто обязан сидеть дома. «А куда ж ему еще пойти-то, коли на службу не надо? – рассудила она. – Да и с Семеновского плаца случай удобный!»
Элен слабо противилась, однако, пока она вслух рассуждала о неуместности столь внезапного визита, ее собственный кучер, повинуясь напору Софи, уже гнал карету сначала по набережной Обводного, а потом по Лиговской улице в сторону Знаменской площади. Уставшая Милочка клевала носом, а Ванечка с любопытством выглядывал из окошка, разглядывал небольшие домики с извозчичьими дворами, всякий хлам на берегу находившегося в запустении канала. За каналом поднимались высокие заводские трубы, вдоль немощеных улиц жались друг к другу грязные домишки окраины, маленькие лавчонки, трактиры, чайные, «казенки».
У дома Элен категорически отказалась подниматься наверх и осталась в карете с вялыми и почти засыпающими детьми. Софи осведомилась у дворника, у себя ли инженер Измайлов, и, получив положительный ответ и провожаемая крайне заинтересованным взглядом (дворник, разумеется, заметил и оценил карету с гербом, из которой Софи вылезла), бодро побежала наверх по чистой и относительно широкой лестнице. Измайлов жил на третьем этаже и сам открыл дверь.
– Здравствуйте, Андрей Андреевич! Вот и я! – весело и оживленно поздоровалась Софи, словно полагая, что Измайлов с утра с нетерпением ожидает ее визита.
– Вы?! – на лице инженера отразилось крайнее, почти граничное изумление. При сем окраска этого изумления была явно неположительной.
– Ну, разумеется, я, собственной персоной! Вряд ли это мой призрак или дух, или еще что-нибудь в этом роде. Так я могу пройти?
– Проходите, – Измайлов мотнул головой, почти открыто демонстрируя лицом, с каким удовольствием он спустил бы незваную гостью с лестницы.
Софи попросту не обратила на его гримасы внимания.
Прошла в прихожую, сбросила на руки Измайлову шубку, бегло оглядела занимаемые инженером апартаменты. Их вылизанная гигиеническая безликость задела что-то даже в ее, вполне равнодушной к красотам интерьера, душе.
– Как будто и нет никого, – высказалась она. – Словно живые и не заходили. Отчего вы так? И сами… – Софи с укором оглядела невысокую, слегка мешковатую фигуру инженера. – Постарели, полысели… на рыжую крысу стали похожи, вот. И ведь своим, не природным расположением… У нас в уезде немец живет, из бывших следователей, Густав Карлович Кусмауль, так он вас как бы не в два раза старше, а все с лысиной борется, втирает какие-то эликсиры для ращения волос и всех, кого видит, спрашивает: ну как? Если кому надо к нему подольститься, так уж все у нас знают: следует на него эдак оценивающе, вприщур, взглянуть, помолчать, а потом и ахнуть: «Ах, Густав Карлович, да никак у вас волосы погуще стали? Неужели нашли-таки чудо эликсир?! Или здоровый образ жизни помог?» После этого и делай с ним что хошь… А вы… Скучно живете, Андрей Андреич…
– Да уж у вас спросить позабыл! – обиженный и больно задетый столь внезапной атакой, Измайлов совершенно выбросил из головы свое намерение держаться с гостьей по возможности пиететно.
– И то верно, – покладисто согласилась Софи. – А я вас как раз развлечь хочу. У меня скоро прием по новому адресу, в новом особнячке будет. И вот моей лучшей подруге, умнице и красавице, по стечению обстоятельств кавалера нету. Я сразу об вас и подумала…
– Напрасно, совершенно напрасно! – резко перебил ее Измайлов. Ему хотелось, чтоб голос прозвучал спокойно и отчужденно, но получился едва ль не истерический выкрик. Софи глянула удивленно.
– Отчего же так? Вы же даже дня не знаете, значит, не можете на занятость сослаться. Поверьте на слово, прием обещает быть интересным, а дама ваша – человек, действительно исполненный всевозможных достоинств…
– Тем не менее благодарю, но я – категорически занят!
– Чем же это вы таким, позвольте спросить, заняты целыми днями? – прищурилась Софи. – Семьи у вас нет, друзей – тоже, даже собаки, я гляжу, не завели…
– Все это, позвольте заметить, совершенно не ваше дело.
– Ну, это еще как взглянуть, – усмехнулась Софи. – Вы, как выразилась все та же моя подруга – мой герой. В какой-то мере автор несет ответственность…
– Уходите! – прошипел Измайлов, бледнея. На какой-то миг Софи показалось, что сейчас он схватит ее за плечи и пинком вытолкнет из квартиры.
– Эгей! – она помахала пальцами перед лицом инженера жестом индийского факира, отвлекающего внимание дрессированной змеи. – Объяснитесь, любезнейший Андрей Андреевич. Я всего лишь пригласила вас на вечеринку. В чем дело? Я имею право знать?
– Наверное, имеете, – тусклым, шершавым голосом сказал Измайлов. – Может быть, вам это будет даже полезно, хотя в последнем я сильно сомневаюсь. Такие люди, как вы, обычно категорически необучаемы…
– Я вся внимание! – поощрила инженера Софи, самочинно усаживаясь на жесткий стул с прямой спинкой. Андрей Андреевич присел в противоположном конце комнаты с таким видом, как будто бы его мучил приступ жестокой внутренней боли.
– Поскольку уверен в совершенной бессмысленности данного объяснения, буду по возможности краток. Вы, Софья Павловна, человек, безусловно, богато природой одаренный и где-то даже талантливый. То, что вы хотите увидеть, можете ухватить и описать в совершенстве. Что же до выводов или следствий из увиденного, то это вас просто не касается, потому что вы так когда-то решили. И в том вы, кажется, даже свою особую доблесть видите. Вроде бы как волк жил сначала, как живется, жрал все, что бегает, а потом однажды познакомился с дарвинистической теорией естественного отбора и вдруг увидел в себе не просто хищника, но – санитара леса. Так же и вы. Некоторая многозначительность ваших ужимок позволяет с достаточной долей вероятности предположить, что вы и миссию себе какую-нибудь придумали в оправдание…
– Но в чем же, позвольте, мне оправдываться? И перед кем? – осведомилась заинтересованно слушающая инженера Софи.
– Я, как вы знаете, не могу отнести себя к людям, которые никогда не меняли своих убеждений. Напротив, увы. Но все же ваша волчья нравственная всеядность не поражать не может. Вы фактически опубликовали мой личный дневник, который к вам неизвестно каким способом попал, и не слишком даже потрудились обстоятельствами замаскировать первоисточник. Если вас в детстве не учили, что читать чужие письма и чужие дневники неприлично, то я, право, не знаю, где ж вы воспитывались? Неужели в Вяземской лавре, как герой вашего предыдущего произведения?! И ладно бы этим ограничиться. После этого у вас хватило наглости лично и бесцеремонно явиться в мою жизнь, и предложить свои услуги для ее дальнейшего обустройства. Помните, когда я, как неблагонадежный элемент, не мог найти работу, вы звали меня инженером к себе на фабрику, и искренне, кажется, удивлялись, отчего это я не хватаюсь с жадностью за ваше предложение? Разумеется, учитывая вашу писательскую известность и знание общества о том, что вы не пишете без прототипов, меня вычислили почти сразу после того, как вы решили со мной «подружиться». Вы же писатель, так вам никогда не приходило в голову вообразить, во что это узнавание превратило мою жизнь? Вот это развешивание на доступных для всеобщего обозрения веревках личных, интимных и не всегда чистых предметов психического туалета? Каждый, начиная от моего собственного дяди и кузин, и заканчивая грамотным рабочим из железнодорожных мастерских, с той или иной долей такта, а точнее, его отсутствия, спешил осведомиться о том, насколько касающиеся меня факты, изложенные в вашем романе, совпадают с действительностью, был ли у меня роман с замужней женщиной, правда ли, что я, будучи несправедливо обвиненным, пытался повеситься и т. д. и т. п. Может быть, это иллюзия, но теперь мне кажется, что как бы не год я слышал вокруг себя непрерывное цоканье языками. Бывшие товарищи предлагали мне свою помощь и убежище в виде немедленного включения в революционную работу и перехода на нелегальное положение… Право, если бы в ту пору я задумал свести счеты с жизнью, мне следовало бы оставить обвиняющую вас записку…
Софи слушала внимательно и серьезно, склонив голову набок и накручивая на палец локон. Когда он замолчал, продолжала молчать и она. Измайлов напрасно ждал каких-то ее слов.
– И вот теперь, спустя столько лет, когда моя жизнь как-то наладилась, и я ясно дал вам понять… – после сказанного инженер позволил себе подпустить в голос патетики. Это было его ошибкой. У Софи совсем не было музыкального слуха, но, несмотря на это, ее слух на интонации был безошибочным.
– Как бы там ни было, вы не сможете меня убедить, что ваша нынешняя «устроенная» бесцветная жизнь – следствие моей ошибки, когда я позволила людям догадаться, кто на самом деле автор «красной тетради», – решительно заявила Софи. – Вы – слишком сильный человек, чтобы хоть что-то в вашей жизни было изваяно чужой рукой. Вы ждете, чтоб я теперь покаялась и вас пожалела? Извольте, только это получится два раза соврамши. Я от души не умею, а вам – сто раз не надо. Что сделано, то сделано. Светская игра, не хуже прочих. Других тоже сто раз узнали, и не всегда лицеприятно, однако никто, кроме вас, шекспировских монологов не произносил и остатки волос на лысине не рвал. Элен Головниной вон даже нравится про себя читать, хотя я ее все время дурой набитой выставляю и с курицей сравниваю… Кстати, о Головниной. Как-то мы с вами далеко от изначальной темы отвлеклись, а меня внизу, между прочим, усталые дети ждут. Так я не поняла: вы на прием-то придете, согласитесь на один вечер счастье той самой Элен составить и стать ее кавалером? Да? Так я вам приглашение на днях пришлю с лакеем. Форма одежды в меру свободная, поскольку там раньше публичный дом был. Правильно решили, Андрей Андреич, и Элен довольна будет. Чего обиды копить? Люди, обещаю, там будут преинтереснейшие, и душка Элен… Эй, Измайлов, вы чего это синеете-то? Никак язык проглотили?!
– Вы… Вы… – с трудом выговорил инженер, явно не находя потребных не только слов, но и мыслей с чувствами. – Усталые дети… Публичный дом… душка Элен…
– Да бросьте вы… – начала было Софи, но ее реплика была прервана звуком открывающейся в прихожей двери (пропустив-таки в квартиру Софи, Измайлов забыл притворить дверь).
Элен вошла в комнату и тревожно огляделась, чуть хмуря безупречный лоб и поводя тонко прорезанными ноздрями. Общую атмосферу беседы она уловила еще в прихожей, хотя и не слышала ни одной реплики.
– Софи! – глубоким, грудным голосом воскликнула она. – Я же говорила тебе, что это бестактно – являться без предупреждения, да еще и навязывать… Как неловко… Простите, Андрей Андреевич? Я – Элен Головнина. Я знаю, это решительно невозможно, так представляться, но когда Софи удила закусит, ее, знаете, совершенно невозможно остановить…
На лицо Измайлова медленно возвращались обычные для него краски. Элен, понимая, что обстановка встречи еще слишком далека от гармонической, продолжала говорить, перебарывая свое обычное смущение перед незнакомым человеком. Впрочем, именно Измайлов почему-то не очень смущал ее с самого начала. В его некрупной, несколько неловкой фигуре, простоватом, но умном лице было что-то отчетливо располагающее к себе, вызывающее мысль о безопасности и уюте. Тем сильнее казался контраст с окружающей его домашней обстановкой, лишенной этого самого уюта насильственно и категорически.
– Я вас, знаете, серьезно по-другому представляла. Это из-за Сониных описаний, когда она всегда какие-то ударные сцены на первый план выводит, будто даже и обычные люди на баррикадах и в каких-то непрерывных битвах живут. Хотя, может быть, для романов именно так и надо. Вы мне по книге казались больше размером, жестче и как бы это… на Михаила Туманова слегка похожим. А в вас совсем этого нет, даже удивительно, что Софи увидела. Мне всегда хотелось с вами познакомиться, но, разумеется, не так… не так навязчиво. Я прошу вас меня и Софи извинить, это был, как всегда у нее, порыв, а я окоротить не смогла, так как это, получается, из моих интересов, и теперь мне так неловко, что вы обо мне, не зная обстоятельств, подумать могли…
– Что же я мог подумать? – хрипло, но уж почти нормально спросил Измайлов.
– Ну вот, – Элен опустила взгляд и зарделась. – Какая-то подруга, которой даже и кавалера на вечер не найти, и надо ехать к дальнему знакомому и его просить… Бог знает что, должно быть, эта дама…
– Я, признаться, ничего вообще об этом не думал, но вашим наличным обликом очарован вполне, – сказал комплимент вроде бы окончательно пришедший в себя Измайлов.
Элен по-девически присела в реверансе и склонила голову, демонстрируя безукоризненный пробор. Софи сардонически усмехнулась.
«Господи, да что же может их объединять?! – смятенно подумал Измайлов. – Эта сказала, что Элен – ее лучшая подруга… И ведь, кажется, не соврала…»
– Вы, как я поняла, отказали Софи, – утвердила между тем Элен, довольная хотя бы тем, что своим комплиментом ее внешности Измайлов открыл им достойный путь к отступлению. – Я вас вполне понимаю, поверьте. Софи со своим напором раз на раз… то выигрывает, то проигрывает. Однако, способа менять не хочет… Простите еще раз, что мы вас в час отдохновения побеспокоили бесцеремонно, а теперь откланяемся, так как нас дети в карете ждут…
«Опять дети? Какие? Чьи? Откуда?» – отрывисто подумал Измайлов, понимая, что женщина, как две капли воды похожая на все грезы его молодости разом, сейчас уйдет, и он больше никогда в жизни ее не увидит.
– Постойте! – сказал Измайлов, делая короткий шаг в направлении Элен. – Я отказал Софье Павловне, но ведь речь, как я понимаю, идет о вас…
– Да, – кивнула Элен. – Из обстоятельств, в которые вдаваться долго и теперь невместно, я не могу прийти туда ни с мужем, ни с кем-то из друзей дома… Простите! Вам это, наверное, еще глупее сейчас кажется… Две великовозрастные дурочки в какие-то игры играют…
– Отчего-то игра, в которую играете вы, больше не кажется мне глупой, – серьезно сказал Измайлов, голосом подчеркнув слово «вы». – Если ваша надобность в моих услугах не отпала, то я готов сопровождать вас на этот прием.
Правая бровь Софи потерялась под выбившимся из прически локоном, а левая свободно ползала по пространству высокого фамильного лба.
«Ну и ничего ж себе пряники! – прошептала она себе под нос. – Знала бы как обернется, сразу ее и послала бы! С Ванечкой и Милочкой, чтоб компрометации не было…»
Снег выпал под утро: мягкий, голубой, влажный и липкий. Едва ль не с восхода рано просыпающиеся деревенские ребята весело и слажено строили снежную крепость. Крепость получилась изрядной – стена высотой едва ли не в сажень, и четыре башни, еще того выше. После полудня парнишки разбились на две команды, атакующих и защитников, и начали штурм. Смех и задорные вопли перемежались действительной яростью и слезами. Заготовленные заранее снежки мало чем отличались от ледышек и, метко пущенные, наносили противнику существенный урон. Нападающие, естественно, побеждали. Крепость, как и каждый год до того, постепенно близилась к сдаче.
Спустя какое-то время после начала штурма, прямо на поле боя, у стен крепости объявилась Милочка в аккуратной шубке, размахивающая белой тряпкой на палке и имеющая на плече сумку, которую украшал вырезанный из тряпки и на живую нитку пришитый красный крест.
Военные действия на мгновение прекратились.
– Я буду сестрой милосердия! – важно заявила Милочка и с тем проследовала в крепость.
Судя по набитой медикаментами и корпией сумке, она и вправду настроилась оказывать защитникам какую-то медицинскую помощь. Обрадованные такой неожиданной поддержкой из барского дома, мальчишки-защитники приободрились, собрались и за довольно короткое время вывели из строя до полудюжины противников. Настроение слуг и прочих взрослых, расположившихся вокруг и с удовольствием наблюдавших за традиционной мальчишеской потасовкой, тоже переменилось. Если ранее подбадривали атакующих, то теперь все улюлюканьем и выкриками желали удачи осажденным.
Липатка, высокий, худой мальчишка, командир нападающих, после очередного отбитого штурма остановил своих и поднял руку:
– Так нечестно выходит! – крикнул он в сторону крепости. – У вас есть сестра милосердия, а у нас – нет. Надо, чтоб по справедливости. Пусть она уйдет.
Со стен крепости защитники, кривляясь, показывали Липатке фиги и прочие неприличные фигуры, выкрикивали всякие оскорбления. Взрослые тоже смеялись.
Однако Липатка не обращал на это внимания. Для своих лет он был весьма наблюдателен, носил уголь в барский дом, и знал, что делал.
Не прошло и пары минут, как тоненькая фигурка Милочки показалась в воротах крепости.
– Ты прав, Липатка. Так несправедливо, – сказала она. – Но, может быть, кто из девочек захочет быть вашей сестрой? Я могу лекарствами поделиться, и бинт дам…
Наблюдавшие за схваткой крестьянские девчонки, на которых падал взгляд Милочки, все, по очереди, отрицательно мотали укрытыми платками головами. Принимать участие в мальчишеских потасовках, по их взглядам, означало – «срамиться». И от братьев после достанется, и от родителей, если узнают. И подруги засмеют. Кому надо? Барское дите – глупое, ему до репутации и дела нет. Вот и пусть срамится, коли ей охота…
Мальчишки ждали, пользуясь заминкой для того, чтобы перевести дух и приложить снег к полученным ссадинам. Милочка растерянно огляделась, на глазах ее выступили слезы. Потом вдруг она просияла, ударила себя варежкой по лбу.
– Сейчас! – крикнула она. – Подождите меня, пожалуйста, минутку. Не начинайте без нас!
Милочка убежала и вернулась действительно скоро, как и обещала. За собой она буквально волокла сопящего от спешки и спотыкавшегося на обтаявших сугробах Джонни. По боку его била почти такая же сумка, как у Милочки. Крест был наскоро нарисован не то мелом, не то пастелью. На бегу Милочка что-то быстро и горячо объясняла мальчику. Дауненок испуганно щурил маленькие глазки и высовывал толстый язык.
– Да ну его! – крикнул сразу во всем разобравшийся Липатка. – Не нужен нам этот…
Милочка хитро усмехнулась и оставив Джонни у стены, пожелала о чем-то переговорить с командиром гарнизона крепости. Быстро пошептавшись с ним, она снова схватила Джонни за руку и подвела его к крепостным воротам.
– Вот! – крикнула Милочка. – Джонни будет у них, в крепости, братом милосердия. А я буду с вами, с теми, кто нападает. НО учтите, стрелять в сестер и братьев милосердия нельзя. Нарушение конвенции…
– Но как же мы поймем-то?… – растерянно пробормотал Липатка. – Он же мелкий совсем, его и не видно…
– А это уж – ваше дело! – торжествующе воскликнула Милочка.
В это мгновение между ног наблюдателей, стоящих на расчищенной дорожке, протиснулся черный кот. Отыскав взглядом Джонни, Кришна подбежал к нему и, примерившись и оттолкнувшись лапами от сумки, вскарабкался к хозяину на плечо. Джонни присел, но, тут же преодолев собственный страх, успокаивающе погладил широкую морду приятеля.
– Нечистая сила! – взвизгнул кто-то из девчонок.
Джонни вместе с котом и командиром гарнизона скрылись за тут же затворившимися воротами, сделанными из старой садовой калитки. Двое совсем маленьких мальчишек из нападавших испуганно перекрестились и бросились бежать, мелькая подшитыми пятками белых валенок.
Липатка хмурился. Милочка, улыбаясь, смазывала мазью ссадину на скуле мальчишки из числа атакующих.
Вопреки многолетней традиции, взять крепость фактически так и не удалось. Две башни из четырех были разрушены бревнами-таранами и превращены в огромные сугробы. Но стены и ворота защищали яростно и, казалось, неутомимо. Джонни никто не видел, но то здесь, то там, нагоняя страх, появлялась на белом навершии стен выгнутая черная фигура с разинутой в беззвучном шипении розовой пастью. И это зрелище каждый раз почти полностью лишало воинство Липатки мужества. В конце концов все устали, проголодались, исчерпали кураж и порешили окончить дело миром. Все мальчишки из крепости благодарили Джонни (наскоро наученный Милочкой, он, тем не менее, вполне удовлетворительно выполнял в течении штурма обязанности медбрата), хлопали его по плечу и осторожно, сняв варежки, гладили кота. Кришна, вопреки обыкновению, разрешал себя трогать, и кажется, по своему гордился их с хозяином успехом в обществе. В конце Милочка и Джонни принесли из господского дома две корзиночки с горячими пирожками, которые имели среди проголодавшейся братии бешеный успех. Джонни, по-видимому, уже ничего не боялся, улыбался мальчишкам, и даже, размахивая коротенькими руками, пытался что-то рассказать Милочке о пережитом во время осады крепости. Милочка успокаивающе кивала в ответ.
Павлушу Петр Николаевич обнаружил в саду, в значительном отдалении от обороняющейся крепости (впрочем, с пригорка, на котором расположился мальчик, все было неплохо видно).
– Отчего ты не с ними, сынок? – спросил он. – Я, когда был мальчишкой, всегда почему-то оборонял крепость. Не могу припомнить, чтоб хоть раз атаковал…
– Глупость это все, – равнодушно отозвался Павлуша. – Визг, писк, а толку? Дурацкое времяпрепровождение для дураков. Джонни вот там как раз на месте, это его уровень. Хорошо Милка придумала. А прочие… Только, чтоб время убить…
– А что же, по-твоему, было бы для них – не дурацкое? – сдерживая себя, осведомился Петр Николаевич. – И – не убить?
– Мне за них решать? – искренне удивился Павлуша. – Уволь, папа. Это вот пусть дядя Гриша за всех радеет. И другие, коли им в радость. Я бы хотел с собой правильно разобраться, а на большее – у меня пока претензий нет…
– Господи, ну до чего ж ты пыльный и скучный какой-то! – не удержался Петя. – Казенный – правильно Милочка сказала. И это в десять-то лет!
Павлуша, совершенно по виду не обидевшись, дружелюбно улыбнулся отцу и погладил его по рукаву.
– Не всем же парить в эмпиреях, папа, – сказал он, как-то по-стариковски пожевав пухлыми, детскими губами. – Надо кому-то и по казенной, и по финансовой части. Без того государство, как я сумел разобрать, не живет… А чтобы все понять, да управлять этим, многое уразуметь надо, и времени, стало быть, много потратить. Если я сейчас начну, как они, вопить и кругами бегать, кому лучше-то будет?
– Павлуша, ну неужели ты не можешь понять, что мир много богаче и красивее… – начал было Петр Николаевич, но оборвал сам себя. Прозрачный до дна взгляд приемного сына убедительно демонстрировал, что Павлуша не по злобе или упрямству, а просто структурно не приемлет подобных рассуждений. Нет у него в душе соответствующего им приемного места. Отсутствует.
«Но как же так вышло-то?» – растерянно подумал Пьер и не нашел ответа. В отцовстве его тоже не было. Что бы ни сказать про покойного Туманова, но одно остается несомненным: он был человеком сильных страстей и эмоциональную сторону его натуры нельзя было назвать бедной ни в каком случае.
– Гляди, папа, там мама приехала! – радостно воскликнул Павлуша, потянув Петра Николаевича за рукав и тем отвлекая его от бесплодных рассуждений. – Во-он она… вон там, видишь? Пошли же туда…
– Пошли, – согласился Петя и, не удержавшись, напоследок подумал о том, что сам он в возрасте Павлуши в сходных обстоятельствах непременно сказал бы «побежали!».
Из которой читатель многое узнает о родственниках Софи, а Аннет Неплюева чувствует себя выпитым бокалом
– Ну как, Флоренсы Найтингейлы, живы? – снисходительно приветствовал Павлуша сестру и Джонни.
Джонни, поглаживая Кришну, ответил молчаливой улыбкой, а Милочка презрительно фыркнула.
– И вовсе я не Флоренс Найтингейл, – отрезала она. – Я – Елена Бакунина. Она еще в 1854 году на поле боя раненным помогала. А Флоренс под Севастополем почти два года спустя. Бакунина – первая.
– Ну… тогда да, тогда – конечно, – сразу же согласился Павлуша и взглянул на сестру с оттенком уважения. Надо признать: иногда Милочке, которая большую часть времени выглядела совершеннейшей дурочкой, удавалось его удивить. – Мама, ты почему приехала? Не собиралась же вроде?
– А ты что, мне не рад? – бегло улыбнулась Софи.
– Рад, разумеется, – Павлуша пожал плечами. – Просто раздумываю, что бы это для нас значило…
– Ужас! – поморщилась Софи. – Немедленно перестань раздумывать, беги лучше поиграй с Милочкой и Джонни…
– Ага, – усмехнулся Павлуша. – Уже бегу. Так ты надолго?
– Проездом в Гостицы. Хочешь поехать со мной? Повидаться с Кокой?
– Я хочу! Я хочу! – тут же запрыгала Милочка.
– Пусть она едет, а я с бабушкой останусь, – сориентировался Павлуша. – У нас еще дела есть. А Кока… опять будет мне свою коллекцию листочков да тараканов показывать…
– Не вижу решительно ничего плохого в том, что Николай собирает гербарий и коллекцию насекомых! – отчеканила Софи. – Он сын моей сестры и твой кузен!
– Да я ничего и не говорю, – примирительно заметил Павлуша. – Пусть себе что хочет собирает. Просто не хочу туда ехать. Там, в Гостицах…. ну там кокины коллекции – это не самое засушенное, что есть…
– Что ты хочешь этим сказать?! – рявкнула Софи.
Павлуша задумчиво смотрел на высоко проплывающие мартовские облака.
– Паша имел в виду тетю Аннет и бабушку Наталью Андреевну, – тихо сказала Милочка, скромно опустив глазки.
Иногда брат и сестра довольно успешно играли в паре.
Софи сдержала готовое сорваться ругательство и, развернувшись на каблуках, пошла к дому.
– Мама, ну вы хоть отобедаете с нами перед отъездом? – послышался сзади невинный голос Павлуши. – Если Милочку сейчас не покормить, то она потом, в Гостицах, капризничать станет.
– Мне листики нравится смотреть, – объяснила Милочка отцу, доверчиво вложив свою ладошку в его руку. – У Коки там все так аккуратненько, и подписано красиво. А бабочек и жучков мне жалко. Они как живые, но все равно – мертвые. Как Кока может их убивать? Ведь он добрый мальчик, я знаю…
Когда тринадцатилетний Кока увел Милочку наверх смотреть свои коллекции, Наталья Андреевна достала пузырек с нюхательной солью и внимательно оглядела старшую дочь и зятя.
– Что?! – патетически вопросила она.
Софи наклонила голову, подбирая нужные слова и одновременно думая о том, что вот, Мария Симеоновна намного старше ее собственной матери, и тоже давно вдовеет, а выглядит не в пример бодрее и свежее Натальи Андреевны.
Сестра Аннет смотрелась молодой копией Натальи Андреевны, которую слегка подержали в хлорном растворе для отбеливания.
«Господи, да отчего ж она себе такие платья-то старушечьи шьет?» – удивилась Софи, рассматривая преждевременно увядшую шею и неживые кисти сестры, и почему-то избегая взглянуть ей в лицо.
– Были ли вести от Ирен? – спросила она.
– Недели две назад – письмо, – припоминая, ответила Аннет. – Все, как всегда. Здорова, работает, детишки в школе балуются. Спрашивала про здоровье Модеста Алексеевича, жаловалась, что Гриша ей не пишет совсем. Приезжала только в Рождественские вакации…
– Больше ничего не писала?
– Больше ничего. Да ты разве за тот же срок с ней в Петербурге не виделась?
– Видите ли, наша Ирен куда-то исчезла… – задумчиво вымолвила Софи.
– Как исчезла?! – ахнула Наталья Андреевна. – Почему?!
– Мы сами покуда ничего не знаем, – быстро заговорил Петя. – И, я думаю, теперь не стоит еще особенно волноваться. Ирен всегда была довольно замкнутой девушкой, насколько я понимаю, про нее никто ничего толком не понимает и не может сказать… Может быть, она просто решила как-то изменить свою жизнь, и не хочет пока никому сообщать, чтобы не нарваться на протесты и уговоры…
– Что это значит – изменить жизнь?! – гнусаво взвизгнула Наталья Андреевна, прижав к носу завернутый в платок флакон. – Неужели этих ужасных курсов, где каждая первая девица – брандахлыстка и революционерка, ей показалось мало?! Что еще? Может быть, теперь она решила выйти замуж за фабричного рабочего? За каторжника? Не томите меня – говорите сразу! Мое сердце давно разбито, и хуже уже не будет…
– Мама, успокойтесь, дайте Пете сказать, – Аннет попыталась урезонить мать, но не достигла успеха.
Софи спокойно присела в кресло, пережидая материнский приступ жалости к себе, и кивнула Пете, призывая его сделать то же самое. Аннет, стоя, отвернулась к окну.
– … и, Господи, Соня, до чего же у тебя все-таки холодное сердце! – закончила Наталья Андреевна. – За всю жизнь ты никогда, ни разу не пожалела родную мать!
– Нет, мама, что вы, мне вас очень жалко! – заученно сказала Софи, подавляя зевок.
– Ты вообще никогда и никого не жалела! Так же как и твой отец! – со слезой выкрикнула Наталья Андреевна и на этом закончила свое выступление.
Дальше Софи излагала известные ей подробности, а Петя и Аннет дополняли известное своими соображениями. Потом пришла служанка и сообщила, что Модест Алексеевич зовет жену. Аннет изготовилась идти.
– Не говори пока Модесту про Ирен, – предложила Софи. – А то он попусту волноваться станет. Все одно помочь не сможет ничем…
Чуть больше года назад у Модеста Алексеевича, которому накануне исполнилось 62 года, случился удар. Вначале правая половина тела оказалась полностью парализованной, но постепенно мимические движения, речь и движения правой руки частично восстановились. Правая нога так и осталась недвижимой. Теперь Модест Алексеевич проводил большую часть времени в специальном кресле на колесиках, которое, благодаря остроумной английской конструкции, могло ездить даже по ступенькам. Читать и особенно писать ему было трудно. Как все тяжело больные люди, он сделался умеренно капризен и, несмотря на постоянный пригляд специально нанятой сиделки, то и дело требовал к себе по неотложному делу то жену, то сына. Кока, замкнутый и застенчивый мальчик, казалось, нимало не тяготился обществом больного отца и, односложно отвечая, терпеливо выслушивал все его невнятные речи. Аннет же порою казалось, что она вот-вот сойдет с ума.
Понятно, что управлять поместьем, конюшнями, оранжерейным хозяйством, сдавать в аренду дачи и делать все прочее, потребное в обширном хозяйстве, Модест Алексеевич в своем нынешнем состоянии больше не мог.
Первое время помогала с делами Мария Симеоновна Безбородко, но, быстро поняв, что толку от Наталии Андреевны и Аннет не добиться в ее понимании никогда, с привычной прямотой обратилась к старому другу, не исключив при том присутствия его женщин.
– Надо тебе, Модест Алексеич, мальчиков на помощь звать. Не хуже меня знаешь, что хозяйство без пригляда не живет, его надо на помочах вести и, более того, развивать, чтоб прибыль была. Ты же сам после болезни мало на что пригоден, если правде в глаза глянуть. Печально это, конечно, но не трагедия. Всему свой срок. Тебе нынче отдыхать, а молодежи – горбатиться. Ты их, по крови не родных, вырастил, выучил, для жизни всячески снарядил. Кока мал еще. Если не хотят дальше в бедности жить, должны теперь потрудиться. Что скажете на то, милочка? – оборотилась она к Наталье Андреевне.
Наталья Андреевна возмущенно кудахнула, но тут же подавила все свои порывы (она была более умна, а точнее – здравомысляща, чем думали все без исключения окружающие), и постно опустила взгляд.
– Разумеется, вы правы, милочка, – тихо сказала она. – Модест Алексеевич всегда занимался всем сам, пользуясь лишь вашими советами, и в результате мы с Аннет оказались теперь совершенно беспомощны…
Мария Симеоновна презрительно скривила тонкие сухие губы. Ей явно хотелось сказать, почему именно, на ее взгляд, оказались беспомощными в ведении усадебного и прочего хозяйства эти две никчемные курицы, но, щадя старого друга, она промолчала.
Модест Алексеевич, сидя в кресле, несимметрично щурился и безостановочно качал окончательно поседевшей головой. Аннет молчала, похожая на пустой лист старой бумаги.
Совет Марии Симеоновны, несмотря на всю недоброжелательность, проявленную соседкой, показался Наталии Андреевне весьма здравым, так как, удивительным образом забывая весь свой жизненный опыт, она продолжала свято верить в то, что миром в целом, так же как и отдельными его частями, могут управлять только и исключительно мужчины.
Сергей и Алексей Домогатские, выращенные Модестом Алексеевичем как родные сыновья, жили в Петербурге на его средства и были нынче вполне взрослыми молодыми людьми.
Сергею на тот момент исполнилось 22 года. Он учился в Николаевском кавалерийском училище на Ново-Петергофском проспекте (бывшая Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров), и спустя полтора года должен был выпуститься корнетом в кавалерию. На Рождество он приезжал в имение в ослепительной парадной форме – большой кивер с султаном, желтый этишкет, ловко сидящий мундир с галунами, блестящие сапожки со шпорами «малинового» звона, белые перчатки и начищенная шашка. Несмотря на то, что бравый юнкер держался в деревне с крайним высокомерием и отчетливо давал понять, что только воинские утехи и петербургские балы знати достойны его внимания, все барышни Лужского уезда плакали в подушки после его отъезда.
Двадцатилетний Алексей имел совсем иной тон. С самого раннего детства он более всего тяготел к духовному, христианскому чину и осторожно мечтал об учебе в семинарии, а потом и в Академии. Разумеется, в семье не хотели и слышать об этом. Особенно жестоко высмеивал Лешу ближайший к нему брат Сергей. Впрочем, революционер Гриша, Модест Алексеевич и даже маман с сестрой тоже вносили свою лепту. Потомственный дворянин, из хорошего древнего рода, умный, воспитанный и образованный, для которого открыты любые карьерные пути в Петербурге – хочет в пределе стать приходским попом в засаленной рясе и с кучей сопливых ребятишек?! Не бывать тому! Единственным, кто пытался осторожно поддержать стремления Алексея, оказался Пьер Безбородко, муж старшей сестры Софи, но, увы! к мнению Пети в семье не очень-то прислушивались. Мирный по натуре Модест Алексеевич почему-то более всех мечтал о блестящей военной карьере любимого приемного сына (сторожась резкости и дерзколюбия Сергея и отдавая себе отчет в том, что Коке военным не быть). В результате после окончания гимназии Леша, по возможности совместив собственные устремления с волей отца и благодетеля (каковым он вполне искренне полагал Модеста Алексеевича. Единственный из всех Домогатских, он не помнил родного отца и с детства называл мужа сестры Аннет папой, что всегда очень льстило сердцу чадолюбивого Модеста), поступил во вполне демократическое Николаевское инженерное училище, в которое принимались лица всех сословий по результатам весьма серьезного проверочного испытания из математики и физики. Готовило училище молодых людей для службы в инженерных и железнодорожных войсках.
Форсу среднего брата и отчаянной лихости старшего в младшем Домогатском не было совершенно. Юнкера инженерного училища в целом держали себя более скромно и серьезно, форма у них не отличалась особым блеском. Однако, Леша выделялся своей «тихостью» даже на этом фоне, и зачастую оказывался из-за этого вне училищных традиций. Например, в первый год обучения юнкера не имели права носить шпор. Однако, было правилом, что юнкера, уволенные в отпуск в субботу, сворачивали с Забалканского проспекта на пустынную набережную Фонтанки, вытаскивали шпоры и надевали их. Возвращаясь вечером в училище, они проделывали то же самое, только в обратном порядке. Алексей, не носивший в увольнении шпор и смотревший на куражившихся однокурсников с доброй сочувственной улыбкой, естественно, довольно быстро заслужил от них презрительную кличку «Леша-святоша».
Вскоре после разговора с Марией Симеоновной Наталия Андреевна отправилась в Петербург. Среднего сына она застала на распределении новобранцев по полкам, которое каждый год происходило в Михайловском манеже. Само по себе зрелище было довольно увлекательным и даже временно заворожило не привыкшую в деревне к обилию впечатлений Наталью Андреевну.
От каждого полка приходила в Манеж делегация для отбора новобранцев. Она выглядела торжественно – взвод солдат в полной парадной форме с оркестром во главе, с офицером или даже командиром полка. Потом начинался отбор: высокие шатены с правильными носами – в Преображенский полк, блондины – в Измайловский, рыжие – в Московский, высоких брюнетов со стройной фигурой – в кирасирские полки; в усами – в гусарские или другие кавалерийские; с бородой – в «вензельные» роты пехотных полков гвардии; высоких с широкой грудью – в гвардейский флотский экипаж.
Интересен был и развод новобранцев по полкам. На Невский проспект выезжает на прекрасных черных конях оркестр и взвод конногвардейского полка, в медных касках с двуглавыми орлами, в начищенных кирасах, белых колетах, при длинных палашах. Оркестр играет бравурный кавалерийский марш. А сзади идет разношерстная группа испуганно озирающихся парней, многие в лаптях, с котомками, узелками, сундучками. Идут не в ногу, спотыкаются. А следом – гвардейские моряки, с тесаками на белых портупеях, с отглаженными ленточками на бескозырках, ведут за собой будущих матросов под звуки великолепного оркестра гвардейского экипажа…
Чистая публика останавливается, глазеет. Простой люд сочувствует новобранцам, суют им в руки папиросы, деньги. Женщины даже причитают со слезами. Мужчины, особенно те, которые отбыли солдатчину, грубо шутят, скрывая волнение. Те из новобранцев, что побойчее, отвечают.
– Забрили тебе лоб, так попробуй шилом патоки!
– Так, чай, военная служба – не в деревне решетом воду носить. Ты-то уж стар для дела, так сиди на печи!
Под общий лад Наталья Андреевна тоже расчувствовалась, шагнула вдруг с тротуара, сунула серебряный полтинник белобрысому солдатику, показавшемуся на миг чем-то похожим на внука Коку:
– Возьми, дружок, купишь себе чего-нибудь.
– Благодарствуйте, барыня, – тупя взгляд, пробормотал парнишка.
Во время развода Сергей и сумел подойти к матери. Однако, разговора между ними не получилось.
– Маман, что вы говорите! – Сергей даже закатил глаза от возмущения. – Я не могу оставить училище! Вся моя жизнь – это служить, быть военным. Единственная альтернатива – застрелиться. Вы этого для меня хотите?!
– Болезнь… деньги… хозяйство… – отрывочно бормотала Наталия Андреевна и сама себе казалась неубедительной рядом с этим блестящим юношей, почти офицером. И это он будет распекать в деревне нерадивых крестьян, препираться с дачниками из-за арендной платы, покупать три воза навоза?… План Марии Симеоновны уже не казался ей таким удачным.
– Но как же нам быть, Сереженька?! – Наталия Андреевна в отчаянии заломила руки. – Если хозяйством никто не будет заниматься, то мы просто не сможем присылать тебе деньги и…
– Как это – не сможете?! – удивился Сергей. – Ты же не хуже меня знаешь: жизнь гвардейского офицера – весьма дорогая штука… Я просто не могу ничего другого… Ты что, все-таки желаешь моей смерти, хочешь, чтобы я кончил, как папа́?
При воспоминании о покончившем с собой муже слезы выступили на глазах у Натальи Андреевны. Она была не в силах говорить.
Сын осторожно положил три пальца на ее рукав.
– Мама, я вас прошу, не отчаивайтесь. Всегда есть выход. Вполне возможно, что Модест еще поправится настолько, чтобы снова взяться за дело. Он же еще не умер, верно? Значит, остается надежда. А пока вы можете поговорить с Лешкой. Он, как я знаю, в душе тяготится и Петербургом, и своим юнкерским положением. Конечно, сам он мечтает стать попом, но, коли уж это нельзя, может быть, ему и в охотку покажется заняться хозяйством. Да и мозги у него, надо признаться, устроены на более научный лад, чем, предположим, у меня самого. И занудства больше. К тому же он сызмальства больше всех нас за Модестом ходил и ко всему в хозяйстве приглядывался. Чем не решение?
Наталья Андреевна тяжело вздохнула. Увы! Блестящий, красивый, как юный бог, Сережа, так же, как и ее старшая дочь Софи, никогда не был способен думать ни о ком, кроме себя самого… А старший сын, вроде бы надежда и опора престарелой матери, порешил думать о благе всего народа разом, да на том и сгинул…
Леша внимательно и серьезно выслушал Наталию Андреевну и согласился сразу, почти не раздумывая. На выполнение всяких формальностей ушло три дня и, по истечении их, мать и сын уж миновали заставу и ехали по направлению к Луге.
– Модест Алексеевич всегда был добр ко мне и держал за родного, – не зная, Леша почти повторил слова Марии Симеоновны. – Теперь мой черед ему помочь Коку на ноги поставить… Да и Сереже доучиться надо и в полк вступить…
Наталия Андреевна смотрела на светлый, тонкий, чуть слабоватый в подбородке профиль младшего сына и думала несколько противоречиво (впрочем, противоречия этого не замечая совершенно): «Хорошо, что мы его Церкви не отдали. Господь не попустил. Коли б не так, что б теперь делать-то? А так, может, еще и обойдется…»
С тех пор Леша безотрывно жил в Гостицах и весьма вдумчиво и небезуспешно вел все дела. Модест Алексеевич и Мария Симеоновна как могли помогали ему разобраться во всех тонкостях. Модест был очень доволен успехами приемного сына и видел в нем своего преемника на вечные времена. Мария Симеоновна, смекающая больше недужного друга, качала головой.
– Душа у него, конечно, благородная и благодарная, да только совсем на иную ноту настроена, чем севооборот соблюдать, да молотилку модернизировать, – говорила она. – Дай Бог, Коку на ноги поднимет…
В редкие часы досуга Алексей Домогатский приезжал в Люблино и подолгу беседовал с Петей Безбородко о поэзии и богословии. Софи эти беседы казались безмерно скучными, она сразу начинала зевать и, извинившись, оставляла мужа и брата одних. Петя не раз говорил, что в Леше есть удивительная светлая наивность, которая одна, быть может, и пристала настоящему священнослужителю. Софи после этих слов отчего-то всегда вспоминала владыку Елпидифора, старого настоятеля Крестовоздвиженского собора в Егорьевске.
Нынче Леша находился в деловой поездке в уезде по поводу Неплюевских покосов.
– Как здоровье Модеста? – спросила Софи у матери, когда сестра вышла. – Ухудшения не было?
– Все то же, без изменений, – вздохнула Наталья Андреевна. – Аннет, бедняжка, за последнее время извелась вся, устала, с лица спала…
– Отчего же она устала-то, раз ухудшения нету? – удивилась Софи. – На хозяйство вы Лешину жизнь кинули, Кока, как я его знаю, присмотра вовсе не требует. У Модеста Алексеевича года такие, что жив, в памяти, и слава Богу. Что ж ее изводит-то, я не разберу?
– Господи, Софи, какая ты все-таки злая, – вздохнула Наталья Андреевна. – Никогда никому не посочувствуешь. Даже родной сестре. Аннет ведь моложе тебя, а ее жизнь, почитай, кончилась…
– Почему – кончилась?! – нетерпеливо притопнув ногой, едва ли не с возмущением переспросила Софи. – Из-за болезни Модеста Алексеевича? А когда он был здоров, то – что же? Она ему в делах помогала? Выезжала с ним куда? Из себя заниматься могла чем-то жутко интересным, а нынче – не может?… Вы пустое говорите, маман. Было и будет так, как Аннет сама захочет и осмелится. Все остальное – ерунда!
– Софи, Софи… – Наталья Андреевна, подпустив на лицо горькую мину, покачала головой. – Как ты понять не можешь, что не все же люди в мире такие, как ты… Толстокожие и энергичные.
– Это я – толстокожая и энергичная? – усмехнулась Софи. – Изрядно, маман! Как ты находишь, Пьер?
Петя доброжелательно и молча улыбнулся жене.
– Аннет мне недавно сказала… – упрямо возвращаясь к своему, продолжала Наталья Андреевна. – Как же?… А, вот: «– Я чувствую себя выпитым бокалом. Но это ничего, пустое, обычное дело. Хуже другое. Жизнь, считай, кончилась, а я так и не сумела разобрать: кто пил и за что?»
Софи напряглась и привстала в кресле, оперевшись ладонями, в позе нервной и изящной охотничьей собаки.
– Она так сказала? Ого! Это уж что-то! Из этого выйти может…
– Что – выйти? – не поняла Наталья Андреевна, но Софи уже не слушала и не смотрела в ее сторону.
– Петя, ты иди к детям, ладно? – попросила Софи мужа. – Я после к вам присоединюсь. А сейчас – к сестре…
Петр Николаевич молча кивнул жене. Наталья Андреевна кинула в его сторону беспомощный взгляд, который он не подхватил.
Аннет уже была в своей комнате. Стояла у окна, глядела на голую клумбу таким взглядом, каким птицы в клетке заглядывают в пустую кормушку.
– Аня, маман говорит, ты от всего извелась, – сходу, прямо от двери сказала Софи. – И слова твои цитировала, про бокал. Это странно хорошо. Я полагаю, тебе тоже романы писать надо. У меня, говорят, талант. Так и ты, стало быть, можешь, семейное же дело… Аннет Неплюева – это и звучит неплохо…
– Софи, что ты несешь?! – с болезненной досадой откликнулась Аннет, оборачиваясь. – О чем, ты подумай, о чем мне писать? Я же ничего не вижу, ничего не знаю. Вокруг меня уж давно не происходит никого и ничего… Да и никогда не происходило, если здраво рассудить…
– Так от тебя никто и не ждет, Аннет! Разные люди бывают, и романы разные нужны. Я вот для умных пишу, да про приключения. Тебе ж не заказано. Пиши другое, то, что из пальца высосать можно…
– Спасибо, сестричка. Ты даже комплимент скажешь, как иной плюнет. Мой, значит, убогий удел – для дураков писать.
– Для дур, Аннет, для дур. Для дураков – это тебе на войне побывать надобно, или хоть прочитать про то. А дур у нас грамотных в России развелось – не перечесть. И все – читательницы. Сидят на своих квартирах, да в домиках, да усадебках, мужья худо-бедно на службе, а им и вовсе заняться нечем. Сидят, мух гоняют… А тут ты…
– Соня, прекрати! Ты… ты просто микроб беспокойства какой-то… От тебя неудобно…
– Да если б я все время о чужих или хоть о своих удобствах думала, ничего бы в моей жизни и не было, – бодро заявила Софи.
– Знаешь, ты мне сестра, но порою я готова тебя ненавидеть!
– Отчего же – меня?… Погоди, не отвечай, дай я попробую угадать… Ты ненавидишь меня за то, что я не продалась в ранней юности, любила, а после все равно вышла замуж, как ты полагаешь, по голому расчету, и получилось ловчее и интереснее, чем у тебя. Так? Поэтому я – гадина и микроб? Но, может быть, я просто лучше умею считать? Меня математике учил Поликарп Николаевич, дока в своем деле… А, Аннет?
Аннет некоторое время молчала. Потом судорожно зевнула.
– Скажи… Скажи, тебе еще не надоело беспардонно влезать в чужие жизни?
– А чего ты ерепенишься-то, не пойму? Я ж тебе добра желаю. На первых порах, обещаю, с романом помогу, отредактирую где надо, познакомлю с нужными людьми. Все тебе развлечение…
– Да у меня не выйдет ничего!
– Да ну, Аня! Стоит захотеть, – внезапно Софи вскинула тонкие руки так, что широкие, перетянутые в запястьях рукава волной свисли на плечи, и гнусавым голосом завопила. – «Прошла гроза! Поникли помидоры! «Ах!» – вскричала княжна, прижала руки к бурно вздымающейся груди и упала во влажно всхлипнувшие маргаритки…»
– П-почему? – спросила несколько ошеломленная перепадами настроения сестры Аннет. – Почему во в-влажно в-всхипнувшие м-маргаритки?
– Почему? – растерялась было Софи, но тут же нашлась. – Как почему! Гроза же была. Они все мокрые, гладкие, упругие, холодные. Ну представь, что-то тяжелое (княжна) в них падает. Они такой звук издают «ч-чмок!», как будто всхлипнули. А что маргаритки… Ну, можно, конечно, в розы, как у Густава Карловича, это эффектнее, конечно, но тогда ее еще страниц сто никому нельзя будет показывать, там же шипы… Даже похоронить красиво, и то не выйдет…
– Соня!
– Ну как хочешь! – Софи быстро утомлялась, если ее замыслы не встречали понимания, а ей самой это не было до зарезу нужно (в противном случае она вцеплялась в собеседника, как английский бульдог, у которых, как известно, уже сомкнувшиеся челюсти можно разомкнуть только с помощью долота или иных подручных инструментов). – Я сказала, а там уж дело твое. Хочешь тут киснуть и плесневеть дальше – исполать… ДО свидания, Аннет! Прости, у меня дела, более – недосуг! Надо ведь что-то и с Ирен решать…
Софи вышла, упруго шагая и подхватив рукой и без того почти неприлично укороченный подол.
Почти сразу в комнату протиснулась Наталья Андреевна.
– Аннет, деточка, о чем это вы тут? Я слышала, Соня кричала…
– О том, мама, что помидоры окончательно поникли… – потерянно пробормотала Аннет, глядя себе под ноги стеклянными глазами.
– Ну вот, – сказала Наталья Андреевна, сварливо повышая голос. – Ну вот! Теперь, когда я отдала вам всю мою жизнь, никто не считается со мной в этом доме! Все только и норовят надо мной поиздеваться. Нет, чтобы ответить матери как полагается…
Наталья Андреевна достала нюхательную соль и влажно всхлипнула.
Аннет истерически расхохоталась.
– Влажно всхлипнувшие маргаритки! – выкрикнула она и выбежала из комнаты.
– И эта рехнулась… – тихо сказала Наталья Андреевна, бессильно опускаясь в продавленное плюшевое кресло, прямо на брошенную шерстяную шаль Аннет. – И Ирен… Все они, по очереди… Гнилое семя… Боже, только ты видишь, как я несчастна!
В которой Густав Карлович укрывает розы, воспитывает пса и работает с агентурой, а Наталья Андреевна сомневается в здравости его рассудка
– Нет, Савелий, не изволь спорить. Похолодание состоится непременно и очень скоро, и мы должны принять меры. Если сейчас не укроем «Аделину», от нее к окончательной весне останутся только сухие пруты.
– Так вы ж, Густав Карлович, всегда правы, – ответствовал садовник, поедая хозяина льстивым взором.
Кусмауль почти с тем же выражением смотрел на серо-зеленые кончики остриженных на зиму розовых стеблей. «Аделина»! Его собственный сорт, названный в память покойной матушки. Розетки некрупные, но благородной удлиненной формы, а главное – цвет: нежный-нежный сомо, в глубине бутона сгущающийся в розовый. Да-с, это настоящий сорт, и на августовской выставке он непременно будет признан. И не просто признан! Густав Карлович так отчетливо представил ожидающий его триумф, что губы сами собою засвистели вагнеровский «Полет валькирии». Савелий, отворачиваясь, чтобы барин не заметил ухмылки – вполне, впрочем, одобрительной, – принялся аккуратно укрывать кустики лапником и ветошью.
Густав же Карлович прошелся по саду, вдыхая сырой пронзительный воздух и с удовольствием лишний раз убеждаясь, что все в нем соответствует заведенному порядку. Постоял на крыльце, глядя в небо: там ежились от ветра серые рыхлые облака, а за ними пряталось солнце, еще невидимое, но уже вполне готовое светить и греть: была бы только дана команда! Кусмауль подумал, что на месте Всевышнего не стал бы с этой командой так медлить.
И тут же сурово укорил себя за богохульство. В последнее время душа его, прежде никоим образом не склонная к иррациональному, испытывала некий необъяснимый трепет… Он даже взял за правило не реже чем раз в месяц ездить в Петербург, нарочно чтобы послушать проповедь в кирхе на Васильевском острове (именно в той, куда захаживал и прежде, увы, отнюдь не регулярно). Причиной сему было его нынешнее житье. Оно столь точно соответствовало мечтаниям, взлелеянным в сургучной тиши казенного кабинета, что, право слово: оторопь брала! Что-то теперь воспоследует? Ведь в этом мире все подлежит оплате; за свою долгую жизнь отставной судебный следователь убеждался в сей банальной истине множество раз.
Впрочем, резонно возражал он собственным опасениям, – разве он не заплатил? Вот этой самой жизнью, тридцатью пятью годами беспорочной службы! Да, при том и себя не забывал – но никоим образом не в ущерб делу, а, главное, в меру!
Хотя – где она, мера? Кто ее определяет?..
А тут еще Вавик со своим оккультным убийством. Стоило ли ввязываться? Не лучше ль было бы держаться от таких вещей подальше?
Вопрос остался без ответа – не потому, что такового у Густава Карловича не было, а просто неспешный ход его мыслей был нарушен громким дамским голосом, раздавшимся от ворот:
– Да подай же вперед! Или назад! Здесь же лужа, или ты не видишь?
Никакой лужи в усадьбе и ближайших окрестностях не могло существовать просто по определению; Густав Карлович даже почувствовал легкую обиду – но, решив на ней не сосредотачиваться, споро двинулся к воротам: встречать гостью.
Наталья Андреевна Домогатская выбиралась из легкого возка с охами и стонами, прижимая ладонь к виску. Недолгое путешествие по раскисшему проселку превратилось для слабой здоровьем дамы в пытку.
– И на что я вам теперь с мигренью? – жалобно улыбнулась она, глядя на лысоватый затылок соседа, галантно склонившегося к ее руке. – А так, верите ли, хотелось поболтать всласть, попросту… Я ведь нынче со станции. Ехала мимо, и вдруг как толкнуло: заверни к Густаву Карловичу! Вот кто и выслушает, и поможет… – расслабленное дребезжанье как-то незаметно исчезло из ее голоса, отчего бывший судебный следователь сделал вывод, что вопрос у нее, должно быть, и впрямь важный.
Впрочем, что значит важный? Очевидно, следует выяснить, кто подворовывает из кладовой, кухарка или горничная. Кто ж этим займется, как не гроза петербургского преступного мира, хоть и в отставке?.. Густав Карлович распахнул перед гостьей двери, а высоченный молчаливый лакей (на вид – будто вот только что из Нюрнберга или Ганновера) уже раскладывал на столе ножи и вилки и ставил белоснежные жесткие салфетки, свернутые конусом.
– До чего же у вас все налажено, – протянула Наталья Андреевна, ненадолго возвращая в голос привычную слезу, – с нашей-то прислугой битых полчаса приходится ждать, чтоб накрыли к чаю! Что удивительно – он у вас русский? Ведь так?
– Вполне, – согласился Кусмауль и хотел было что-то сказать про своего лакея, но у Натальи Андреевны вдруг сделалось изумленное лицо, и она воскликнула, всплеснув руками:
– Боже! Что это?..
– Мм… – Густав Карлович оглянулся и (небывалое явление, каковое гостья, впрочем, едва ли была способна заметить, а тем паче оценить) слегка смутился и покраснел, – это… ну, как вы изволите видеть – собака.
– Я вижу, что собака, – с очевидной растерянностью согласилась Наталья Андреевна.
Собака, о которой шла речь, не представляла собой ровным счетом ничего удивительного или выдающегося, что могло бы оправдать столь эмоциональную реакцию хозяина и гостьи. Это была довольно тощая гладкошерстная такса рыжей масти, с широкими лоскутами ушей, обрамлявших длинную невозмутимую морду. Не взглянув на присутствующих, такса процокала коготками через всю гостиную и, ловко вспрыгнув на диван, растянулась на бархатной обивке. Тут молча взиравший на нее Кусмауль очнулся и воззвал:
– Герман! Извольте немедленно вон!
Пес и ухом не повел. Густав Карлович обернулся к Наталье Андреевне и обескуражено развел руками:
– Увы, не так уж у меня все и налажено.
– Но откуда?.. Помилуй Бог – вы-то!.. Гостицы переполнены зверьем, в Люблино Софи притащила этого жуткого кота и попугая… ох, да если б только их – полбеды! Густав Карлович, дорогой вы мой, послушайте…
Кусмауль наклонил голову, показывая, что слушает, хотя на самом деле это было не совсем так. Развалившийся на диване пес продолжал отвлекать его внимание – своим вопиющим несоответствием с окружающей идеальной чистотой и всем кусмаулевским образом, неколебимым в глазах мира и самого Густава Карловича. Он представил, что сказала бы Наталья Андреевна, если б узнала, каким образом эта такса у него появилась, – и почувствовал немалое облегчение при мысли, что она этого не знает.
Невероятное событие имело место ровно неделю назад – когда Густав Карлович отправился в Петербург навестить одну свою старую знакомую. С нею он, было время, поддерживал деловые отношения – когда вел негласное расследование по просьбе баронессы Шталь. Тогда шляпница Дашка поработала очень даже неплохо, притащив ему авантюристический архив Михаила Туманова: прелюбопытнейшее собрание векселей, обязательств, судебных постановлений и любовных записок, которое и теперь еще нет-нет, да и шло в дело. С тех пор Дашка остепенилась. Сменила свое предосудительное занятие (известно ведь, прикрытием чего служила шляпная мастерская в Доме Туманова!) на почтенное ремесло булочницы. И сама сделалась похожа на булку, испеченную по всем правилам: в меру пышна, бела и поджариста.
– Вам, Дарья Поликарповна, косу на грудь – и готова мечта славянофила, – польстил, усмехаясь (теперь уж он не представал перед нею, как когда-то, в образе грозного удава), Густав Карлович.
– Ой, а мы-то, наоборот, под Европу стараемся, – Дашка сокрушенно повела пухлыми плечами, распространяя вокруг себя восхитительный запах ванили и кардамона, – как раз на немецкий манер. Неужто непохоже?
– Чрезвычайно похоже, – успокоил ее Кусмауль; после чего она повела его в комнаты, пить кофе «на немецкий манер» и говорить о делах.
Дела Дашке пришлись очень по вкусу.
– Господин Кусмауль, миленький, – она, блестя голубыми глазами, сморгнула радостную слезу, – вас прямо-таки Господь послал! Ведь вот только что: сижу, гляжу на канарейку, как она в клетке толчется… ску-учно! Хочется ж чего-то такого: таинственного и благородного. Опять же, копеечки живой нет, чтоб никому отчета не давать… Да это я так, про копеечку-то, – она застеснялась, зарозовела, и Кусмауль с удивившим его самого благодушием подумал: вот ведь – женщина, Божье недоразумение, а смотреть приятно.
И он взялся рассказывать Дашке, что от нее требуется. Она азартно закивала головой:
– Сумею, господин Кусмауль, в самом что ни на есть лучшем виде! Хоть горничную, хоть кого. К кому, говорите, наниматься-то?
– К господам Платовым, – терпеливо повторил бывший судебный следователь, – вот вам рекомендация, а вот, – конверт и листок бумаги легли на стол, – это адрес. Но точно ли вы уверены, что ваш супруг…
– Ой, про супруга даже не думайте, – Дашка весело махнула рукой, – вот за магазин еще голова болит – да Кирюшечка справится… А что там, – она резко понизила голос, – у Платовых? Ай убили кого?
– У Платовых, – объяснил Кусмауль, – происходят собрания одного любопытного кружка. Названия у него нет, зато есть девиз. Почему-то на латыни, хотя санскрит явно был бы уместнее: «Ex oriente lux»… – он осекся было, сообразив – с кем говорит, но тут же напомнил себе, что собеседница его куда умнее, чем можно подумать, глядя в ее небесные очи. – Что означает «свет с Востока». Теософический, короче, кружок. Глава – некий Ачарья Даса. К нему, увы, поступить невозможно, поскольку одинок и женской прислуги не держит.
– Ачарья, – нараспев повторила Дашка, – красиво-то как. Теософический, говорите? Они, что ли, в Бога не веруют?
– Очень возможно, – подтвердил Густав Карлович, и Дашка, нахмурясь, перекрестилась.
Безбожие таинственного кружка ее, впрочем, не слишком испугало. Напротив: от близости необычайного Дашка начала возбужденно принюхиваться, будто в ее ванильном царстве вдруг повеяло жгучим перцем. А уж когда Кусмауль рассказал ей про убийство…
Короче, расстались они чрезвычайно довольные друг другом. Новая встреча была назначена через десять дней – здесь же, в булочной. Густав Карлович не видел нужды в излишней конспирации. В конце концов, он давно уже не государственный чиновник – и разве не имеет права зайти и купить себе свежих рогаликов?..
От булочной до извозчика пришлось пройти с полквартала, что было и полезно, и приятно: погода стояла почти весенняя. Густав Карлович уже почти дошел до набережной, по которой намерен был еще немного прогуляться – как вдруг… Впрочем, что значит «вдруг»? Ровным счетом ничего не произошло. И уж, разумеется, он не собирался обращать внимание на бездомную собачонку – одну из множества ей подобных, что превращали российскую столицу в труднопереносимый рассадник микробов.
Однако же обратил. Почему? Этот вопрос он и до сих пор себе задавал – и не получал ответа. Потому ли, что стояла собачонка возле парапета, просунув голову между перил, будто решала – а не прыгнуть ли ей от этой собачьей жизни в канал, хоть и затянутый льдом, но вполне для самоубийственных целей подходящий? Или потому, что она была немецкой породы? Да! Возможно, именно в этом все дело: одинокий европеец, не защищенный ни когтями, ни зубами, ни густым мехом, не нужный ни одной живой душе в этом гигантском нелепом городе, также претендующем на принадлежность к Европе, но на деле являющемся не более чем ее призрачным подобием!
Словом, взыграла в Густаве Карловиче пресловутая германская сентиментальность. Да так взыграла, что он, особо не раздумывая, предпринял ряд совершенно необъяснимых с точки зрения здравого смысла действий: велел извозчику поймать пса и, отыскав городового, обратился к нему с просьбой добыть подходящую корзинку… С этой корзинкой он и возвратился домой. Европеец, боясь, очевидно, спугнуть неслыханную удачу, в дороге и первый день в усадьбе вел себя идеально, без единого взвизга стерпел ванну, стрижку когтей и вытравливанье блох. Наутро же обошел свои новые владения, убедился в том, что они и впрямь – его… и с этих пор Кусмаулю так и не удалось объяснить ему, кто в доме хозяин. Пес охотно отзывался на кличку Герман, пугал басовитым лаем уток в пруду, валялся в спальне на белоснежном пикейном покрывале и так внимательно слушал Густава Карловича, уставясь на него сумрачными глазами и выставляя вперед то одно, то другое ухо, что совершенно ясно было: понимает все до последнего слова.
– Нет-с, милостивый государь, – возмущенно заявил ему Кусмауль, забыв на миг о присутствии Натальи Андреевны, – вы у меня таки станете собакой отличного поведения!
Пес не шевельнулся, всем своим видом показывая, как он сладко и глубоко спит. Гостья же запнулась на полуслове, и в ее глазах Кусмауль отчетливо прочел сомнение: полно, да в состоянии ли сей господин определить, кто ворует из кладовой?!
– Прошу великодушно извинить, – произнес он немного поспешно; Наталья Андреевна горестно вздохнула и – делать нечего! – приступила таки к изложению своей проблемы:
– Речь, Густав Карлович, о моей младшей дочери. Она, видите ли, пошла по стопам старшей: демонстративная самостоятельность, зарабатывание хлеба в поте лица. Как это ужасно, когда ты не в силах объяснить собственным детям… Или это времена так стремительно меняются, и мы с нашими принципами для них уже не годимся? Вы-то меня должны понять!.. – она запнулась, сообразив, что как раз Кусмауль, по причине безнадежного отсутствия детей, понять ее сможет едва ли; и вернулась к теме:
– Ирен совсем, совсем не такая, как Софи. Я всегда боялась, что для нее эта самостоятельность плохо кончится.
– Ирен, – не переспросил, но констатировал Кусмауль, – Ирен…
Он поморщился, отчего-то живо вспомнив оторопь, которая охватила его десять лет назад, за столом в милейшей компании нынешних соседей. Тонкий нескладный подросток с тяжелыми косами и сонным взглядом, говорящий о том, чего не знает и знать никак не может. Он тогда еще подумал: они просто не понимают или привыкли?.. А теперь? Теперь поняли что-нибудь?..
– Ирен пропала, – всхлипнув, выговорила Наталья Андреевна. – Представьте себе, пропала, и никому нет никакого дела! Мое последнее, любимое дитя!.. – она снова всхлипнула, остро ощущая, что все так и есть, и больше, чем Ирен, она и впрямь никого не любила. – Я для того к вам и приехала: просить разобраться. Сделайте доброе дело! У вас ведь, конечно, остались связи в полиции…
Она говорила что-то еще. Густав Карлович смотрел на нее, немного растерянно думая, что вот сейчас она непременно разрыдается и нужно послать человека за каплями. Заслоненная этой мыслью, крутилась в голове и другая: вот оно, вот оно, оккультное убийство! Сансара с нирваной… Как у всякого хорошего следователя – а Кусмауль без ложной скромности полагал себя таковым, – у него имелась интуиция, которая, вроде бы без всяких на то оснований, моментально связала два дела в одно. Дальнейшая беседа с Натальей Андреевной подтвердила, что – не напрасно.
В которой Леша и Софи Домогатские беседуют о жертве Христа, Софи узнает о гибели Ксении Мещерской и усыновляет осиротевших левреток
Леша вернулся в Гостицы под вечер и застал сестру и шурина уже готовыми к отъезду. Софи тут же решительно, своей волей отложила отъезд на полчаса, чтобы поговорить с младшим братом. После того, как он взвалил на себя все хозяйство Гостиц и уверенно повлек доставшийся ему воз, уважение Софи к Алексею возросло экспоненциально, и уехать, не обменявшись с ним мнениями по вопросу пропажи Ирен, она не могла категорически. Сморенную дремой Милочку, завернув в плед, уложили на диван в гостиной. Кока пристроился рядом на полу и тихо читал ей из естественной истории. Петя сидел на стуле в позе кучера, опустив руки между колен, и глядел внутрь себя. Возможно, сочинял стихи.
Леша и Софи говорили в библиотеке, на втором этаже. Леша воспринял странное исчезновение сестры неожиданно серьезно.
– Софи, я знаю, как ты ко всему этому относишься, но я уверен: это может быть по-настоящему опасно. И для тела, и для души. Мне страшно за Иру, и мы обязательно должны попытаться ее отыскать.
– О чем ты?
– О том, чем Ирен увлекалась последнее время.
– Что ты про это знаешь? Я лично – ничего совсем. Она с тобой делилась?
– Да, пыталась. Но я… я, может быть, был излишне категоричен. Не выслушал ее внимательно…
– Ты? Излишне категоричен? – Софи удивленно подняла бровь. – Как-то трудно себе представить…
– Она пыталась убедить меня в том, что традиционная религиозность, Христианская Церковь в ее нынешнем виде – все это уже вчерашний день, и на исходе 19 века, в век научного и прочего прогресса ко всему этому надо подходить иначе…
– Как же? – с любопытством спросила Софи. – Как же нужно подходить к религии в век научно-технического прогресса?
– Соня, я давно знаю о твоем атеизме и…
– Но мне действительно интересно, – примирительно сказала Софи. – Впрочем, это действительно подождет. Что же вы с Ирен?
– Я довольно резко объяснил ей, что весь этот оккультизм – суть бесовские происки, в которых на исходе 19 века нет решительно ничего нового в сравнении, допустим, с 5 или с 15 веком. Сам дьявол всегда хочет одного и того же, и потому предлагает каждому времени именно то, чего оно более всего алкает…
– Н-да… И чего же более всего алкает наше с тобой время? По мнению дьявола, я имею в виду?
– Разумеется, прямой социальной справедливости в первую очередь. И еще, пожалуй, хоть какой-то, пусть даже и иллюзорной, соотнесенности между поистине величественными возможностями человеческого разума, воплощенными в научных и технических открытиях, и нищетой тела и духа огромных народных масс… Два этих повода вполне дают возможность нестойким в вере людям усомниться в благости Божественного промысла. Именно об этом и говорила мне Ирен, ссылаясь на свой оккультный кружок…
– Ого! – присвистнула Софи. – Однако, мои братик с сестричкой об интересных вещах беседуют…
– Тебе, как старшей, всегда будет казаться, что мы еще не выросли из коротких штанишек и платьиц, – улыбнулся Алексей. – Ты понимаешь теперь, почему я тревожусь за Ирен?
– Понимаю. Ты полагаешь, что она могла запутаться не только, к примеру, в своих отношениях с мужчиной, но и в тенетах дьявола, что, разумеется, гораздо серьезней.
– Именно так, – Софи произнесла свою ироническую по сути сентенцию без тени насмешки, и глубоко верующий Леша не обиделся на нее. Он давно привык к странной манере, в которой сестра, позиционировавшая себя как атеистку, высказывалась о религиозных вопросах.
Софи, между тем, пришел в голову неожиданный вопрос.
– Скажи, Леша, ты ведь должен это знать: Ирен верит в Бога?
– Думаю, да, – вымолвил Алексей. – Во всяком случае, она ищет Его. В ней нет и следа твоего равнодушия. Ты и Гриша, вы оба – все по эту сторону…
При упоминании имени брата светлое лицо Леши с тонкими, акварельными чертами выразило любовь и боль одновременно.
– Тебе… – Софи с внезапной лаской положила ладонь на узкое плечо младшего брата. – Тебе это… очень тяжело?
– Нет, Соня, – мягко ответил Леша. – Раньше, в детстве, я очень переживал, что вы не верите, не скрою. Теперь же, когда я понял суть жертвы Христа, – мне почти легко это принять.
– Как это? Я не понимаю…
– Я попробую объяснить. Ты ведь читала Евангелие?
– Конечно. И даже неплохо знаю.
– Я долго думал: что значит жертва Христа? Почему смерть одного человека может перевесить весь грех человеческий? Другие страдали больше Его, умирали такой же, позорной и мученической смертью, гибли за свои убеждения. Почему же Христос – Спаситель? И как же может умереть тот, кто сам – Бог? Как может умереть человеческая плоть, которая вся пронизана Божеством? Нет ли тут какого-то подвоха? Может быть, ты помнишь из детства, мы поем на Страстной: «О жизнь вечная, как ты умираешь? О свет невечерний, как ты потухаешь?»… Как же Он умирает?
Однажды весенней ночью я лежал без сна и видел в окно клочок неба с веткой дерева, двумя мерцающими звездами, и еще – две сосульки, которые свисали в верхнем углу окна с какой-то железной закорюки. Где-то светила луна или горел фонарь, и сосульки все были пронизаны синим глубоким светом. Они светились и переливались, как две перевернутые, хрустальные свечи, и жили какой-то своей, особой жизнью. Была оттепель, и за ночь температура, по-видимому, несколько раз переходила через нулевую отметку. Сосульки росли или уменьшались на моих глазах. Иногда правая догоняла левую, а потом опять отставала. Менялись и оттенки их света. Я почти полюбил их обеих, увидел в них сущности. Стыдно сказать, но я всей душой болел за правую, ту, которая была поменьше и потолще… Под утро, когда небо уже стало светлеть, я заснул. Проснулся в районе десяти часов, солнце пальцами шарило по лоскутному одеялу. Я открыл глаза и сразу же вспомнил о сосульках. Бросил взгляд туда… в углу окна изгибалась совершенно пустая и даже уже высохшая закорюка… Утреннее солнце растопило их, они скапали вниз… И в этот миг я понял!!
– Что?! – вздрогнула Софи, художественно захваченная образом двух живых сосулек, горящих в ночи загадочным голубым огнем.
– Я вспомнил последние слова Христа и понял: на кресте Он взял на себя вовсе не физические страдания или унижения. Он взял на себя единственный, конечный ужас человеческого существования и бытия, потерю вечности, ограниченность временем и пространством, потерю Бога, обезбоженность… Эта смерть охватывает всех: нет безбожника на земле, который так пережил бы обезбоженность, как Сын Божий, ставший сыном человеческим. Бог без Бога… Даже вообразить невозможно без дрожи. Никто, таким образом, не оказывается вне тайны спасающего Христа, даже атеисты, вроде вас с Гришей. Получается, что не грехи и грязь мира, а именно ваше стояние над бездной Он искупил в первую очередь. Умер за вас… Ты понимаешь?
– Может быть… – задумчиво накручивая на палец прядь волос, сказала Софи. – Это очень тонко, и я, право, не знаю, одобрило ли бы этот ход классическое богословие. Ведь, логически продолжая твое рассуждение, получается, что мы как будто бы и имеем от Бога право не верить. Что-то вроде оплаченного векселя… Но сосульки понравились мне больше, – честно добавила она. – И… знаешь, что я сейчас подумала? – Софи вдруг лукаво усмехнулась и подняла палец. – Твоя железная закорюка в углу окна сразу показалась мне смутно знакомой, да еще ветка и две звезды… Братец, все это – вид из окна моего учительского домика, где я десять лет назад учила калищинских ребятишек грамоте! Признавайся, братец, что это ты там делал, лежа на кровати бессонной ночью?!
Леша мучнисто побелел, потом сквозь муку проступили красные пятна.
– Господи! Ну как я мог… – пробормотал он. – Я просто позабыл, какая ты наблюдательная и чуткая к слову… Соня! Забудь!
– Уже забыла, – покладисто кивнула Софи. – Но сначала объясни. Агаша?
В едва заметном движении Лешиного подбородка с трудом можно было угадать согласный жест.
– Замечательно! – воскликнула Софи и широко улыбнулась.
– Правда? – Леша поспешно поднял голову, стремясь уловить на лице сестры выражение, с которым было сказано это слово. – Ты вправду так считаешь?
– Конечно, – энергично кивнула Софи. – Агаша всегда виделась мне чрезвычайно милой, умной и набожной девушкой. Для тебя же это сочетание качеств должно быть поистине обворожительным…
– Так и есть! Так и есть! – радостно воскликнул Леша. – У нас с ней так много общего. Мы можем говорить обо всем решительно, и понимать друг друга даже когда молчим. Она, ты помнишь, едва ль не с детства стремилась к послушничеству, но, как и у меня, семья воспрепятствовала. Из нее, впрочем, прекрасная учительница вышла, она так много читает, хочет понять… У меня времени совсем нет, но когда выпадает, я к ней езжу и… И мы вместе читаем святоотеческие писания, а потом обсуждаем…
– Гм-м… Святоотеческие писания, говоришь? – Софи откашлялась. – Гм-м… Чего-то я, видать, не понимаю в современной молодежи…
Приободрившийся было Леша опять покраснел и опустил взгляд. Софи чувствительно ткнула его кулаком в бок.
– Да брось ты кукситься! Вспомни все, что знаешь про свою старшую сестру и… Я уверена, что ты никогда не обидишь Агашу…
– Обидеть Агашу?! Да я скорее себе… – начал было Леша, но, как верующий человек, счел нужным оборвать себя на полуслове. То, что он собирался сказать, откровенно отдавало язычеством. Софи предпочла бы, чтобы он высказался до конца. Дикарские и античные способы доказательства верности и чести умиляли ее со времен Туманова и в память о нем.
– То есть, Соня, если я тебя правильно понял… – помолчав и подобрав форму высказывания, Алексей решился продолжить. – Ты не против, что я с Агашей… Несмотря на то, что она старше и из крестьян…
– Конечно, нет! – удивилась Софи. – Что с того, если вы друг друга любите и понимаете. Она чудесная девушка…
– Прости… Просто я до сих пор помню, как ты рвала и метала, когда Гриша с Грушей…
– Груша – это совершенно другое дело! – жестко отчеканила Софи. – Ты всего не знаешь и слава Богу. Даже и не думай сравнивать!
– Да я и не сравниваю… – пробормотал Леша.
– Вот и славно… – криво усмехнулась Софи и пробормотала себе под нос. – Что ж… Даже если Ирен и не нашла себе фабричного рабочего, маман, похоже, все-таки ждут очередные сословные потрясения…
– Что ты сказала, Соня?
– Ничего важного, Леша. Сейчас нам, пожалуй, ехать пора, Милочка уже просто никакая. Ты нас до плотины проводишь? В дороге еще поговорим, с Петей про Ирен обсудим. Или – слишком устал?
– Конечно, провожу, Соня, о чем разговор…
Когда отъезжали, не хотели прежде времени тревожить спящую Милочку. Коке о том не сказали, и он, высокий и тонкий, вышел на крыльцо к собравшимся взрослым, неся спящую девочку на руках.
– Кока! Зачем?! Надорвешься! – удивленно крикнула Софи.
Петя быстро подошел к мальчику, бережно принял на руки укутанную в плед дочь. Взглянул с мягким укором.
– Я не знал… – сконфуженно пробормотал Кока.
Софи положила руку на худое, вздрагивающее плечо.
– Ничего, Кока. Конечно, тебе не стоило ее тащить. Она же тяжелая для тебя…
– Ничего подобного, – возразил Кока. – Милочка легкая и… Тетя, вы ведь найдете Ирен, правда?
– Конечно, найдем, – чуть поколебавшись, подтвердила Софи. – Ты волнуешься за нее, да?
Кока всегда был молчаливым и, если речь не заходила о его коллекциях, ни с кем не сходился накоротке. Софи трудно было даже предположить, что именно происходит в его удлиненной, коротко остриженной, светловолосой голове.
– Да, я волнуюсь, – подтвердил Кока. – Я… вы думаете, отчего я насекомых собираю? Я помню… я еще совсем маленький был, а Ирен осенью собрала гусениц и из них зимой вывелись бабочки. Я вошел в комнату, а они – летают везде. Ирен стояла посередине, раскинув руки, и они садились ей на голову, на плечи, на ладони… Я подумал: «нет ничего прекраснее!» Вот именно этими словами, я помню. Может быть, я их еще и сказать не мог, они просто были у меня в голове… Я тогда пытался поймать бабочек, но был неловок, и мял их, и ломал им крылья… Ирен сердилась, а я плакал… А потом я решил, что когда-нибудь научусь сохранять, удерживать их мимолетную красоту. И в любой момент смогу ею любоваться. И показывать другим. Мне было совсем мало лет, но я всегда помнил Ирен и ее бабочек…
– Бедный Кока! – сказала Софи Пете, поудобнее умащиваясь в крытых санях, и подтыкая под спящую Милочку меховое одеяло.
– Отчего же бедный? – удивился Петр Николаевич. – Мне он видится разумным и доброжелательным мальчиком. Может быть, излишне застенчивым, но, право, это кажется мне куда более привлекательным, чем наглость и дерзость иных его ровесников. Вероятно, в будущем он займется естественными науками…
– Да я не о том! – с досадой сказала Софи. – Понимаешь, он думает, что красоту можно удержать, убивая ее и насаживая ее на булавку… И никто не объяснил ему… Бедный Кока!
Петя, не услышав в словах жены вопроса, молча пожал плечами.
Вернувшаяся откуда-то Наталья Андреевна, румяная и возбужденная, в дорожном наряде подошла к уже снаряженным саням и ткнула пальцем в Софи.
– Соня! Ты ведь знала Ксению Мещерскую? По тем делам, с сапфиром, и прочим…
– Да, – удивленно подтвердила Софи. – А что с ней?
– Ее убили, – сказала Наталья Андреевна с непонятным торжеством, как будто именно в этом убийстве реализовались наконец какие-то ее чаяния. – И еще: она тоже занималась всеми этими делами, ну… я имею в виду мистику и прочее… Как и наша бедная Ирен… – здесь Наталья Андреевна всхлипнула и зашарила в кармане. – Где…Где моя нюхательная соль?!
– Ксеничку… убили? – растеряно пробормотала Софи, когда Гостицы уже скрылись за поворотом дороги. – Но почему? Кому она могла помешать?…
Большая, но запущенная квартира покойной Ксении Мещерской располагалась в большом сером доме на Казанской улице. Софи, которая, когда хотела, без труда могла расположить к себе кого угодно из простецов, назвала свое имя, представилась подругой Ксении и легко уговорила рыхлую бабу-служанку впустить ее. Серебряный рубль еще помог делу.
Немолодая служанка Акулина напомнила Софи упрощенный вариант самой Ксенички – большая, обвисшая грудь, низкая талия, круглое мучнистое лицо с маской доброжелательного равнодушия. Впрочем, у Ксении Мещерской всегда был такой вид, словно она непрерывно прислушивается к чему-то важному, но неслышимому для других. У Акулины этой особенности в облике, естественно, не присутствовало.
– Ты, знаешь, сама на барыню Мещерскую похожа, – доверительно сказала Софи. – Просто одно сложение, да и на лицо. Хотя ты, конечно, помоложе будешь…
Акулина зарделась, довольно сопнула носом.
– Многие то же говорили, как и вы, многие… Да вы барыню-то давно ли знали?
– Давно! – честно ответила Софи. – Еще лет десять назад, до того как я замуж вышла, мы с Ксеничкой подругами были – не разлей вода. Потом-то я в деревню, к мужу уехала…
– А, вот оно что! – вздохнула Акулина и последние остатки подозрительности исчезли с ее плосковатой, заспанной, несмотря на полуденный час, физиономии. – Десять лет… А я-то восьмой год, как в дом взята… А теперь уж и не знаю, что будет, куда пойду…
– Акулина, – задушевно сказала Софи, посчитав, что отношения уже установлены на достаточном для задушевности уровне. – Давай-ка мы с тобой чаю выпьем, и ты мне все-все расскажешь… Веришь ли, я, как узнала случайно про Ксеничкину смерть, так с тех пор и места себе не нахожу. Сны снятся… Вот, специально сюда приехала, даже мужу не сказалась…
– Ох! Понимаю! Мне ль не понять?! – Акулина сочувственно погладила круглую щеку ладонью. – А что ж снится-то вам, барыня Софья Павловна?
– Представь, – Софи понизила голос и округлила глаза. – Будто является мне Ксения… вся такая в белом… а на шее – ожерелье из больших камней, рубинов… и говорит…
– Ох, ужас-то! – Акулина поспешно перекрестилась. – Ожерелье из рубинов… а ее, сердечную, как раз-то и задушили…
– И говорит… тихим таким голосом, словно ветерок подул… – вдохновенно продолжала врать Софи, небезосновательно полагая, что обладая сходной внешностью, хозяйка и госпожа должны были иметь нечто общее и в душевном устройстве. Ксеничка же с юности обожала все таинственное. – «Софи! Голубушка! Отыщи, сделай милость, моего погубителя! Пусть будет ему страшная кара и не будет ему покоя ни днем, ни ночью, ни в лесу, ни в городе, ни в море, ни на суше, ни…» – Софи на мгновение исчерпалась, но Акулина тут же пришла ей на помощь.
– В общем – нигде в Божьем мире! – воскликнула она.
Софи благодарно кивнула головой.
– Ну и кто ж он? – нетерпеливо спросила служанка. – Тот, которого покарать-то надо? Сказала она?
– Нет! – Софи сокрушенно вздохнула. – В том-то и дело, что не успела. Дочка меня разбудила…
– Ай, беда! Что ж делать-то теперь? Ждать, пока снова во сне явится?
– Искать надо! – твердо сказала Софи.
Еще накрутив чувствительную Акулину, и едва ль не сама испугавшись, Софи отправилась осматривать квартиру. В спальных покоях Ксении вдруг самым мистическим образом заворчало, а потом и зашевелилось богатое одеяло на кровати покойной хозяйки. Софи округлила глаза и зажала рот ладонью, чтобы не закричать.
– А, так это эти… – махнула рукой вовсе не испугавшаяся Акулина. – Мерька, Коська – а ну, подите сюда, сахару дам!
Из-под одеяла, все еще тихонько ворча и огрызаясь, вылезли две крупные, согнутые крючком левретки. Дрожа и переминаясь на тонких лапах, они вытянули длинные морды в сторону Софи и напряженно принюхивались.
– Как, ты говоришь, их зовут? – переспросила Софи.
– А, енти… Констанция и Эсмеральда, – ответила Акулина. – Барыня так звала. Я зову Кося и Меря. Ничего, как жрать захотят, так идут. Но все тоскуют… Тоже твари Божии, без любви чахнут… да и кавалера ихнего убили…
– Убили?
– Точно так. В ту же ночь, когда и барыню мою горемычную. Придушили. Роланд его звали… Барыня говорила: лыцарь…
– Роланд… – повторила Софи. – Можно предположить, что он погиб истинно рыцарской смертью, до последнего защищая свою хозяйку…
– Точно, а я и не подумала! – умилилась Акулина. – Да только что ж он мог, убогий такой… – она со здоровым крестьянским осуждением взглянула на жалких собачонок. – Выдумают же такое… Эти-то под кровать забились и после два дня не вылезали…
– А что ж с ними теперь будет-то?
– Не знаю, – Акулина вздохнула. – У барыни родных не осталось, чтоб взяли их. А они уж старые, видите, все морды седые. Кому надо? На живодерню, должно, отдадут… Да я, по правде говоря, не знаю, что со мной-то будет…
Одна из левреток, вроде бы Констанция, осторожно, по кровати, подошла к Софи, понюхала, а потом и лизнула ее опущенную руку. Софи опустила взгляд и встретилась с лиловыми глазами собачонки. В глазах умирала печальная, никому не нужная жизнь. Отчего-то Софи показалось, что старая левретка, всю жизнь проведшая среди людей, поняла слова, только что сказанные Акулиной, и уже почти смирилась с ними.
– Да за что же на живодерню-то?! – строптиво воскликнула Софи. – Я их к себе, в усадьбу возьму. Пусть доживают в деревне…
– Правда? – явно радуясь избавлению от ненужной обузы, но не без подозрительности спросила Акулина. – Да только на что же вам? – ее крестьянский ум никак не мог примириться с бескорыстным приобретением такой никчемной вещи, как две старых левретки.
– В память Ксенички, – торопливо, но вполне правдоподобно соврала Софи. – Я знаю, ей было бы приятно, что я их присмотрю… Констанция, Эсмеральда, собирайтесь, едем!
Следующим вечером Софи появилась в Люблино, таща под мышками двух унылых, одетых в атласные попонки ливреток, покорно свисающих, как два игрушечных коромысла.
– Господи, это еще что? – спросила Мария Симеоновна, которая вместе с Павлушей просматривала на веранде свежие газеты. – Где ты взяла этих уродцев?
– Вы не поверите, но у меня скончалась еще одна подруга, – радостно сообщила Софи. – Она оставила мне левреток. Но! Никаких публичных домов!
Мария Симеоновна выразительно покрутила пальцем у виска и демонстративно отвернулась от невестки.
– Какие холосые собачки! – умильно прошепелявил Джонни, который вместе с Милочкой выбежал встречать Софи. Следом за детьми вышла нянька Джонни, пожилая степенная крестьянка. Почти не наклоняясь, мальчик поцеловал Эсмеральду в мокрый кожаный нос. Нянька поморщилась и тут же вытерла губы Джонни большим красным платком.
– Тебе они нравятся, Джонни? – обрадовалась Софи. – Вот и отлично! Я тебе их дарю!.. Марфа, вы поможете ему их устроить? И проследите, чтобы Кришна их сразу не покалечил. Потом, я думаю, он привыкнет…
Софи поставила собачонок на пол. Они мелко дрожали, испуганно оглядывались и не двигались с места. Марфа, подобрав юбки, осторожно нагнулась, и одобрительно прищелкнув языком, осмотрела богатые попонки.
– Мой Вовка тоже всякую тварь любил, – наконец, сказала она, тем самым, по-видимому, признавая право левреток на существование.
– Вот эта будет моя! – сказала Милочка Джонни, указывая на Констанцию. – А вот эта – твоя. Договорились?
Джонни кивнул, ничего не поняв. Идея частной собственности была ему совершенно чужда. Мысль же, что в чьей-то собственности может находиться живое существо, вообще никогда не смогла бы уместиться у него в голове. Если бы кто-то сумел ему втолковать, что Кришну в усадьбе считают именно его, Джонни, котом, он бы долго смеялся, а потом сообщил, что с таким же успехом можно самого Джонни считать человеком Кришны.
В которой Софи посещает художественный салон, а остячка Варвара собирается ехать в Северо-Американские штаты к индейцам
– Что вам угодно? – незнакомая Софи, молоденькая, премиленькая в кудельках девушка расцвела белозубой улыбкой. – Вот, ширмочки новые, не желаете взглянуть?
– Желаю взглянуть на Варвару Алексеевну лично, и как можно скорее, – ровно сказала Софи, оглядывая помещение салона и цепким взглядом отмечая произошедшие изменения.
Судя по всему, дела в салоне Варвары Остяковой шли вовсе даже неплохо. Расположенный почти в самом устье Псковской улицы (от подъезда едва ли не целиком видна была Воскресенская площадь), уже само́й огромной разноцветной вывеской он привлекал внимание прохожих и проезжих петербуржцев.
Оглядевшись кругом, даже Софи, вполне нынче равнодушная к любому виду украшательства, готова была признать непустоту громкого утверждения.
В наличие имелись и, благодаря выгодному, в объеме расположению, тут же открывались взгляду взыскательного покупателя (все перегородки в салоне были снесены, составив огромный, высокий и светлый торговый зал): ширмы с диковинными птицами и цветами; расписные стульчики, колыбельки и даже ночные вазы; разнообразные фигурки, выполненные из дерева, бронзы и стекла; абажуры из ткани и гофрированной бумаги, фантастически закрученные этажерки и покрытые лаком поделки из корней и сучьев; тканые и вязаные ковры и дорожки самых различных, явно этнографических расцветок и узоров; музыкальные инструменты разных народов; луки, арбалеты, кинжалы и иное холодное оружие престранного вида, про которое не сразу можно было и разобрать, для чего оно предназначено и как именно наносит вред человеческой плоти; нашейные, налобные украшения, кольца и браслеты, выполненные из дерева, камня, кожи и металла, все – удивительных, непривычных форм, каких не встретишь в ювелирных лавках, и вместе с тем не лишенные какой-то диковатой гармонии и соразмерности.
Хозяйка салона, внезапно появившаяся из почти незаметной и невысокой двери, выглядела весьма экзотично, под стать своему выставленному на продажу товару. Чрезвычайно, на взгляд европейца, широкие скулы, большие, чувствительные, трепещущие ноздри (казалось, что женщина непрерывно к чему-то принюхивается), косо прорезанные, длинные глаза. Невысокий рост превращал крепкое от природы сложение Варвары в подобие полнотелости, но на самом деле мягкой и услужливой полноты русских матрон в ней не было совершенно: все ее одетое на широкую кость тело было жилистым, сильным и жестким на ощупь.
– Софи, я рада тебя видеть! – приветствовала гостью хозяйка. – Пойдем ко мне. Или ты хочешь сейчас что-нибудь выбрать?
– Нет, – отмахнулась было Софи, но тут же поправилась. – Тут у тебя много красивых вещей, Варвара. Я потом обязательно что-нибудь приобрету…
– Та-та-та! – с неложным негодованием воскликнула Варвара. – Опять! Сколько можно говорить: ты можешь взять все, что тебе понравится!
– Ну, Варя, ты же должна понять, – увещевающе сказала Софи. – При такой постановке вопроса я просто не смогу взять то, что мне действительно понравится. У меня же есть вкус, и, разумеется, я могу положить глаз только на действительно ценную, а, следовательно, дорогую вещь. И я, заметь, вполне могу заплатить за нее. Ты же вынуждаешь меня из вежливости ограничится какой-то дешевкой…
– Гм-м… – рассуждения Софи явно оказались в новинку для Варвары и, похоже, даже слегка смутили ее. – Как вы, русские, любите путать словами! – с досадой проворчала она. – Сердце всегда ходит прямо. Мое предложение тебе – от сердца. Что же еще?… Ну ладно! Я решу так: ты возьмешь что-то в подарок для детей или сестер, а себе купишь за деньги. Согласна?
– Согласна, – улыбнулась Софи. – Но это после. Сейчас я хочу с тобой поговорить.
– Хорошо, пойдем, – кивнула Варвара. – Подать чаю?
– Лучше той соленой рыбки, которую тебе вместе с поделками с Урала привозят… Есть у тебя?
– Есть, конечно, – усмехнулась Варвара. – Но к ней водки надо. Ты водку пьешь?
– Нет, ты же знаешь, не пью. А рыбку все равно ем…
Женщины улыбнулись друг другу и по очереди зашли в маленькую дверь, которая вела на узкую, крутую лестницу.
В противоположность помещению салона две комнаты, занимаемые самой Варварой, были совсем небольшими, и почти полностью застелены шкурами и коврами, которые лежали на полу, на низкой лежанке и таких же низких креслах, висели на стенах… Темный потолок был расписан звездами. Оконные стекла украшали белые, огромные, тончайшей прорисовки снежинки и улыбающийся месяц.
– У тебя в покоях, как внутри волшебной шкатулки! – искренне восхитилась Софи.
По темному лицу Варвары нельзя было читать без многолетней сноровки, но имеющая ее Софи видела, что комплимент принят хозяйкой с радостью и удовольствием.
Прозрачные ломтики вяленой рыбы, толстые ломти ситного хлеба, маринованную редьку и мелко порезанный зеленый лук Варвара сама разложила на тарелках. Поставила на расписной столик хрустальный графинчик и розоватого стекла, с аляповатыми лилиями побоку, кувшин. Налила себе водки в серебряную стопочку, Софи – брусничной воды в стакан. Не торопясь, набила табаком свою любимую трубку с длинным загнутым мундштуком. Оглядела выставленный на низкий столик натюрморт. Подумав, поставила чуть в стороне от центра композиции низкую красную вазочку с одним бесцветным, сухим, колючим даже на вид цветком на длинном стебле. Посмотрела еще, чуть причмокивая губами и вроде бы споря сама с собой.
Софи, вопреки всем своим обычаям, даже не пыталась поторопить остячку. Знала, что бесполезно. Как и сама Софи, Варвара двигалась по жизни своим личным способом и темпом, и сбить ее с этого установленного не то волей, не то судьбой, не то какими-то внутренними физическими механизмами панталыку просто не представлялось возможным. Тем более, что, несмотря на кажущуюся неторопливость и даже вязкость каждого отдельного движения, все действия целиком выходили у Варвары весьма спорыми.
– Ну вот, – Варвара наконец уселась, подобрав под себя ноги. – Давай за встречу.
– Давай! – Софи отсалютовала подруге стаканом с брусничной водой, подцепила вилкой ломтик рыбы, отправила в рот, а потом пальцами отправила туда же щепоть крупно натертой редьки.
– Лучком, лучком сверху, – невозмутимо посоветовала Варвара, закусывая водку поджаристой корочкой.
Софи послушно посыпала прямо в рот лучок. С наслаждением прожевала, пробормотала с набитым ртом:
– Вкусно у тебя, черт побери!
– Ценю! – серьезно откликнулась Варвара. – Знаю, что ты вообще-то к еде…
– Ага, – кивнула Софи, завернула еще одну щепоть редьки в ломтик рыбы и все это водрузила на треугольный кусок хлеба. – Вообще-то я – да!
Варвара знала, о чем говорила. Для урожденной аристократки Софи была просто преступно равнодушна к изыскам кулинарии и искусству поглощения пищи в целом. Вспоминала она о еде лишь тогда, когда в желудке просто не оставалось ничего для переваривания. Получив сигнал и осознав его, садилась за стол и с равным энтузиазмом ела что попадется: от куска черного хлеба до омаров по-флорентийски.
Но у тебя здесь все как-то так гармонично и художественно скроено, – попыталась Софи объяснить измену своим привычным взглядам. – Что поневоле и глаз и слух, и прочие чувства останавливаются на всех деталях и учатся им радоваться. Это все натура твоя…
– Да ты не оправдывайся, а ешь, – резонно посоветовала Варвара. – Что за странность у вас? – Если что-то вдруг в удовольствие случилось, так обязательно после оправдаться надо: я, мол, тут не виноват, это все случайно вышло, из стечения обстоятельств…
– Это и вправду странно… – задумчиво сказала Софи. – Саджун то же самое говорила: лучшие из европейцев живут, как будто все время оправдываясь за свое существование. А вам, азиатам, значит, это очень заметно?
– Еще бы! – усмехнулась Варвара. – Ты хоть обыкновенные, здешние причины ищешь: художественное устроение вокруг, мои вкусы подавляют твои и прочее. А я еще в Сибири, а потом и здесь другое слыхала: слова-ветер, не увидать, не пощупать, только деревья шумят.
– Слова-ветер? – переспросила Софи. – Это что же такое будет?
– «Иметь право», «не иметь право», «благо народа», «всеобщие страдания», «миссия образованных людей», «мой крест»… – медленно перечисляла Варвара. – Еще надо, или ты уж поняла?
– Поняла, – кивнула Софи. – И даже, наверное, объяснить могу. Только не буду сейчас, ладно?
– Объясни! – потребовала Варвара, откинулась назад и запалила свою трубку.
– Ты паровую машину видела? – остячка кивнула. – На приисках, да? Так вот. Это недовольство, оно вроде пара, который всем движет. Те, кто из нас поплоше и попроще, те другими недовольны – они им, де, жить мешают. А кто чуть вырос – собой.
– Ничего себе, жизнь-малина! – искренне удивившись, воскликнула Варвара. – А что ж, по иному у вас и нельзя?
– Не знаю. Михаил говорил, что в Северо-Американских штатах, хотя и европейцы, но много людей – другие. Если по нашему разговору, то так: у них нет потребности в своих удовольствиях оправдываться… Может быть, это как раз оттого, что там еще и негры, и индейцы…
– Интересно, – кивнула Варвара. – Может быть, мне теперь в Америку съездить, поглядеть там на все? Как ты полагаешь?
– Не знаю. Туда дорого очень…
– Деньги у меня есть, – перебила Варвара. – То меня не остановит. Ты же знаешь: я на интерес живу, больше незачем…
– Послушай, Варя, но ты же… ты же женщина, все-таки… – осторожно сказала Софи. – А вот семья, дети?…
– Не интересно! – Варвара махнула рукой. – Слушай, а ты видала когда-нибудь, как эти… индейцы и негры рисуют, режут по дереву, ну….что они там еще делают?
– Да нет, откуда ж мне? – удивилась Софи. – Из книжек я знаю, что они ткут или там вяжут всякие узоры, и у них это вроде письменности…
– Ух, как интересно! – узкие глаза Варвары вспыхнули нешуточным любопытством. Мерное попыхивание трубочки ощутимо ускорилось.
Софи вскинула ладони перед лицом в увещевающем жесте.
– Варя! Варя! Погоди! Не уезжай теперь в Америку! У меня к тебе разговор и просьба есть.
– Ну давай, – попыхивание снова замедлилось, вернулось к исходному ритму. – Я тебя слушаю. Чем смогу, помогу. Остячка Варвара долги помнит.
– Да не об этом же речь! – с досадой отмахнулась Софи, видя, однако, что Варвара говорит вполне серьезно.
Когда-то, лет семь тому назад, после побега из Егорьевска, Варвара появилась в Петербурге в мужской, на столичный взгляд, одежде, с переплетенными кожаными шнурками косами и с сундучком за плечами, до смешного похожая на ту самую индианку из прерий, художественными промыслами которых она так заинтересовалась нынче.
Адресом Софи ее снабдила еще в Егорьевске Вера Михайлова. Недолго раздумывая, Софи поселила экзотическую гостью в своей петербургской квартире, несмотря на то, что с Петром Николаевичем они как-то сразу не пришлись друг другу по душе.
«Соня, у нее душа такая же, как лицо. На деревянную миску похожа, – отзывался о гостье-самоедке обычно лояльный ко всему и ко всем Петя. – Я ее просто боюсь иногда, если честно. Она же никого не любит и любить не может…»
«Я сперва думала: как ты за ним замужем, зачем тебе? – сформулировала Варвара через две недели знакомства с Петром Николаевичем. – Теперь поняла. Твой муж на белую промокашку похож, что в тетрадях кладут. Ты жизнь пишешь скоро, с нажимом, взахлеб, как бы не сбиться, так вот, его завела, чтоб промокну́ть и не размазывалось…»
Софи вовсе не понравилась варварина идея о том, что она «завела» себе мужа вместо промокашки, но и дельно возразить остячке как-то не получилось.
Впрочем, после этого разговора Варвара не долго отягощала супругов Безбородко своим присутствием в их квартире. Почти с самого прибытия остячка сообщила, что никому в тягость не станет, и продемонстрировала изумленной Софи содержимое своего сундучка: золото, самоцветы, ювелирные изделия, монеты и прочие безусловные ценности составляли едва ли не треть его объема. Подробно объяснять происхождение всех этих сокровищ Варвара не стала, а Софи – не спросила. Пете она предусмотрительно ничего не сказала. Бог весть что он подумал бы… И как бы не оказался от истины недалек…
– Я могла бы жить, тратить, но то неинтересно, – объяснила Варвара. – Хочу свое дело иметь.
– А что ж ты хочешь? – спросила Софи.
– Я сама рисовать могу, резать по дереву и по камню, – ответила Варвара. – Но правильней, как я пригляделась, не мастерскую, а мангазею открыть.
– Магазин? Может быть, лучше – салон? Художественный салон?
– Пускай, – согласилась Варвара.
«Мангазея», безусловно, нравилась ей больше, но она признавала опыт петербурженки Софи и готова была пока всему подчиняться.
Для начала дела сняли маленькую трехкомнатную квартирку на Мещанской улице, на первом этаже. В одной из комнат жила сама Варвара. В другой – две девушки из неплохих, но обедневших семей, которые, тем не менее, получили какое-то художественное образование. Могучий природный дар Варвары и мастеровитая покладистость девушек быстро принесли свои плоды. Даже Софи изготовленные ими ширмы и абажуры показались весьма милыми. Существенным преимуществом снятой квартиры было то, что два окна самой большой комнаты выходили прямо на улицу. В них сделали витрину. Два абажура вывешивали на улице на кронштейнах. Вывеска, изготовленная самой Варварой, просто не была похожа ни на что (по разноцветности можно было бы говорить о восточных мотивах, но их там не было, а ведущей деталью орнамента стала кедровая шишка). Софи предложила украсить вывеску разноцветными электрическими фонариками. Далее была задействована Элен Головнина. Темноликая молчаливая Варвара сама отвезла в ее особняк две лучших ширмы и два абажура в комплект к ним. Денег не взяла ни копейки.
– Господи, какая она дикая и прекрасная! – закатывая глаза, щебетала Элен. – Право, даже кажется опасной, я с Петром Николаевичем готова согласиться…
– Варвара опасна только для своих врагов, – объяснила Софи. – Мы, по счастью, в них не числимся. Твоя же, Элен, задача на текущий момент: собрать своих светских приятельниц из числа самых бездельниц и продемонстрировать им варварины поделки: вот, мол, знакомка Софи, дикарка из самого сибирского леса, специальный заказ, но если я попрошу, может быть, и для вас изготовит…
Элен исполнила все так, как ей велела Софи, вложив в исполнение душу и свое собственное желание помочь отважной самоедской девушке. Спустя полгода Варвара наняла еще двух художниц, а мастерская переехала в более просторное помещение. Вывеска и фонарики сохранились. Странные, диковато-соразмерные изделия Варвары Остяковой сделались модой сезона.
В дальнейшем ситуация развивалась исключительно трудами самой остячки. Через пять лет у нее уже имелись налаженные связи с Уралом и некоторыми зауральскими областями. Два десятка лесных стойбищ, десяток каменных дел мастеров, три самоедских резчика по кости и полтора десятка ткачих работали на ее салон. Каждый сезон, помимо основного ассортимента, предлагалось что-то новое. Дамы из света любили встречаться, гулять и проводить время в салоне. В специальном закутке под экзотическими растениями, среди фонариков и висящих на нитках жар-птиц, им предлагался чай и пирожные. Специально для обслуживания подобных сборищ Варвара держала девицу Валерию Львовну Коврову, дворянку с хорошими манерами, из старого, почтенного, но трагически обедневшего рода. Валерия Коврова не только обладала приятной внешностью и тонким художественным вкусом, и могла сообразно поддержать разговор на любую светскую тему, но и никогда не забывала о коммерческих интересах предприятия: редкая посетительница уходила после посиделок, не сделав, по рекомендации Валерии, одной-двух-трех покупок. Сама хозяйка продолжала свои художественные труды и изыскания, но крайне редко показывалась на глаза посетителям, что, в сочетании с ее действительно экзотической внешностью, способствовало формированию вокруг салона различных легенд, которые, разумеется, еще повышали его популярность. Теперь, спустя семь лет после появления темноликой остячки в Петербурге, не иметь в интерьере гостиной или спальной ни одного предмета из салона Варвары Остяковой считалось почти неприличным.
– Саджун умерла от пневмонии, – сообщила Софи и плотно сжала губы.
– Жаль. Но что ж с того? – Варвара никогда не изображала из вежливости потребных этикетом, но не испытываемых ею чувств. Софи вполне способна была уважать такую позицию. Варвара, как и она сама, была из породы деятелей, но не чувствователей.
– Она оставила мне по завещанию свой особняк, все имущество.
– Ага. Там у нее все восточное, как ты рассказывала. Да я и сама один раз видала, ты меня к ней водила, как я приехала, помнишь? Слишком карамельно, на мой вкус… Теперь, значит, ты, как новая владелица, хочешь, чтобы я с художественной точки зрения там все оценила? Что-то поправила в интерьере? Большой заказ?
Даже зная остячку, Софи, тем не менее, была все-таки изрядно обескуражена такой реакцией.
– Варвара, ты помнишь, что именно происходило в салоне Саджун?
– Конечно. Бордель в восточном вкусе. Я тогда, когда хозяйка меня спросила, и придираться не стала, оттого что под действие карамельность эта не излишняя, а в самый тот раз. Надо же все учитывать…
– Варвара, да отвлекись ты хоть на миг от интерьеров! – не удержалась Софи.
– А ты разве не о том меня пытаешь? – в свою очередь удивилась остячка.
– Вовсе не о том! Ты понимаешь, наверное, что я никак не могу вступить во владение домом свиданий, пусть и с восточным уклоном…
– Да, а почему? – спросила Варвара и тут же сама себе ответила. – Ну конечно, не можешь. Это не соответствует твоей «красной тетради», из тех, которую каждый из вас про себя пишет… И ладно бы сначала, как инженеры из Егорьевска, – усмехнулась остячка. – А то ведь рождаетесь, а у вас там уже половина листов исписана. И переписать нельзя. Приходится жить в соответствии.
– Поверь, я и сама вовсе не хочу этим заниматься, – возразила Софи. – Даже если учитывать твою изящную метафору.
– И что же?
– Вот я и подумала, может быть, ты, свободная от всяческих там предрассудков и исписанных кем-то тетрадей… – почти против воли Софи вложила в свою реплику изрядную толику язвительности.
– А! – улыбнулась Варвара. – Поняла! Ты хочешь спросить, не прикуплю ли я у тебя заведение Саджун со всеми его интерьерами и девочками в придачу?
– Я вообще-то хотела тебе его так отдать…
– Ага! Я, значит, буду мадам, а прибыль – пополам? – еще раз попробовала догадаться Варвара.
– Уф! – Софи вытерла ладонью вспотевший лоб и, потянувшись, взяла еще редьки. – Давай так: о частностях мы после договоримся, а пока – в общем: тебе интересно?
– Не-а, – безмятежно ответила Варвара, вытрясла прогоревшую трубочку и по новой набила ее табаком. – Я теперь в Америку хочу. Публичный дом мне без надобности. А скажи, они на меня правда похожи?
– Кто? – ошеломилась Софи. – Девушки из публичного дома?!
– Да нет! – досадливо возразила Варвара. – Индейцы!
– Индейцы? Гм-м… Ну, если по картинкам судить, что-то общее точно есть… Монголоидная же раса…
– Вот и отлично! – обрадовалась остячка. – Значит, как-нибудь договоримся!
– Варвара, послушай! – сказала Софи, неволей вспоминая статьи Ипполита Коронина о примитивном устройстве самоедской души, в которой никогда не задерживается больше одной мысли разом. – Ну почему бы тебе этим не развлечься на какое-то время? Переделаешь там все…
– Да не хочу! – улыбнулась остячка. – Ну что ты пристала ко мне, ей-Богу! Других нету, что ли? Продай!
– Мне не хочется, – призналась Софи. – Саджун в это по-своему душу вкладывала. Там по-особенному все. И девочек этих жаль. Саджун когда-то была храмовой танцовщицей, видела все это применительно к своим богам, и потому они у нее не обычные проститутки…
– Тем более, – подхватила Варвара. – Если не хочешь там все разорять, так вспомни: у тебя же еще от прежних времен, от шляпной мастерской, должны были сохраниться знакомства. Ты не рассказывала, но я ж твой роман прочла. Отыщи их. Кто-то точно на роль мадам сгодится, профессионалки все-таки. И одновременно будет под твою дуду плясать, как тебе и надо…
– Варя, о чем ты… А впрочем… – Софи задумалась и на губах ее словно сама собой родилась веселая усмешка. – Дашка! Как же я о ней сразу не подумала! Если только она не изменилась коренным образом, то… то вот кто наверняка согласится сменить свою булочную на шикарный дом свиданий!
– Ну вот, видишь, все и устроилось! – довольно засмеялась Варвара. – Пойдем, выберешь в салоне, что тебе для своих надо. И скажи, когда ты в Петербурге будешь, а мужа твоего чтоб не было…
– Зачем тебе? – с ноткой недовольства удивилась Софи.
– Я сама тебе поделки привезу. А ты мне дашь книжки. А мужу чтоб не расстраиваться, на меня глядючи. Кстати, как ему заведение Саджун?
– Лучше не спрашивай! Но… какие ж тебе книжки?
– Да про Америку же, и чтоб с картинками обязательно. Читать-то я теперь бегло могу, но без картинок – неинтересно…
– Господи, Варя! – вздохнула Софи. – Ладно, будут тебе книжки с картинками… У меня, кажется, Фенимор Купер здесь, в Петербурге. И еще чего-нибудь подберу…
– Вот и славно, вот и хорошо, – Варвара отложила трубку, поднялась, налила себе еще одну крохотную рюмочку и выпила стоя. – На посошок! И в память усопшей. Пусть ее боги будут к ней благосклонны. Не каждый им на чужбине-то служит. Я вот не могу похвастаться…
В которой Соня и Матвей, названные брат и сестра, встречают свое первое чувство, а Вера Михайлова, Иван Притыков и Василий Полушкин задумывают совместное предприятие
Высокий, уже по-мужски широкий в плечах юноша и девушка, много ниже его, стояли перед окном, причудливо разрисованным морозными узорами. Сквозь сказочный узорный лес мир за стеклом казался туманным и почти нереальным. Юноша и девушка стояли – врозь, не касаясь друг друга, и вместе с тем так напряженно-объединенно, что в сгустившемся вокруг них воздухе, казалось, вот-вот начнут проскакивать желто-голубые электрические искры.
Вытянув палец, девушка принялась протаивать на оконном льду темные кругляшки.
– Что это, Соня? – спросил юноша.
– Это – зимние яблоки, – пояснила она. – Их царице Зиме на стол подают. На расписном ледяном блюде. Видишь, они на дереве висят, морозом наливаются. А внизу – трава.
– Вижу, – кивнул юноша.
Ему всегда удавалось увидеть то, что рассказывала о дольнем мире его названная сестра. Они слишком хорошо понимали друга, чтобы он – не увидел. После он удивлялся: как это самому в голову не пришло, ведь так ясно?… Однако – не приходило.
– Матюша…
– Да, Соня?
– Ты скоро уедешь…
– Ну да… – Матвей опустил подбородок, густого медного оттенка волосы сзади приподнялись, обнажив тонкую мальчишескую шею с продольной ложбинкой. – Мы же все вместе так решили: мама Вера, ты, я… Я поеду в Екатеринбург, поступлю в инженерное училище. Я должен учиться. Отец этого хотел бы, и мама хочет…
– Мама Вера оставила бы тебя при себе и пристегнула булавкой к своей юбке, будь у нее хоть малейшая для того возможность, – резонно заметила Соня и тут же виновато-лукаво улыбнулась. – А на инженера поехала бы учиться Стеша. Хоть сейчас…
– Да, у нашей мелкой явный талант к механике. Жалко, что девчонкам нельзя инженерами стать! – засмеялся Матвей.
Соня оторвала от стекла замерзший, мокрый палец и медленно погладила им ложбинку на шее Матвея. Юноша вздрогнул и замер, напрягшись. В застывшем воздухе словно прозвенел колокольчик.
Девушка и весь мир ждали, но ничего не произошло.
– Матюша… Ты помнишь? – медленно спросила она.
– Всегда, – хрипло, словно перемогая боль, ответил Матвей.
– Но что это значит?
– Если бы я знал!!
– Но ты скажешь мне, когда узнаешь? Поймешь?…
– Конечно, Соня… Конечно, скажу…
Василия Полушкина можно было бы счесть красивым мужиком. Высокий, статный, хорошей формы рот, нос, серые, внимательные, чуть близорукие глаза, аккуратно выгнутые брови. Портили все темные, бурые веснушки, которые круглый год пятнали не только нос и скулы, но и все лицо, включая едва ли не губы и даже оттопыренные уши.
Впрочем, к внешности своей Василий Викентьевич относился вполне равнодушно, почитая из мужских достоинств куда более красоты физиономии – деловитость, годовой доход и успех в различных предприятиях. В этом он уж много лет оставался на высоте, сохранив и по мере сил преумножив доставшееся от батюшки-подрядчика наследство. Последние годы жизни, особливо после смерти своего давнего друга-конкурента Ивана Гордеева и бегства старшего сына Николаши, батюшка Василия от подрядных дел почти отошел, увлекся постом, молитвой, поездками по монастырям да старцам и прочими богоугодными делами. Младший сын, с детства мечтавший о занятиях наукой в столице империи, безропотно взвалил на себя семейное дело и, как выяснилось позже, будучи от природы и научных занятий вдумчив и скрупулезен, обнаружил к нему вполне достаточную сноровку.
Веру Михайлову он уважал давно, причем именно как делового человека, будучи едва ли не единственным в Егорьевске и Мариинском поселке мужчиной, который когда-то и по сей день остался вполне равнодушен к ее женским, змеиного разлива, чарам.
Временные деловые соглашения у них случались и раньше. Полноценных совместных предприятий не было доселе ни разу. Пока был жив престарелый сожитель Веры, некоронованный король приишимской тайги, остяк Алеша, никакой нужды в постоянных партнерах у Веры Михайловой не могло быть по определению. С его смертью все должно было измениться, хотя вечно невозмутимая Вера вела себя так, словно не изменилось ничего. Кроме того, что теперь на поселковом кладбище она обихаживала, давая пищу неутихающим много лет слухам (впрочем, Веру многие поселковые считали ведьмой, и все нелестные слухи о ней передавали шепотком, три раза оглянувшись и перекрестившись), три могилы: своего невенчанного мужа Матвея Александровича Печиноги (отца Матвея-младшего); разбойника и беглого каторжника Никанора (по тем же слухам – отца Стеши, младшей дочери Веры) и остяка Алеши, с которым она жила все последние годы его жизни.
Нынче затеянный фактической хозяйкой Мариинского поселка разговор обещал быть интересным. Василий, не признаваясь себе, ждал его с нетерпением. Доселе, согласно советам отца и матери, во всех делах он вел себя крайне осторожно, и авантюрно-исследовательская часть его натуры фактически много лет находилась под спудом. Может быть, именно сейчас настало время выпустить ее оттуда? Ведь, в противоположность его собственным, почти все предприятия остяка Алеши и Веры Михайловой были крайне рискованными, изменяли окружающую жизнь и приносили деньги и удачу…
Увидев в Верином кабинете Ивана Притыкова, который, сидя в кресле и закинув ногу за ногу, листал какой-то журнал, Василий заинтересовался еще больше.
Ванечка Притыков, внебрачный сын егорьевского отца-основателя Ивана Гордеева, покинул Егорьевск около восьми лет назад после какой-то темной истории, в которую была замешана его мать Настасья – бывшая любовница Ивана Парфеновича, и егорьевский урядник Загоруев.
Уехав на Алтай вместе со своей зазнобой, вдовой казачкой и двумя ее сыновьями, Ваня, по-видимому, вполне использовал унаследованную от отца деловую хватку. За недолгие годы он сумел как-то подняться на ноги в полудиких краях и организовал на Алтае свое дело, связанное сначала с добычей и переработкой графита, воска, дегтя, медвежьей желчи и других редких лекарственных средств. Говорили, что наладить сбыт и связи ему помогла сведущая в медицине Надя Коронина, которую он, в свою очередь, снабжал деньгами и припасами. Потом, когда ее муж, Ипполит Михайлович Петропавловский-Коронин, вышел из острога, и супруги поселились в Екатеринбурге, бывший ученый связал своего бывшего ученика с кем-то из своих знакомых в Петербурге и Москве. Иван сначала приобрел пароход, а потом, когда ввели в строй железную дорогу, продал его, совершив на нем с грузом графита, дегтя и медикаментов крайне удачный рейс из Обской губы через Европу в Санкт-Петербург. Теперь Иван, по слухам, взял в аренду несколько медно-цинковых месторождений и советовался с Корониным о планах организации какого-то химического производства. За это время казачка, с которой Иван венчался немедленно по прибытии на Алтай, родила ему еще не то трех, не то четырех сыновей.
– Иван Иваныч!
– Василий Викентьич!
Мужчины по-родственному обнялись, чувствительно и с удовольствием постучав широкими, натруженными ладонями по широким спинам. По обстоятельствам оба почти не знали друг друга на текущий момент, но оба же полагали, что, раз отцы дружились, так и сыновьям надо держать марку, пока дело не потребовало обратного.
– Как дела? Как сыновья? – улыбнулся Василий, по слухам зная наверняка, чем можно доставить удовольствие Ивану.
– Растут, как на подбор. Грибы-боровички.
– Сколько ж их всего? Прости, запамятовал…
– Шестеро! – не удержавшись перед старым знакомцем, Иван расплылся в совершенно мальчишеской, искренней и восторженной улыбке. – Двое Лушиных, и четверо наших. Да мы не различаем…
– Ого! Силен! – также искренне расхохотался Василий.
– Луша нынче опять тяжелая ходит…
– Еще?! – Полушкин с комическим ужасом прижал ладони к щекам.
– Девочку ждем… – потупился Иван. – Жена с коленей не встает, все Богоматерь о дочери молит…
– Ну, ее понять можно… – усмехнулся Василий. – Столько мужиков на нее одну! Пора бы и помощницу послать…
– Да мы нешто ж не помогаем! Я и девку ей нанял, и на кухню… Так ведь она привыкла все сама… – начал было всерьез оправдываться Иван, но Василий отрицающе помахал рукой, показывая, что шутил.
Помолчали теплым, окутывающим плечи и душу молчанием, в котором родится и живет меж людей человеческое добро и покой.
– А что ж Вера-то Артемьевна… – вернулся к насущному Полушкин.
– Да я и сам толком не понял, – признался Иван. – Только думаю, что в англичанах дело…
– Это про тех-то, что осенью были? Какая ж Вере Михайловой с них корысть? Нешто прииски продавать задумала? А мы тогда к чему?
– Чего гадать? – резонно заметил Притыков. – Сейчас хозяйка придет, да все сама и скажет. Хочешь вот выпить? Забористая штучка, на можжевельнике. Юкагиры считают, целебную силу имеет.
– Да самоедам все целебное, что горит, – с досадой отозвался Василий (несколько его попыток иметь дело с местными народностями провалились именно из-за повального самоедского пьянства.) – Совсем разум теряют. Что водка, что пуля – лишь бы с ног валила. Как Вера с Алешей с ними управлялись – понять не могу.
– На Алтае с этим проще, – признал Иван. – Там местный народ еще не слишком испорчен. Здесь к России ближе. Да теперь дорогу выстроили, и туда дойдет…
Высокая статная женщина в простой красной кофте и длинной черной юбке почти неслышно вошла в комнату. Мужчины, занятые своим разговором, тем не менее, сразу ощутили ее присутствие и обернулись навстречу. Вслед за женщиной, также неслышно, вошла огромная лохматая собака, быстро оглядела мужчин и тут же улеглась на пол у печи, как будто бы толстые лапы не слишком хорошо держали тяжелое тело.
– Вера Артемьевна! Наше почтение! – хором, как школяры, сказали Иван и Василий, и рассмеялись.
– Иван Иванович! Василий Викентьевич! – Вера Михайлова улыбнулась в ответ.
На первый же взгляд, даже в полутьме кабинета, ей можно было дать именно ее года: сорок с хвостиком. Уже второй – вызывал всякие сомнения. Откуда они брались – нельзя было разобрать. В ее облике не было никаких ухищрений пытающейся удержаться молодости – морщинки вокруг глаз, легко выдающие возраст кисти крупных рук с коротко подстриженными ногтями, раздавшаяся талия и неравномерно округлившееся, когда-то строго обтянутое безупречной кожей лицо. В каштановой, уложенной короной косе – не слишком обильная, но отчетливо видная седина.
Однако, что-то в ярко желтых глазах, в развороте головы и шеи, в бесшумной, стремительной повадке Веры Михайловой говорило о том, что возраст не имеет над этой женщиной никакой, вовсе никакой власти. Понимание это, приходящее вместе со вторым, а особенно – с третьим взглядом на нее, казалось опасным и тревожным. Кто так живет? Почему? Ответ находился почти сразу. Конечно! Так живут хищные, да и прочие дикие звери в своей родной стихии. Молоды весь срок, а потом – ложатся и умирают. Но, родившись хищниками, остаются ими, пока живы. До последнего дня.
– Я пригласила вас сюда, господа, чтобы сообщить пренеприятнейшее известие… – с улыбкой начала Вера, зная доподлинно, что творчество Николая Васильевича Гоголя в Егорьевском училище изучают самым подробным образом.
Психологический прием был выбран безошибочно: оба мужчины тут же ощутили себя школярами. Слегка растерянными, опасающимися какого-то неопределенного подвоха. Готовыми внимать.
– Располагайтесь, пожалуйста. Что вам подать?
– Мне хватит можжевеловки! – с соответственным гонором сказал Иван Притыков.
– Я бы чаю… – улыбнулся Вася.
– Разумеется, – Вера вернулась в коридор, что-то негромко сказала кому-то, кто, по-видимому, дожидался ее распоряжений.
Присев, помолчали, разглядывая друг друга. Это было уже совсем иное молчание.
– Англичане хотят вложить деньги в горную отрасль. Там, на Алтае, – утвердила Вера. – Это серьезно, как вы полагаете?
– Почему нет? – осторожно высказался Иван Притыков. – На Алтае работают их поисковые партии. В Европе – избыток капиталов, образованных людей и недостаток ресурсов. У нас в Сибири – наоборот. Есть возможность для смычки.
– Не может ли это быть просто какая-нибудь финансовая игра? Я в этом плохо понимаю, но читала в книгах. Как раз-таки у англичан…
– Вполне может быть, – заметил Василий Полушкин. – Впрочем, ни признаков, по которым можно было бы определить, ни механизмов я тоже не знаю.
– А кто знает? У кого спросить?
– Боюсь, у нас, в Сибири будет трудновато сыскать специалиста по биржевым спекуляциям, – усмехнулся Иван. – Тем более, если речь идет о Лондонской бирже.
– Значит, придется рисковать, – утвердила Вера.
После ее слов Василий Полушкин почувствовал, как вдоль хребта пробежали щекотные, прохладные, но вовсе не противные мурашки. Такие мурашки-предвкушение.
– Рисковать, само собой, будем по-умному, – уточнила Вера. – Чтобы в случае чего мы сами могли их первыми обмануть и сухими из воды (то есть со своим капиталом, пусть и без прибыли) выйти… Кстати, англичане сами – не камень единый… Ты, Иван, их не видал, а вот ты, Василий, сподобился… Как тебе показался мистер Сазонофф?
– Странный человек, – подумав, ответил Василий. – Очень непростой… Впрочем, все они непростые. И, вы правы, Вера Артемьевна… Мне тоже показалось, что промеж ними не такое уж полное согласие…
– На этом, видимо, можно сыграть, – вставил Иван.
– В точку! – Вера по-кошачьи сверкнула желтыми глазами и наставила палец на Ивана. – Ты и будешь у нас первым игроком. Потому что главное у них все-таки – Алтай. А здесь… Если честно, я так и не поняла, чего они здесь хотели… – медленно, словно беседуя сама с собой, продолжала она. – И наши, и гордеевские прииски почти выработаны, покупать их сейчас резону нет, вложишь больше, чем получишь… Сюда даже партии поисковые не посылают. Все знают, что в болотах золота нет. Все, кроме покойника Коськи… Но его карту я никому не показывала. И копии с нее Никанор, насколько я знаю, не снимал… Может быть, они хотели купить именно карту? Но почему не приценились через Сазонова напрямик?
– А с чего вы взяли, что легендарный Коська Хорек – покойник? – спросил Иван Притыков. – Его кто-то видел мертвым? Хоронил? В местных байках о нем, насколько я помню, воспевается как раз его невероятная живучесть.
– О какой карте вы говорите, Вера Артемьевна? – спросил Василий.
– Давайте определимся, господа, давайте определимся, – Вера потерла друг об друга большие ладони. Раздался сухой шелест, словно по опавшей хвое ползла крупная змея. – Если мы с вами делаем дело вместе, то тогда каждый, и я в первую очередь, раскрываем все карты. Если нет…
– А что ж все-таки за дело, позволено ли будет узнать? – Иван Притыков подался вперед, опершись сильными руками о расставленные колени.
Василий Полушкин, который никогда в жизни ни разу не сыграл ни в карты, ни в кости, ни, тем более, в рулетку, вдруг со стыдом понял, что ему, в отличие от Ивана Притыкова, уже все равно. Он – уже в игре. Все эти годы смирения себя, всех своих подлинных сущностей, вдруг выплеснулись в его мозг единым ковшом опьяняющего зелья. И если бы бывшая крепостная крестьянка Вера Михайлова сейчас предложила свой план по опрокидыванию Лондонской Биржи, егорьевский подрядчик Василий Полушкин с восторгом поддержал бы ее задумку.
– Дело, в общем, простое. Попытаемся объегорить англичан в Егорьевске, – полиглотка Вера улыбнулась получившемуся каламбуру. – Деньги у них возьмем и все на свете пообещаем (уж у меня найдется, чем их поманить). А пока суд да дело (Лондон, все же, свет не ближний), соблюдем по возможности свои интересы. У тебя Иван, шесть наследников (а как дальше обернется – Бог рассудит), каждому – свою долю нужно. У меня тоже трое. Вася пока холост, да какие его годы. Что они там хотят – концессию? Акционерное общество? Все им будет. Только прибыли на своей земле все равно мы считать станем, а не они… Но сначала надо их убедить, чтоб они и в Егорьевске, и на Алтае только с нами дело имели, и ни с кем боле. Оттого-то я вас сюда и позвала. У меня карта (позже объясню, какая), но какой же английский лорд или там сэр, или даже мистер станет строить серьезное дело с немолодой русской бабой из крестьян, да в сатиновой юбке и бумазейной кофте? Что? Правильно ли я мыслю, господа?
– В общем, да… – все еще неуверенно согласился Иван Притыков. – Но есть подробности…
– Их сейчас и обсудим, – немедленно согласилась Вера. – Только до того еще одно… Касательно тебя, Иван Иваныч. Если мы сейчас с англичанами, как только они сюда возвернутся, или еще ране, через тебя, на Алтае, в сговор входим, так это значит, что тебе против родни пойти придется…
– Как это так?! – немедленно вскинулся Иван. Его широкое, простоватое, в сущности, добродушное лицо типичного «ваньки» покраснело и сделалось вдруг почти страшным.
Огромная Верина псина, вроде бы поленом спавшая у печи, подняла широкую морду и оскалилась, бесшумно обнажив кошмарные, желтоватые у корней клыки.
«А ведь за каждого грибка-боровичка, включая и того, что еще не родился, Ванька – убьет! И не одного! Убьет и не задумается ни на миг!» – с каким-то веселым восторгом подумал вдруг Василий Полушкин, который в жизни совершенно не выносил жестокости и кровопролития, и даже популярную в Егорьевске охоту уважал не слишком.
– А вот так, – спокойно пояснила Вера. – Если не мы, то в наших краях для англичан только еще одни подельники возможны. То – кровники твои – Мария Ивановна да Петр Иванович Гордеевы. Петр Иваныч, понятно, только загонную охоту для англичан устроить может (правда, как сами пишут, знатные англичане до хорошей охоты охочи весьма, и это, стало быть, им тоже потрафить невредно). Но вот Машенька – совсем другое дело. Она из тех же, что и у нас интересов (Шурочка ейный, считайте, вырос), может в англичан как весенний клещ вцепиться. И мужа своего к тому же приписать. А там – и тебя, как родного, в долю позовут. Что тогда делать станешь? Все же одна кровь… Да они тебя, как ни крути, и вырастили на свои средства, и денег на первое обзаведение дали, хотя ты на них и отработал частично…
– Что тут сказать… – поняв, что дело не касается его нынешней семьи, Иван Притыков по виду успокоился. – Наш общий с Машей и Петром отец признавать меня сыном не желал, и, даже когда болел и умирал, мною не озаботился. Видать, поважнее дела нашлись… – голос Ивана чуть заметно дрогнул. Вася и Вера тактично отвернулись.
«Сколько ж лет эти обиды помнятся? – подумал Василий, вспоминая отношение матери к себе самому. – Ивана Парфеновича уж семнадцать лет, как в живых нету. Видать, срока не имеют…»
– Так что ваша правда, Вера Артемьевна, – то, что Маша с Петей для меня сделали, – это их личная, чистая благотворительность. Я им за то по гроб жизни благодарен и, коли какая их личная во мне нужда случится, всегда рад буду… Деньги же, которые они мне на обзаведение дали, я уж давно, сразу как на ноги встал, им до копейки вернул.
– Вернул? – удивился Василий. – А они разве требовали?
– Ни разу даже и разговор не заходил, – признал Иван. – А просто мне так удобнее показалось.
– Ишь, какой гонористый! – усмехнулась Вера. – Ровно и не русского крестьянского рода, а из поляков-шляхтичей.
– Да уж каков есть! – Иван полупоклонился, привстав на стуле. Псина, чувствуя не ушедший внутренний напряг, не сводила с него глаз. – Теперь до другого, о чем вы сказали. Есть личное, а есть – дело. Я – делец, и того скрывать ни перед кем не собираюсь. Нынче, если все взвесить, мне выгоднее с вами в дело вступить, а не с моими кровными родственниками. Если бы был жив отец, я бы, несмотря ни на что, его бы сторону держал, потому что при нем, уж извините меня, Вера Артемьевна, не видать вам было бы англичан, как локоть не укусить. Так что… ответил я?
– Ответил… – медленно сказала Вера и взглядом, похожим на сильное прикосновение («Таким лошадей оглаживают!» – подумал Василий), оглядела молодого Притыкова с ног до головы.
– Так что ж – подробности? – напомнил невольно поежившийся под Вериным взглядом Иван.
– Сначала – карта, – Вера кивнула куда-то в сторону и невысокая, с крепкой сформировавшейся фигуркой девушка внесла поднос с чаем и свежими шаньгами. – Вот сюда поставь, Соня. Спасибо, – девушка выполнила приказ и, не поднимая глаз на мужчин, молча удалилась. – Робкая она у меня. Хотя и умненькая. Кого плохо знает, слова не вымолвит, а с кем знакома, так не поверите – рта не закрывает. И все не попусту… – мужчины вежливо слушали. Невзрачную Соню они едва разглядели, но если мать желает похвалить свою, пусть и приемную, дочь, то кто ж ей запретит? – Ладно… – сама себя оборвала Вера. – Коську Хорька никто мертвым не видел, твоя, Иван, правда. Сбежал он во время бунта вот из этого самого дома, да и сгинул уж лет семь тому назад. С тех пор и живым не объявлялся. Но до того Коська с помощью покойного Черного Атамана (тот по образованию инженером был) составил карту всех золотых месторождений, которые он в наших краях отыскать сумел. «Счастливый Хорек» и «Степной» прииски по этой карте открыты… Эта карта после смерти Атамана и Никанора, и Коськиного побега у меня осталась…
– А сколько ж там всего… ну мест? – уточнил Василий, снова ощущая щекотку между лопаток.
– Если эти уж не считать, то тринадцать осталось. В трех мы еще с Алешей успели разведку провести. Дело верное…
– Вот это да! – весело, по-мальчишески воскликнул Иван Притыков и, вскочив, ударил кулаком по ладони. Вопреки ожиданиям Василия, псина едва мазнула по Ивану взглядом, шумно повалилась набок, вытянула все четыре лапы и закрыла глаза. – Так и зачем нам тогда англичане? Вера Артемьевна?
– А пускай они все оплатят, – спокойно сказала Вера и по-купечески, из блюдца отхлебнула чай. – И развлекутся заодно до конца жизни. У них там в Европе скучно, наверное, коли за столько верст в Сибирь притащились… И к нам, пока мы не развернемся, уж никто из здешних с палкой в колесо не сунется, коли за нами британский капитал и всякие сэры с лордами стоять будут. Опасаться станут. Даже если и из столиц. Кто такие Ванька Притыков да Верка Михайлова? А? Где? Не видать… А тут – этот… как его… который сам-то на палку похож? А, – лорд Александер Лири Второй, прошу любить и жаловать… И ведь еще же Алтай есть, не забывайте… Что там у тебя, Ваня, – медь, цинк?
– Вера Артемьевна! – восхищенно воскликнул Василий Полушкин и не нашел дальше слов. Хандра, которая мучила его уж, почитай, больше года и делала окружающий мир каким-то тусклым и пыльным, вмиг куда-то отступила.
Божий мир снова окрасился в свой нормальный цвет. Цвет молодой радуги на ясном, только что промытом дождем небе.
«Пойду в собор и свечи поставлю! – внезапно подумал Василий. – За успех предприятия и вообще…»
– А теперь, стало быть, подробности… – произнесла между тем Вера Артемьевна и достала откуда-то перо и лист бумаги.
В которой Павлуша и Милочка приобретают всякие полезные вещи, Дашка становится двойным агентом, а «славянофилы мечтают об оккультном»
Помня, как понравились Милочке Масленичные гуляния, по дороге к Варваре Софи завезла обоих детей на Вербный базар, развернувшийся в преддверии Вербного воскресения на Малой Конюшенной улице. По обе стороны улицы красовались деревянные ларьки, украшенные кумачом с самыми разнообразными и в меру кривыми надписями: «Здесь вафли» «Яр-базар» «Чудеса». У ларьков толпились учащиеся младших классов реальных училищ в форменных фуражках, няньки с детьми, рабочая молодежь. С рук, из клеток торговали птичками разных пород, причем выкрашенные в желтую краску воробьи сходили за канареек. Повсюду продавались вербочки – пучки веточек ивы с пушистыми почками. Они украшались лентами, яркими бумажными цветами. Милочка тут же приклеилась к ларьку с особыми «вербными» чудесами: «пищалками», чертями, «тещиными языками», пучками крашенного ковыля. На выделенные Софи деньги Милочка быстро выбрала для себя «глазастое» павлинье перо, а на сдачу купила пищалку для Джонни. Павлуша, поколебавшись для вида, приобрел себе «американского жителя». Игрушка представляла собой пробирку с водой, затянутую сверху резиновой пленкой. Внутри на поверхности плавал маленький стеклянный чертик с рожками, хвостиком и выпученными глазками. Если нажать пальцем резиновую пленку, чертик, крутясь вокруг своей оси, опускался вниз, а потом снова поднимался.
Усевшись в экипаж, Милочка тут же стала просить у Павлуши поиграть «американского жителя» и расспрашивать, как и почему он устроен.
– Вот! – не преминул уколоть брат (игрушку, впрочем, отдал). – Твое перо яркое, да ни к чему, а моя вещь – познавательное значение имеет.
– Так красиво же… – попробовала оправдаться Милочка, пытаясь заглянуть в крошечные зеленые глазки снова утонувшего чертика. Павлуша в ответ только пожал плечами. Жест, по-видимому, означал: «О чем тут спорить, когда все и так очевидно…»
– О, это опять ты, Софи? Не нашла желающих на публичный дом и пришла снова мне сватать?
– Варвара! Прекрати сейчас! – Софи недовольно нахмурила ровные брови. – Со мной дети!
– О! – словно только что разглядев, сладко воскликнула остячка. – Павлуша! Милочка! Как выросли! Как похорошели! Совсем взрослые стали!
– Здравствуйте, Варвара Алексеевна!
Стеснительная Милочка зарделась, Павлуша презрительно фыркнул, однако, не насупился, как обычно, но с интересом оглядывался по сторонам.
– Варя! Не юродствуй! – строго произнесла Софи. – Я знаю, что ты детей не любишь, однако, это не повод…
– Да ну что ты! – отмахнулась Варвара. – Я на самом деле всех люблю… Или всех не люблю, что, впрочем, одно и то же… Однако, пусть они себе что-нибудь из игрушек подберут, в подарок от тети Вари… Павлуша, Милочка! Берите, что понравится…
– Игрушки, меня, простите, не интересуют, – заметил Павлуша.
– Что ж, ничего не глянется? – вроде бы искренне расстроилась Варвара. – А я так старалась…
– Напротив, – степенно ответил мальчик. – Я нахожу здесь множество преинтересных вещей… А оригинальность общего оформления делает честь вашему художественному вкусу, – добавил он, чуть помолчав.
Варвара расхохоталась, уперев руки в крутые бока. Софи вздохнула. Пикировка никому и ничего не спускающего сына и по-своему язвительной остячки могла затянуться надолго.
– А мы – с Вербного базара, заехали по случаю, – громко сказала Софи. – Павлуша, возьми Милочку и идите посмотрите все, раз Варвара Алексеевна разрешает. Только хрупкие вещи лучше руками не трогайте…
Павлуша укоризненно взглянул на мать и взял сестру за руку. Проявившаяся откуда-то Валерия Коврова тактично и незаметно увела детей вглубь салона.
– Варвара, я тебе книжки про индейцев привезла, – Софи выложила из ридикюля два весьма потрепанных томика с какими-то поистине зверскими рожами на обложках. – И вот еще одна – познавательная. Называется «Детство человечества». Здесь как раз про искусство есть и даже рисунки.
– Замечательно, спасибо тебе! – Варвара жадно схватила все три книжки разом и даже прижала их к груди. Софи порадовалась про себя, что странное увлечение Варвары еще не минуло, и она угадала с подарком.
– А теперь у меня к тебе две просьбы. Первая – для тебя обычная. Я хочу, чтобы ты помогла мне тот самый салон Саджун слегка переделать и подготовить к светскому приему. Так, чтобы и дух вроде сохранился, и комар носа не подточил. Понимаешь?
– Пожалуй, да, – усмехнулась Варвара. – Это, пожалуй, может быть интересно.
Софи нешуточно обрадовалась. В дикарски примитивном (если никому не льстить) мире остячки Варвары существовало всего три абстрактных градации отношения ко всем без исключения жизненным явлениям: «интересно» «все равно» и «не интересно». То, что было официально объявлено «неинтересным», Варвару нельзя было заставить сделать никакими силами.
– Теперь вторая просьба: пока идут переделки и сам прием, я хочу, чтобы ты приютила у себя обслугу салона. Там есть две горничные, кухарка, ну и… девушки, сама понимаешь. Всего одиннадцать человек. Все расходы я тебе, естественно, возмещу… А после приема они вернутся на свое место, и Дарья вступит во владение салоном…
– О! – глаза-маслинки Варвары почти спрятались между припухших век. – О! Не надо денег. Я их буду бесплатно кормить. Говоришь, десять проституток? Это – очень интересно.
– Девушки Саджун не проститутки, Варя, в том смысле, которое обычно вкладывают в это слово в столице… – попыталась объяснить Софи, но Варвара в ответ только замахала руками.
– Знаю, знаю! Много слов, мало смысла! Давай их сюда, и я все увижу своими глазами… Только… – остячка прыснула и закрыла широкий рот ладошкой. – Только не говори Валерии! Иначе она сразу уволится, и мне придется срочно искать для своего салона другую девицу с дворянским воспитанием…
Салон Варвары Остяковой все покидали довольными. Павлуша приобрел красивый нефритовый ножик для разрезания бумаги, Милочка – куколку-калмычку в национальном наряде. Для Джонни они с Павлушей согласно попросили крошечную расписную табуреточку под короткие и вечно болтающиеся в воздухе ножки дауненка. Софи успокоилась насчет временного приюта для специфической обслуги гадательного салона, а Варвара предвкушала увлекательный просмотр книг про индейцев и встречу с интересными людьми. Девице Валерии Ковровой очень понравились начитанные, вежливые и неболтливые дети Софи Безбородко, заботящиеся не только о себе, но и о своем слабоумном братце. Об ожидающих ее испытаниях она пока оставалась в счастливом неведении.
Вопреки ожиданиям Софи, Дашка вовсе не была засыпана с ног до головы мукой. Хотя пахло в заведении соответственно – свежей опарой, ванилью, тмином. И еще в воздухе плавал тот неуловимый, неописуемый никакими словами запах, который всегда сопровождает только одно, сакрализованное почти всеми без исключения земледельческими культурами явление – свежий, только что выпеченный хлеб.
Располагалась пекарня с торговым зальчиком в Нарвской части, на Дровяной улице, которая своим южным концом выходила на Обводный канал. Место было не из дорогих и престижных, зато достаточно густо заселенное рабочим и небогатым служивым людом.
– Даша, здравствуй! – сказала Софи, вскоре после того, как расторопный чубатый мальчишка-разносчик сбегал вглубь помещения за хозяйкой. – Ты меня узнала ль?
– Ой, Софья Павловна! – Дашка расплылась в удивленно-радостной улыбке и всплеснула полными руками. – Случай-то какой! А я только вот про вас и вспоминала!
С немалым изумлением Софи поняла, что Дашка не врет для приятности, а говорит сущую правду: она действительно только что вспоминала именно ее, Софи Домогатскую. С чего бы это, если до того десять лет не виделись, да и раньше в коротких отношениях не бывали?
За эти десять лет Дашка, с юности бывшая весьма пухленькой, естественно, еще растолстела. Впрочем, полнота ее казалась весьма сообразной и не бесформенной, и то, что в молодости смотрелось, пожалуй, излишним, нынче только добавляло Дашке привлекательности. Сейчас, по-видимости, Дашка находилась в самой поре своего женского расцвета. Румяное чистое лицо, большие налитые груди, полные округлые плечи, монументальный зад и тонкая, относительно него, талия – все это делало булочницу чрезвычайно привлекательной для ценителей определенного, рубенсовского типа женской красоты.
Разговаривали в просторной, но уютной, скорее всего, личной Дашиной комнатке, с обилием полочек, комодиков, этажерочек, которые все подряд были застелены вышитыми и кружевными салфеточками, и щедро украшены многочисленными фарфоровыми статуэтками, изображающими амурчиков, зверюшек, пастушек и прочую бессмысленную, но приятную мелочь. Сама Дашка, в просторном платье с рюшами и кружевном переднике, с наколкой на пышно взбитых русых кудельках смотрелась просто очаровательно.
– Даша, ты, со всеми этими салфеточками, собачками и этажерками – что за прелесть! – искренне воскликнула Софи. – Прямо первообраз какой-то!
– Угу! – кивнула Дашка. – Мечта глупого славянофила.
Софи прикусила язык. И вспомнила, что снова попалась в ту же ловушку, что и десять лет назад. Глупая Дашкина внешность и тогда не раз вводила ее в заблуждение. Да и не ее одну…
Софи несколько натянуто рассмеялась. Дашка, явно довольная произведенным впечатлением, вполне искренне вторила ей.
Разговаривали, как всегда водилось у Дашки, под обильную трапезу. По воспоминаниям Софи, и здесь бывшая «шляпница» осталась верна себе: обыкновенные пряники, тыквенные семечки и орешки в сахаре присутствовали и явно предпочитались свежайшим булочкам с розовой помадкой и медовым рогаликам собственного изготовления. Проголодавшаяся Софи налегала на рогалики.
– Ну что, Даша, расскажи мне, как ты теперь живешь? Вижу сама, что неплохо, но все же?
События последних десяти лет своей собственной жизни Дашка изложила неожиданно для Софи коротко и внятно, со спартанской собранностью военного рапорта.
После пожара в игорном доме Туманова и закрытия «шляпной мастерской» Прасковьи Тарасовны бывшая шляпница вернулась в семью и почти сразу вышла замуж за помощника и дальнего родственника отчима. Чуть больше чем через год после этой свадьбы отчим скончался от грудной болезни. Пекарня с булочной достались Дашке с мужем. Мать Дашки пережила супруга всего на два года. Умирая, велела дочери позаботиться о младших сводных братике и сестре. Дашка честно исполнила завет. Сестра Алена удачно вышла замуж за почтового служащего и проживает нынче в Московской части. Братец Кирюшечка остался при семейном деле и, несмотря на молодость, проявляет в нем бо́льшую расторопность, чем малахольный Дашкин супруг, которого хоть бы и черти взяли, хотя грех так о человеке говорить, с которым венчалась. У самой Дашки подряд родились две дочери-погодки: Рая и Тая. Сейчас им восемь и семь годков соответственно. Тая уродилась слегка скорбная на головку, только недавно начала членораздельно говорить, и вообще удалась в отца, а толстушка Рая сама не своя до кондитерского дела и уже сейчас выдумывает и печет такие пирожные, что Кирюшечка выставляет их на продажу на специальном подносе, и есть любители даже из благородных, которые именно за ними и приходят. А одна барыня с Ново-Петергофского проспекта специально приводила свою дочку – фифу и капризулю, и просила Дашку познакомить ее с Раечкой из воспитательных соображений. Вот, мол, смотри, какая маленькая девочка, а уже сама пирожные печет и денежки в семью зарабатывает, а не изводит родителей и не бьет нянек куклой по лицу. Дела идут в целом неплохо, грех жаловаться, но за последние пять лет появились в хлебопечном деле два ближайших конкурента, и оба немцы – один на Приютской улице, другой – на Десятой Роте. И кстати о немцах… Это очень забавно, что вы, Софья Павловна, именно сейчас туточки объявились…
– Что ж забавного? И причем – немцы? – осведомилась Софи, которая выслушала рассказ Дашки с неожиданным для себя интересом и сочувствием, и, вспомнив Джонни, постановила себе попозже выяснить, как Дашка обходится со «скорбной на головку» Таей и как именно ее обучает.
– Да вот намедни Густав Карлович Кусмауль меня отыскал, из тех же пор… – хихикнула Дашка, тут же зажала себе рот ладонью, раздвинула пальцы и сказала шутливо, шевельнув в образовавшейся щели розовым языком. – Только это… – шу-шу! – тайна великая!
– Ну тайна так тайна, – сразу согласилась Софи, хотя и удивилась, признаться, изрядно.
Что могло быть нужно от Дашки, бывшей девицы легкого поведения и нынешней добропорядочной булочницы, отставному следователю? Амурные дела, как она сама когда-то полагала? Но ведь теперь-то Софи точно знала, что Густав Карлович всегда был приверженцем эллинской любви, да и лет ему нынче столько, что… Впрочем, на свете есть много загадок и все их все равно не разгадаешь. По крайней мере, высказывание про «мечту славянофила», кажется, прояснилось и обрело автора… А теперь у нее есть к Дашке другое дело, до странностей старого немца не касающееся совершенно.
– Даша, я ведь, как ты, наверное, уже поняла, не просто так к тебе пришла…
– Да поняла уж, что не проведать и не лясы со мной точить… – беззлобно усмехнулась Дашка и подперла круглую щеку ладонью. – Хотя вам теперь не зазорно со мной должно быть, – простодушно напомнила она. – Я ж теперь не падшая, а порядочная, мужнина жена… Хотя вы, конечно, дворянка, из благородных, что вам…
Софи вдруг почувствовала, что краснеет.
«Господи! Что ж я делаю?! – почти заполошно подумала она. – Пришла к замужней женщине, матери двоих детей и собираюсь предложить ей… Она-то считает меня благородной… Теперь я должна поблагодарить ее за рогалики, купить с собой детям, проконсультироваться насчет Таи и… Остановись, Софи! Эта добропорядочная хозяйка пекарни – бывшая Дашка-шляпница, которая когда-то по собственной воле сбежала из дома, чтобы работать проституткой в игорном доме Туманова, и до пожара была вполне довольна своей участью, – напомнила она себе. – И про меня она все знает: и что я была любовницей Туманова, и что брат мой женился на ее подружке и коллеге Груше-Лауре, и все прочее…»
– Даша, скажи, ты всем нынче в своей жизни довольна? Ничего не хотела бы поменять? – вслух спросила Софи.
– Ну, это смотря что предложите, – Дашка аккуратно бросила в рот горсть орешков и склонила голову, внимательно разглядывая Софи и явно ожидая продолжения.
Софи решила, что с Дашкой, учитывая ее биографию, лукавить и отрезать хвост по кусочкам не следует.
– Я хотела бы предложить тебе публичный дом, – сказала она, стараясь чтобы ее слова прозвучали как можно более легковесно.
– Ну, для публичного дома я уже старовата, – в тон Софи усмехнулась Дашка.
Софи второй раз покраснела от смущения и разозлилась на себя за это. Ее светские знакомые никогда не видели у нее такой реакции, и крайне удивились бы, только узнав, что она возможна. Смутить Домогатскую? Ха! Не смешите меня, этого не бывает никогда!
– Даша, я имела в виду вовсе не это, – заботясь уже не о тоне, а о смысле, снова заговорила она. – Я предлагаю тебе стать хозяйкой заведения, гадательного салона. Прекрасно обставленный особнячок, весьма дорогой, почти в самом центре, в нем десять обученных девушек. Все это досталось мне по завещанию, но я, как ты понимаешь, вовсе не могу этим заниматься. Да и не хочу, конечно. При этом мне не хочется выбрасывать девушек на улицу и продавать особняк… из некоторых моральных соображений, которые я, если позволишь, сейчас оглашать не буду…
Закончив свою речь, Софи отчего-то боялась поднять на Дашку глаза, и потому смотрела на золотистую корочку недоеденного рогалика, лежащего на ее тарелке. Со стороны казалось, что она хочет, но не решается его съесть.
– Мудрено́, – помолчав, задумчиво сказала Дашка и поскребла белую шею коротко обстриженными ногтями. – Это что ж, прямо сейчас надо решить?
– Нет, не прямо. Сначала я кое-что там переделаю, сделаю в этом особняке светский прием, а вот потом…
– А вы-то, я гляжу, – все такая же выдумщица, Софья Павловна! – фыркнула Дашка. – Помните, как Артуруса и рыцарей, и лес, и этот… как его… круглый стол в Доме Туманова представляли? Ловко тогда было!.. А теперь, надо ж, придумали – прием для знати в публичном доме! Хи-хи-хи!
– Прежде, чем ты примешь решение, тебе надо знать, Даша, – серьезно предупредила Софи. – Что этот салон – весьма высокого ранга из подобных заведений. Там бывали очень… ну, очень знатные люди. Ты понимаешь?
Дашка перестала ухмыляться и напряженно задумалась. Мысли ее теперь легко читались с лица. Видно было, как она представляет себе ряд закрытых карет с гербами на одной из улиц центрального Петербурга, из которых в затылок друг другу выходят графы, князья и бароны… и все они, толпясь, направляются в Дашкин салон, и, войдя, приветствуют ее как равную, по-приятельски улыбаются ей и, может быть, даже целуют руку (когда-то Дашка признавалась Софи, что ее, как женщину, очень волнует этот «благородный» знак внимания. Несчастный Иосиф Нелетяга знал об этом и всегда радовал им симпатичную ему Дашку)…
– Тебе придется сменить свой собственный стиль, и все твои нынешние знакомые… Я уж не говорю о муже… – Софи поймала себя на том, что фактически отговаривает Дашку, и поразилась сама себе. Что я, собственно, делаю? Зачем я сюда, собственно, пришла?
– Да вот муж-то меня меньше всего заботит… – фыркнула Дашка. – А ведь это… – женщина вдруг лукаво улыбнулась и подмигнула Софи. – Это, Софья Павловна, когда-то моя самая заветная мечта была… Ну, вы понимаете, когда… Самой стать мадам! Эх!
– Так что же, Даша? – Софи вовсе не забыла о том, что сама сказала Дашке об отсутствии необходимости принимать решение немедленно, но уж больно она не выносила длящейся неопределенности…
– Эх-ма! Где наша не пропадала? – осклабилась Дашка, и в ее словах и тоне опять смешным диссонансом просквозило что-то солдатское. – Только есть тут одна закавычка, Софья Павловна…
– Какая? Деньги? – быстро спросила Софи. – Пекарня? Дети?
– Да нет, – Дашка задумчиво зажевала еще горсть орешков. – С пекарней Кирюшечка сам справится лучше некуда. Да и я ведь – рядом, на извозчике полчаса, не в Сибирь ехать. Денег на первое обзаведение у меня хватит, еще с прошлых времен отложены, ждут как раз своего часа. Детки… Раечка, конечно, при своих пирожных пожелает остаться, а Тая – существо несмысленое, я бы ее с собой взяла. Нет… Понимаете, Софья Павловна…
– Ну же, Даша, не тяни, говори!
– Простите, что спрашиваю, но… вы ведь не проболтаетесь никому?
– Пфу, Даша! Осведомись у кого угодно, умеет ли Софи Домогатская хранить доверенную ей тайну…
– У кого ж это мне осведомляться? – резонно заметила Дашка. – Ну ладно… Не проболтаетесь, значит. Слушайте тогда. Получается так, что немец-то меня уже раньше вас нанял, и я ему обещалась… Может, это все и ненадолго, конечно, но все равно…
– Немец? Густав Карлович? Нанял… тебя?! Зачем это, не пойму! Расскажи, если можно, сначала…
– Если сначала, так знать надобно, что я еще тогда, у шляпниц, была его агентом! – с ноткой лихой гордости отрапортовала Дашка. – И всякие секретные задания выполняла.
– Господи, чудны дела твои! – вздохнула Софи. – Дашка – полицейский агент!
– Вот! – усмехнулась булочница. – И никто подумать не мог. А если кто и узнал, так думал, что мы с ним… ну, по этим делам встречаемся… вы понимаете? А ему, немчуре-то, того и надо.
– Ясно более-менее, – сказала Софи. – Но тогда он был полицейским следователем, а ты… ты, можно сказать, служила в игорном доме. Интерес понятен. Но что ж теперь-то?
– А теперь он тайно расследует жуткое убийство! – шепотом произнесла Дашка, вытаращив глаза. – И там такое делается, что я вам и рассказывать не стану, чтобы не пугать понапрасну. Письмена всякие, ду́хи, благородную даму задушили вместе с ее собачонкой…
– С собачонкой?! – встрепенулась Софи. – Погоди, погоди… Ты хочешь сказать, что Густав Карлович Кусмауль неофициальным образом расследует убийство Ксении Мещерской?
– Ой! А вы-то откуда знаете?! – удивилась Дашка.
– Знаю, знаю, – отмахнулась Софи. – Скажи лучше, для чего ему ты теперь понадобилась, и еще… не говорил ли тебе немец чего-нибудь про пропажу другой благородной девушки, Ирины?
– Нет, про Ирину ничего не говорил, – сразу ухватила суть Дашка. – Я бы запомнила. А что ко мне обратился… Так захотел, чтобы я, по старой памяти, для него кое-чего вынюхала и разузнала. Сами понимаете, там, куда ему входа нет, на меня и внимания не обратят, и скрывать ничего не подумают. Ценит он меня, и ловкость моя ему с прошлых лет известна. Сказал, мол, ты – мой лучший агент была, и я тебе, Дарья Поликарповна, доверяю, как себе…
Представить подобную фразу в устах сдержанного и недоверчивого Густава Карловича было решительно невозможно, но Софи по понятным причинам спорить с Дашкой не стала. Хочет она так именно видеть свои отношения с отставным следователем – и пусть ее.
– Пропавшая Ирина – это моя сестра, – ровно сказала Софи. – И у меня есть основания полагать, что ее исчезновение как-то связано с убийством Ксении Мещерской. По крайней мере, я знаю, что в последнее время они вращались в одном кругу и занимались общими оккультными делами…
– Господи, прости, ужас-то какой! – Дашка перекрестилась и наполовину прикрыла глаза, чтобы их жадно-любопытный блеск не был так заметен собеседнице. Ресницы у Дашки были чудесные – длинные, изогнутые, светлые у корней и темные у кончиков. – Ну, может, обойдется еще, и жива окажется ваша сестрица…
– Я очень на то надеюсь, – сухо ответила Софи. – Даша! Ты понимаешь ли теперь, как для меня важно знать все, что найдет, скажет и даже о чем подумает любезнейший Густав Карлович в связи с этим делом? Чем скорее я отыщу свою сестру, тем больше шанс получить ее назад в целости и невредимости… Я прошу тебя, Даша…
В сущности, Софи была готова к отказу. Прежде, чем обратиться к Дашке, немец наверняка продумал способ, который позволил бы припугнуть его бывшую осведомительницу и тем обеспечить сохранение тайны следствия (Только кто же нанял его самого?! – вот вопрос. Не из чистого же любопытства он за то взялся). Самое простое, если он всего лишь заплатил ей, потому что Софи всегда сможет заплатить больше. Да и лакомый для Дашки кусок в виде салона Саджун… Но, насколько Софи сумела понять, Дашка работала на Кусмауля не только (а, может быть, и не столько?) за деньги, но и за интерес.
– Ой! Я тогда, получается, буду двойным агентом, да?! – почти взвизгнула от возбуждения Дашка, шикарные ресницы ее вновь распахнулись, открыв серо-зеленоватые глаза, горевшие огнем почти нестерпимого интереса и напряженной работы мысли. – Но… тогда вам сюда приходить нельзя. И мне к вам. Глядите: я придумала! У нас с вами, Софья Павловна, будет конспиративная явка…
– Что? Какая явка? – переспросила Софи, удивленная реакцией булочницы и чувствуя себя весьма неловко оттого, что сейчас не успевала мыслями за Дашкой, которую всегда считала страшной тугодумкой.
– Лизавету бедняжку помните? Ну, подружку нашу, горничную графини К.? Ее еще какие-то негодяи убили? Вы же в ней тогда участие принимали, велели ей читать учиться… – вспомнив погибшую, Дашка промежуточно шмыгнула носом, утерлась тыльной стороной кисти и продолжала. – Так вот ее жених, Кузьма, тогда же, после Лизаветиной смерти получил от Михаила Михайловича Туманова деньги на открытие кухмистерской, как они с Лизонькой хотели…
– Михаил дал деньги жениху Лизаветы? – удивилась Софи. – А я и не знала…
– Дал, дал, и условие поставил: чтобы назвать заведение – «У Лизаветы». В память ее, значит. Кузьма все так и сделал, как велели. Кухмистерская его нынче на Галерной улице располагается, я там не раз бывала, чистенькое место и для всех сословий. Вы-то где нынче проживаете? Удобно вам будет там встречаться?
– Галерная? Ничего, сумею, – подумав, сказала Софи. – А только что же…
– А то! – Дашка важно подняла палец. – Как только я для Густава Карловича или от него самого что-нибудь важное по делу разузнаю, так сразу Кирюшечку к вам и пошлю. Вы уж адрес сказать извольте, и если не застанет, кому сообщение оставить. Пароль у нас с вами будет такой…
– Даша, а может обойдемся без пароля? – почти жалобно спросила Софи.
– Без пароля неправильно выйдет, – отрезала Дашка и, подумав, выдала. – «Славянофилы мечтают об оккультном». Красиво, правда? И не спутаешь ни с чем…
– Д-да, действительно… – Софи судорожно сглотнула и поспешно схватила с тарелки еще один рогалик.
В которой Софи и Мари Шталь вспоминают о прошлом, а Лисенок играет на рояле печаль по Матвею
– Боже мой, Софи Домогатская, но это же бред какой-то! Софи! Немедленно оставь это и иди сюда!
Обильно нарумяненная темноглазая женщина высунулась из кареты, пряча курносый носик в меха, и энергично помахала маленькой рукой в перчатке, привлекая к себе внимание.
До Пасхи оставалось едва две недели, но в Петербурге неожиданно выпал острый, колючий зимний снег, и пал мороз, доходящий в ночь до пятнадцати градусов ниже нулевой отметки. Избегая неизбежных в таких случаях обморожений и холодных смертей среди нищей и пьяной братии, которая уж порешила было, что пережила зиму, и расслабилась, по специальному распоряжению градоначальника на перекрестках снова загорелись костры, которые жгли обычно зимой, в большие морозы.
Картина была совершенно не весенней, хотя и характерной, и знакомой всем петербуржцам. Весело пылают заложенные в цилиндрические решетки дрова. Центральная фигура возле костра – заиндевевший величественный городовой. Около него – три съежившихся бродяжки неопределенного возраста в рваной, не по холоду, одежде с завязанными грязными платками ушами (должно быть, обрадовавшись теплу, уже продали и пропили зимнюю амуницию). Тут же приплясывают несколько вездесущих мальчишек, легковой извозчик, ожидающий седока, два прохожих солдата, дрожащая голодная собачонка с поджатым хвостом. Возле собачонки сидит на корточках Софи Домогатская и, уговаривая не бояться, кормит ее, отламывая по куску от только что купленной булки…
– Софи, право, я, когда от рассыльного получила послание, подумала, что – дурацкий розыгрыш. Встречаться на Песках, у водопойки! Почерка твоего за давностью лет не помню… Но после подумала – если кто из наших и мог такое выдумать, так это – ты и есть!
– Ну подумай сама, Мари, – рассудительно сказала Софи, устраиваясь на сиденье рядом с приятельницей и пряча озябшие руки в подсунутую Мари Оршанской муфту. – Не могла же я явиться к вам в дом и столкнуться там с Ефимом…
– Да отчего бы и нет? – Мари засмеялась. – Я сама с удовольствием взглянула бы на его физиономию в эту минуту… Передают, что на прощание, много лет назад, ты сказала ему что-то такое… пикантное… нельзя повторить…
– Вот и не будем! – решительно сказала Софи. – Касательно же «наших». Я вот как раз хочу всех по случаю собрать…
– А что ж за случай? – заинтересовалась Мари, явно подсчитывая что-то в уме.
– Никаких дат, – отмахнулась от ее невысказанных предположений Софи. – Просто мне в наследство достался особнячок, я там кое-какие переделки затеяла, а потом, вот сразу после Пасхи, и хочу устроить там… ну, что-то вроде вечеринки для своих. Элен идею одобрила…
– Ну я, разумеется, тоже «за», – сказала Мари. – А отчего ж такая таинственность? Могла бы просто приглашение прислать. Ефим мою почту не досматривает… Кстати, как я поняла, его ты не приглашаешь?… Только не подумай, что я на то обижусь…
– Мари! Я была уверена, что именно ты меня всегда поймешь правильно! – со всей возможной горячностью воскликнула Софи. – Кстати… Элен тоже будет без своего Васечки…
– Эт-то почему? – тут же насторожилась Мари и строго взглянула на приятельницу. – Домогатская! Ты что-то темнишь! Немедленно рассказывай все как есть!
– Конечно, конечно, Мари, – поспешно согласилась Софи. – Я же для того и позвала тебя…
Когда рассказ был закончен, Мари кончиками пальцев утирала выступившие от смеха слезы.
– Ну, Софи! Ну, насмешила… Значит, опять, как раньше, утрешь всем нос! Они, стало быть, не удержатся, явятся, а потом… А потом – ты опять вернешь туда девушек и… И всем этим напыщенным светским клушам останется только удавиться от злости, как их провели!.. Ну какая ж ты все-таки забавница! И всегда была, и годы тебя не берут! Я помню, в детстве часто злилась на тебя за твои шалости, а теперь так просто завидую тебе, честное слово! И выглядишь прекрасно… поверь, я не из лести… Сразу видно, что у тебя все хорошо, и спокойно налажено, и муж, и детки, и можно развлечься… Замечательно, Софи, я – с тобой!
«Угу! – мысленно согласилась Софи. – У меня все просто отлично. Только вот сестра пропала, брат того и гляди в Сибири окочурится и… А в общем, Мари права, грех жаловаться.»
– Ты сможешь передать приглашение Ирочке? – спросила она. – Как, кстати, сейчас ее фамилия? Я запамятовала…
– Так Гримм же и осталась! – напомнила Мари. – Она же вышла замуж за своего кузена, который ей приходится четвероюродным братом по отцу. Разумеется, я ей все передам… то, что можно, – хихикнула Мари. – Я думаю, она будет рада тебя повидать…
– Прекрасно. А что-нибудь слышно про Кэти? Вот кого я давно не видала…
– О! – Мари потрясла в воздухе пальцами. – Про нее мне как раз Ирочка и рассказывала. Она в позатом годе гостила по приглашению вместе с детьми у нее в имении. Приехала весьма впечатленная увиденным. Наша хрупкая Кэти единолично владеет управляет родовым имением в новгородской губернии, причем благодаря рациональному ведению хозяйства весьма существенно расширила его границы, курит папиросы, говорит, по словам Ирочки, хриплым баритоном, ходит в штанах и саморучно раздает оплеухи нерадивым работникам. Кличка у нее в уезде «Косая Ведьма». Причем, по отзывам окружающих, в последний перед Ирочкиным приездом год она еще существенно помягчела нравом, так как по-женски сошлась со своим управляющим… Что было до того, страшно же подумать…
– Да-а… – протянула Софи. – Ну, в общем, в этом мало неожиданного. Кэти всегда была так ранима, что просто обязана была, чтобы выжить, отрастить себе раковину… Лишь бы этот управляющий не надул ее…
– Ирочка рассказывала, что, когда Кэти удается на него прямо взглянуть, так от ее пламенного взгляда просто стены трескаются и свечи тают…
– Вот, вот, – я про это и говорю, – поддакнула Софи. – Если он ее обманет, Кэти этого может просто не пережить… Ну, будем надеяться, что обойдется… И вот еще у меня к тебе что, Мари… Скажи, ты хоть сколько-то в курсе дел своего мужа?
– Ну… смотря что тебя интересует… Я бы не сказала, что мы слишком друг с другом откровенничаем…
– Вроде бы, по слухам, Ефим по чьей-то наводке заинтересовался сибирским золотом или еще чем-то в горнодобыче. Так сложилось, что от развития этих интересов и грядущих действий Ефима с компаньонами многое зависит в жизни одной моей давней знакомой. Ты не могла бы узнать? Я буду благодарна за любые сведения… Золото… Сибирь… Концессии…
– Я попробую, – помолчав, сказала Мари. – Но, сама понимаешь, твердо обещать ничего не могу… Это же Ефим. Закрытый стальной шкаф без орнамента на дверцах. У нас с ним как: он дает мне деньги на все мои прихоти и никогда не лезет в мои дела. От меня требует того же… Но я попытаюсь до твоей вечеринки что-нибудь разузнать…
– Спасибо тебе, Мари! – искренне воскликнула Софи. – Поверь, это действительно для меня важно…
Восемнадцатилетняя Елизавета Гордеева, которую по прежней привычке многие называли детской кличкой Лисенок, не заглядывая в раскрытые на пюпитре ноты, упражнялась на пианино. Надо признать, что кличка весьма шла ей. Из троих детей Пети и Элайджи, которые в детстве все были ярко-рыжими, теперь лишь она одна сохранила огненно-полыхающую непокорную гриву. Анна-Зайчонок с годами обзавелась медово-русой косой, а Юрий-Волчонок, напротив, потемнел, и нынче имел густую, темно-каштанового оттенка шевелюру. Удивительно, но волосы матери детей, Элайджи, по сю пору сохраняли свой ослепительный оранжевый блеск, ничуть не уступая по пышности и красоте волосам старшей дочери.
Когда-то всех троих детей юродивой Элайджи тоже считали едва ли не слабоумными, так как они практически не получали в семье никакого общественного воспитания, плохо говорили, прекрасно, как и их мать, ориентировались в лесу, но среди людей вели себя, мягко сказать, диковато. Все изменилось после девятилетней давности событий, когда «звериная троица» подружилась с Матвеем Печиногой, сыном Веры Михайловой, инженер Измайлов фактически «приручил» их, Соня Щукина обучила Волчонка читать и писать, а у Лисенка открылся поистине феноменальный музыкальный дар.
После этого всем вроде бы стало ясно, что дело вовсе не в природе и не в устройстве мозгов «звериной троицы», а в воспитании. Но кто этим станет заниматься? Инженер Измайлов после определенных событий их откровенно сторонился, а потом и вовсе отбыл в Петербург. Элайджа, которая сама с детства была «не от мира сего», ничем не могла им помочь. Вечно пьяненький или пропадающий на охоте Петя Гордеев по-своему, конечно, любил детей, но не умел с ними общаться, и как-то серьезно вложиться в их воспитание попросту не мог. Мария Ивановна Опалинская, которой вроде бы сам Бог велел заняться воспитанием странных отпрысков брата (после Шурочки у нее больше не могло быть своих детей) так никогда и не сумела себя заставить деятельно заинтересоваться судьбой племянников. И вроде бы ситуация представлялась вполне тупиковой, но, неожиданно для всех, участие в их судьбе принял Дмитрий Михайлович Опалинский. К явному неудовольствию жены и сына, он сам беседовал с племянниками, играл, уделял им много времени. Привез из Тобольска учителя из бывших ссыльных, а потом, когда тот значительно поднатаскал старших детей, отправил их учиться в Екатеринбург, в гимназию с пансионом. Там же Елизавета должна была частным образом обучаться музыке. Впрочем, данная попытка не удалась совершенно. В Екатеринбурге Волчонок постоянно грубил учителям и отчаянно дрался с новыми однокашниками по любому поводу, а Елизавета-Лисенок отказывалась от пищи и сидела на уроках, уставившись в одну точку. При этом ее музыкальные успехи попросту обескураживали всех без исключения преподавателей. Музыке она училась охотно, но не была особенно прилежной, и техника ее, естественно, оставляла желать много лучшего. Поражало другое: рыжая девочка могла превращать в музыку все, что угодно – дождь за окном, цветущий сад, облик человека… Все это оставалось в музыке легко узнаваемым и при том – исполненным дикой, но обворожительной гармонии.
По рекомендации гимназических учителей и воспитателей дети были возвращены в Егорьевск. «Грех загубить такой талант, непростительный грех!» – качали головами немногочисленные екатеринбургские музыканты, всячески пытаясь напутствовать угрюмую ученицу и ее опекуна.
Воспользовавшись их рекомендациями, Дмитрий Михайлович с трудом, но сумел разыскать в Сибири профессионального учителя музыки, который согласился приехать в Егорьевск и обучать Елизавету. Им оказался старичок Людвиг Францевич, который когда-то, много лет назад, будучи молодым, подающим надежды пианистом и композитором из немецкой музыкальной семьи, задушил из ревности молоденькую жену, застав ее с любовником, и за убийство отправился по этапу в Сибирь. Последние годы он жил на поселении в Тобольске и руководил сборным казачьим оркестром.
На удивление всем учитель и ученица почти сразу поняли друг друга и тесно, насколько это вообще было возможно при таком сочетании судеб и характеров, сошлись между собой. Под руководством Людвига Францевича Елизавета не только делала музыкальные успехи, но и стала учиться письму и математике, соглашалась по заказу играть на пианино для родных и друзей. Дмитрий Михайлович по-прежнему не оставлял всех троих детей своим попечением, и они тоже платили ему если не доверием (этим, пожалуй, после отъезда инженера Измайлова никто, кроме их матери, похвастаться не мог), то откровенной и стойкой приязнью.
При том, несмотря на все свои успехи, старшие брат и сестра оставались все же странноватыми и трудными в повседневном общении. Зато Анна-Зайчонок совершенно преодолела свою былую дикость и за несколько лет, на глазах у всех домашних, превратилась в пухленькую, миловидную, общительную девочку, а потом и в девушку. Учение ее не влекло. Быстро и легко выучившись читать, писать и, особенно, считать, она более абстрактными науками себя не утруждала. Зато трактир «Луизиана», в котором хозяйничали престарелые Самсон и Роза, ее и брата с сестрой бабка с дедом, привлекал Анну издавна, а с недавних пор стал основным местом ее пребывания. Роза даже выделила и оборудовала для внучки флигелек, в котором когда-то, до замужества жила ее мать, Элайджа. Зайчонок подробно и въедливо входила во все дела непростого трактирного хозяйства, в прибыли и расходы, в ведение счетов, в поставки по договору и оптовые закупки, и уже в четырнадцать лет, заменяя Розу, умело хозяйничала в большой зале, управляя прислугой и легко окорачивая подвыпивших мастеровых и приисковых рабочих, если они позволяли себе какие-то вольности по отношению к молоденькой хозяйке. Всегда склонная к полноте Роза в последние годы так разжирела, что даже двигалась с трудом и предпочитала раздавать распоряжения, сидя в огромном, на заказ сделанном кресле, уставив распухшие, босые (ни в одни туфли не влезающие) ноги на специальную скамейку. Самсона все чаще мучил застарелый ревматизм. Илья Самсонович держал «Калифорнию» и магазин при ней, трактир в Мариинском поселке, четыре штофные лавки с гостиницей на тракте и планировал еще расширяться, как-то вовсе не помышляя о судьбе владения престарелых родителей. Оттого, быть может, как-то незаметно, само собой, получилось так, что всеми делами в «Луизиане» фактически управляла шестнадцатилетняя девчонка, про которую можно было бы сказать: «едва забросившая своих кукол». Да вот только кукол-то у Зайчонка никогда не было, и никогда она с ними не играла…
Теперь Зайчонок остановилась в дверях, стояла, прислонившись к притолоке, и, аккуратно лузгая в кулак кедровые орешки, прислушивалась к музицированию старшей сестры. Когда та закончила свои упражнения, Анна закашлялась, привлекая внимание.
– А, Зайчонок, проходи! – Елизавета явно обрадовалась сестре. – Хочешь, я маму позову?
– Нет, – мотнула головой девушка. – Я нынче к тебе пришла. У меня теперь грусть случилась.
– Отчего же у тебя «случилась грусть»? – усмехнулась Елизавета.
– Да разве так скажешь? – Зайчонок помотала головой, толстая коса метнулась поперек высокой груди. – Тут что-то щемит… Бывает… Ты мне сыграй ее…
– Хорошо, – сразу же согласилась Лисенок. – Подожди только минутку… присядь…
– Да я постою, – возразила Зайчонок. – Когда стоишь, больше всего вдаль видать.
Лисенок склонилась над клавишами, осторожно, словно пробуя воду в озере перед купанием, притронулась к ним кончиками пальцев. Привычка как бы играть на пианино, не извлекая из инструмента реальных звуков, но при том слыша их внутри себя, сохранилась у нее из детства.
Зайчонок спокойно ждала.
За ее спиной появилась еще одна девушка, заглянула в комнату, осторожно притронулась к плечу Анны. Вздрогнув, Анна обернулась и тут же, узнав гостью, приложила палец к губам, глазами указав на склонившуюся над клавиатурой Елизавету. Вновь пришедшая согласно кивнула Зайчонку и, сделав шаг назад, прислонилась к стене.
Елизавета начала негромко играть. Обе девушки внимательно слушали простенькую мелодию, не слишком печальную, скорее светлую и обещающую что-то в недалеком будущем.
Когда музыка закончилась, обе вместе прошли в комнату и согласно сели на застеленный одеялом топчан.
– О, Соня! Здравствуй! – приветствовала вновь прибывшую Лисенок. – Ты Волчонка ищешь?
Соня кивнула, потом спросила с любопытством.
– А что ты сейчас играла?
– Зайчонкину грусть, – ответила Елизавета.
– Угу, – вздохнула Соня. – У меня бы не так получилось.
– Ты бы не так ее сыграла? – заинтересовалась Лисенок. Все убеждали ее в обратном, но ей все еще трудно было поверить в то, что другие люди не слышат, подобно ей, весь мир в виде величественной симфонии сплетающихся между собой мелодий…
– Да нет, что я могу сыграть! – улыбнулась Соня. – Моя грусть по-другому звучала бы…
– А какая у тебя грусть? Отчего? Можешь сказать? – тут же влезла Зайчонок. – Вот я, например, – не знаю. Шебуршится здесь что-то, и хочется чего не поймешь. То ли заплакать, то ли пирожное, то ли поругаться с кем…
– Я-то знаю, – печально произнесла Соня. – Да что в том толку?
– Как – что толку? – нешуточно удивилась Анна. – Если доподлинно знаешь, так надо пойти и с ней разделаться.
Старшие девушки согласно рассмеялись. Лисенок смеялась странно и, пожалуй что, жутковато – почти беззвучно разевая рот, полный мелких белых зубов. После Соня обернулась к Зайчонку и пожала неширокими плечами:
– Матвей уезжает учиться, это решено. Я с ним поехать не могу. Как же с этим разделаться?
– Но он же вернется… – не очень уверенно предположила Зайчонок.
– Может быть, и вернется, – сказала Соня. – А может, и нет. Да и годы пройдут, пока он выучится. В Екатеринбурге полно других девушек, не чета мне. Умных, смелых, богатых. Меня он уж точно позабудет…
– Если Матвей тебя на кого-то в Екатеринбурге променяет, так сам дурак, – раздраженно заявила Зайчонок. – А ты не печалься, в девках не пропадешь. Наш Волчонок тогда на тебе со всей душой женится. Я-то знаю…
– Анна! Что ты говоришь?! – воскликнула шокированная Соня. – Это же чепуха какая-то!
Лисенок криво усмехнулась. Потом, по-видимому, решила отвлечь девушек от острого разговора.
– Соня, ты ведь рисуешь прилично, – начала она. – Окажи мне услугу…
– Конечно, Лизонька! – тут же согласилась Соня. – А что тебе нарисовать-то? Пейзажик какой?
Лисенок поморщилась. Она не любила, когда ее называли уменьшительными от «Елизаветы» именами. И Сонины «пейзажики» не любила тоже. Все они казались ей похожими не на могучую тайгу, которая одна только и окружала город, а на сахарные, дешевые и липкие пряники, которые кульками продают в лавке.
– Нет. Ты умеешь людей рисовать так, чтобы похоже было?
– Это сложно для меня… Но… можно попробовать… Чей же ты портрет хочешь?
– Марьи Ивановны Опалинской, – чуть запнувшись, выговорила Лисенок.
– Зачем тебе?! – воскликнули обе девушки разом, а Соня добавила. – Ты же вроде никогда ее особо не жаловала…
– Не жаловала, а вот – хочу! – упрямо повторила Лисенок, пряча взгляд. – Тетка она мне… и вообще…
– Ну ладно… я попробую… – с сомнением выговорила Соня. – Да только я же ее и не вижу никогда. Она у нас не бывает…
– На заимке у Черного озера, в Варварином тереме ее портрет есть, – быстро, как о чем-то продуманном, сказала Елизавета. – Я могу тебя туда свести, ты оттуда и срисуешь. Я-то сама там часто бываю, на рояле упражняюсь. Дмитрий Михайлович дозволяет в любое время…
– Послушай, а эти… странницы и прочие монашки… ну, которые после смерти Марфы Парфеновны там живут, они тебя, с твоей музыкой…. не гоняют? – спросила Зайчонок. На каком-то очень глубоком и явно не сознательном уровне вырастающую прямо из природы музыку сестры она всегда воспринимала как решительно не христианскую.
– Да нет, – удивилась Лисенок. – Некоторые, наоборот, слушать приходят. Другие шипят, конечно, но – тихонько. Да я их и не вижу почти…
– Ты, Лисенок, вообще никого не видишь, – усмехнулась Зайчонок. – Кроме своей музыки…
– Почему? – возразила Елизавета. – Вот теперь тебя вижу, Соню… Еще кое-кого…
– Это кого же? – лукаво подмигнув Соне, спросила Зайчонок.
Лисенок наклонилась и, подняв с пола скинутую туфлю (нажимала на педали она всегда босиком), стремительно бросила ее в младшую сестру. Зайчонок привычно уклонилась, оставшись сидеть, а Соня испуганно вскочила.
– Отыщи Соне Волчонка, – распорядилась Елизавета. – А я пока Сонину печаль по Матвею сыграю…
Из которой читатель узнает о судьбе семьи Щукиных, а молодое поколение егорьевцев пытается решить свои проблемы
Брат и сестра были похожи друг на друга, и исполнены Творцом (кто бы Он ни был) в одной цветовой гамме – теплой и ликующей, но непоправимо осенней. При этом юноша выглядел таинственной и даже немного жутковатой тенью своей яркой сестры, вроде тех лиловатых теней, которые осенью отбрасывают на лесную подстилку разноцветные кусты бересклета. Кожа, глаза, волосы, брови, ресницы, одежда – все в нем было такого же цвета, но на два тона темнее, чем у нее.
– Ты сегодня занимался с Соней?
– Да.
– Она – хорошая. И очень переживает из-за отъезда Матвея.
– Она говорила мне. Я… ничем не мог ее утешить.
– Чем же тут утешишь? – Лисенок удивленно подняла рыжие брови. – Разве что, как полагает Зайчонок, ты заменишь ей его…
– Я оторву ей, негоднице, косу!
– Не стоит… Лучше скажи, Волчонок, кто мы такие? Мы имеем право жить? – серьезно спросила девушка.
– Я думал об этом, – ответил он. – Мне кажется, что нам стоит по крайней мере попытаться. У тебя – талант. Ты помнишь, что сказал твой Людвиг Францевич, когда уезжал от нас?
– Да, помню. Он сказал, что больше ничему не может научить меня. Что я феноменально одарена. Что я должна ехать в Петербург, а еще лучше – в Европу. И там учиться, а потом – концертировать. (Слова «феноменально» и «концертировать» Лисенок произнесла по слогам). Но даже если он прав, я не могу представить себе, как нам все это сделать…
– Во всяком случае это может быть целью.
– Наверное, ты прав. Если мы куда-нибудь денемся, то Анна – забудет и освободится.
– А разве сейчас она не забыла?! – Волчонок выглядел искренне встревоженным.
– Я думаю, нет. Она никогда не говорила со мной об этом, но иногда у нее бывают такие моменты, когда, мне кажется, она чувствует, и, может быть, что-то припоминает… Я тогда пытаюсь успокоить ее, но ты знаешь, какой из меня утешитель…
– Очень хороший, – возразил Волчонок. – Твоя музыка говорит за тебя.
– Вот разве что, – Лисенок пожала плечами.
– Может быть, Дмитрий Михайлович мог бы нам помочь? – помолчав, спросил Юрий. – Ты не говорила с ним?
– Нет, не говорила. Не знаю, захочет ли он, чтобы я уехала навсегда…
– Почему? Напротив, он всегда соглашался с Людвигом в том, что глупо хоронить в Егорьевске такой талант, как у тебя…
– Это было раньше…
– Но что же изменилось теперь? Разве он стал хуже к нам относиться? Я не заметил…
– Поверь мне на слово, кое-что изменилось…
Лицо Маньки Щукиной, старшей Сониной сестры, было похоже на круглую расписную миску, на которой кто-то не слишком старательно нарисовал большие блекло-голубые глаза, курносый нос-кнопку, не слишком здоровый румянец и широкий, но узкогубый рот, полный мелких, наползающих друг на друга зубов. Притом Манька была очень мала ростом, тонка в кости и, будучи двадцати пяти лет отроду, сложением напоминала еще не сформировавшегося подростка. Впрочем, доброжелательной Соне сестра, которая с рождения Стеши служила у них в доме, казалась весьма привлекательной.
– Вот уедет он и меня позабудет, – горько сказала Соня Маньке, которая мыла пол в гостиной. – Так же, как тебя твой Крошечка позабыл…
– Ноги подбери, – велела Манька, елозя тряпкой возле скамьи, на которой сидела Соня. – Крошечки-то, может, и в живых давно нет…
– Но Матюша-то жив покуда! – горячо сказала Соня.
– Так не пускай его!
– Как же я могу поперек его да мамы Веры желаний пойти?! Кто я такая?
– Приживалка, – безжалостно припечатала Манька, полоща тряпку в ведре. – Я на жалованье служу, а тебя из милости взяли. В память Матвеева отца.
– Мама Вера меня дочкой зовет… – попыталась возразить Соня. – И папа Лёка тоже меня любил…
– Про Алешу я ничего сказать не могу, – заметила Манька. – Только он уж нынче в могиле давно. А чтобы Вера Артемьевна кого любила… Это уж я не знаю, что случиться должно. Легче один кедр в тайге другого полюбит…
– Ты ничего про маму Веру не знаешь! – воскликнула Соня. – Она…
– Да что же – она? – подождав, Манька выпрямилась с отжатой тряпкой в руке, уперев в бок маленький кулачок. – Для нее не только ты, для нее и родной сын – вроде ее выученной собаки: беги туда, сюда, сидеть, подай, принеси… Все они такие, эксплуататоры… Порода такая…
– Кто?! – Соня вытаращила глаза и от изумления приоткрыла рот. – Это мама Вера – эксплуататор?
– Конечно, – кивнула Манька и, выпятив тощий зад, снова принялась драить полы, говоря в такт ритмичным движениям. – На приисках и прочем знаешь, как она дело ведет? Чихнул неугодным хозяйке образом – штраф. Опоздал в раскоп – штраф. Занедужил хоть на сколько-то – вычет такой, что лучше бы и помер сразу…
– Не очень-то я тебе и верю, – подумав, сказала Соня. – Откуда тебе знать, если ты в доме служишь и на приисках бываешь хорошо, если раз в год?
– А про братьев-сестер наших позабыла? Я ж, в отличие от тебя, вижусь с ними. Они мне про свою жизнь рассказывают, не таят ничего.
В семье Щукиных изначально было семеро детей. Мать их умерла при рождении Сони, а саму Соню, погибающую от истощения и неухоженности, спустя несколько месяцев взяла к себе Вера Михайлова. Оставшиеся шестеро детей жили, фактически предоставленные сами себе. Пьяница отец и до своей гибели не очень-то ими занимался. После смерти чахоточной тетки немудреное хозяйство вела Манька, старшая дочь. Прочие перебивались сезонными заработками на прииске и в поселке, подворовывали. Все без исключения Щукины ходили в обносках и никогда не ели досыта.
Когда Вера по просьбе Сони наняла Маньку приглядывать за новорожденной Стешей, с деньгами и особенно со жратвой стало полегче. После все как-то пристроились. Старшие братья Ленька и Ванька работали на вскрышке торфа сначала на Мариинском прииске, а потом и на «Счастливом Хорьке». Ленка вышла замуж за приискового рабочего. Карпуха нанялся в кабак подавальщиком. Слабоумный Егорка гонял в луга коров. Все Щукины, кроме Маньки и Егорки, были не дураки выпить. Даже Ленка, как Манька ее ни стыдила, пристрастилась к водке вместе с пьяницей мужем. Позапрошлой зимой Ванька пьяным насмерть замерз на тракте. Карпухе в трактирной драке выбили все зубы. Ленкин муж по пьянке же упал в полынью и поморозил легкие. Теперь каждую осень и зиму помаленьку выкашливал их наружу… Ленька единственный из всех обучился грамоте, связался со ссыльными рабочими-агитаторами и участвовал в стачке, подписывал какие-то требования и воззвания. После всего вылетел с прииска вверх тормашками и с горя тоже запил, пропивая все из дома и поколачивая жену…
Соня поселковых родных избегала, честно сознаваясь перед Матвеем в собственной трусости и нелюбви, и только оставшемуся в родительской развалюхе Егорке носила иногда тайком в узелке еду и что-то из платья.
А Манька, видать, общалась с ними и, по старой памяти, на правах старшей сестры, все пыталась как-то расспрашивать, наставлять, стыдить…
– Все равно! – Соня упрямо выпятила губу. – Не верю я. Мама Вера не такая…
– Ну и не верь, – Манька домывала порог. – Вот придет время, и всех эксплуататоров – на помойку! Тогда и увидишь. А те, кто спину гнул, будут в светлых хоромах жить…
– Ладно, – хитро прищурилась Соня. Будучи слабой и робкой по натуре, в строгой логике она всегда оставалась сильнее сестры и хорошо знала о том. – Эксплуататоры – на помойке. Те, кого эксплуатировали, – в хоромах. А кто ж в раскопе работать будет? И управлять всем?
– Вот те, кого угнетали, те и будут управлять, – не слишком уверенно сказала Манька.
– Вот ты. Ты умеешь? – спросила Соня. – Или Ленька? Или Карпуха?
– Надо будет, научатся, – подумав, твердо заявила Манька. – Когда светлая жизнь придет, народ всему научится. Главное, чтобы свобода была!
– И водку пить народ бросит? Вот Ленька с Карпухой и Ленкин муж? Придет свобода и все – больше ни капли в рот не возьмут? Сразу начнут подрядному или горному делу учиться?
– Да отстань ты от меня! – окрысилась Манька и подхватила на локоть ведро с грязной водой. – Пристала, как банный лист к заднице. Увидим все! Недолго ждать осталось!
– А почем ты знаешь, что недолго?
– Верные люди сказали, – прищурилась Манька. – Такие, которые и книжки читают, и разбирают всё не чета нам с тобой…
– Нет, ну ты подумай еще, чудак, выгода-то какая!
Рядом с высоким, широкоплечим, золотистокожим Матвеем тщедушный бледный Шурочка с темными кругами вокруг глаз казался каким-то довеском. Впрочем, довеском вполне энергичным, единственным выигрышным очком во внешности которого были глаза – синие, живые, лукавые, обрамленные пушистыми ресницами и буквально искрящиеся всякими планами и задумками. Серо-коричневые спокойные глаза Матвея на Шурочкином фоне смотрелись тускловато.
– Если ты насчет самоедов сомневаешься, – продолжал уламывать Шурочка. – Так ты за то не волнуйся – мы их облапошим в два счета, они и разобрать не сумеют… А прибыль-то получится сам-пять, не меньше! А если ее сразу в оборот пустить… – Шурочкины замечательные глаза мечтательно и остро блеснули.
– Шура, да отвяжись ты от меня наконец! – досадливо покачал головой Матвей. – Сколько тебе раз говорить: у меня и денег нет, чтобы в твои авантюры ввязываться…
– Как это нет? Как это нет? – засуетился Шурочка. – Ты ж, считай, взрослый парень. Что ж тебе, мать и денег своих, что ли, не дает?
– Дает, коли попрошу, – Матвей флегматично пожал плечами. – А только на что мне? Сыт, одет, покупных развлечений у нас в Мариинском поселке не густо… Разве что Соне книгу или ленту купить, да Стеше сладостей или игрушку… Так они и сами могут…
– А к делам-то? К делам-то она тебя подпускает?
– Да что я покамест могу? Разве подсчитать что, да баланс свести, да на прииск съездить с каким распоряжением. Это да, это – пожалуйста. Вот выучусь в Екатеринбурге на инженера, вернусь и сразу стану работать во всю силу, пусть тогда матушка от трудов отдохнет…
– Господь да будет милостив к тебе, Матюша! – с насквозь лицемерной скорбью вздохнул Шурочка. – Вот ведь как выходит… Ты своего родного отца и в глаза не видал, а уродился, если по слухам судить, весь в него – такой же блаженный и не от мира сего…
– Ты про отца… того… – с неуверенной угрозой в голосе пробормотал Матюша.
При нечастом общении с Шурочкой ему то и дело хотелось хорошенько потрясти паршивца или уж стукнуть как следует по затылку, но он никогда еще не выполнил своего намерения, так как по природе был незлобив. Да и велика ли честь крепышу Матвею бить заморыша, который к тому же с детства ни с того ни с сего мог начать задыхаться и хватать ртом воздух, словно вытащенная из воды рыба… Охота связываться!
– Да я ничего плохого про Матвея Александровича и сказать не хотел, – тут же пошел на попятную Шурочка. – Разные люди бывают-то, и все под Богом ходят. Просто Вера-то Артемьевна, мать твоя, вовсе из другого теста слеплена. И дела у нее железными удилами взнузданы, и по краешку ради удачи готова пройти, и рисковать ни в чем не боится. Да и приемный твой отец, Алеша, таким же был… Незадача-то какая! – белокурый юноша ударил невеликим кулаком по ладошке. – Нет бы наоборот обернулось…
– Как это – наоборот? – не понял Матвей. – Что ты говоришь-то?
– Ну, чтобы я ихним – Алеши и Веры сыном – уродился, а ты – у моей матушки с отцом, или уж у дяди Пети с Элайджей… А чего? – Шурочка, прищурившись и отступив на шаг, оглядел приятеля. – Ты и по колеру со зверятами нашими схож, и по повадкам… Открывали бы вы с матушкой библиотеки да лекарские пункты на приисках, книжки бы читали, может быть, она бы тебя на рояли научила… А я бы уж у Веры Артемьевны и Алеши самым расприлежным образом учился дела да деньги делать, ни на кого не оглядываясь… А что я при таком раскладе наполовину остяком бы получился, так это – не страшно. Отец-то твой тоже полукровкой самоедским был, так что – так на так. А ты бы инженером верно служил… Не везет Гордеевым на инженеров-то, еще с отца твоего, все с ними чего-то случается, то пристрелят, то прибьют, то сами удавиться норовят… А ты бы уж и не делся никуда…
– Ты… Ты… – незлобивому Матвею на миг показалось, что уж теперь-то Шурочка точно получит по шее.
– А чего – я? – Шурочка предусмотрительно отскочил от пыхтящего приятеля в угол комнаты. Видимо, ему тоже померещилось что-то подобное. – Я просто для примера сказал, ну, сочинил как будто. А у тебя и фантазии никакой нету. Ничего-то себе вообразить не можешь…
– Не могу, – неожиданно согласился Матвей. – Прав ты, Шура. В том беда моя. Что увижу, услышу, сочту или прочту – то и есть. А более – ничего. Оттого и Соню часто не могу понять. Она обижается.
– Да что тебе до нее? – удивился Шурочка. – Пусть себе обижается, коли хочет.
– Как – что? – не понял Матвей. – Она – самый близкий мне человек. Мы, ты не знаешь, что ли? – выросли вместе.
– Ну, это конечно… – согласился Шурочка. – Но так-то, если рассудить, кто она тебе? Твоя мать ее из милости в дом взяла, кровного родства между вами нет…
– В том-то и штука! – с редкой для него эмоциональностью воскликнул Матвей. – Если б она мне кровной сестрой была, или единоутробной, как Стеша, так и все было бы ясно! Я бы и любил ее как сестру, и заботился о ней. А так…
– А… вот оно что! – сообразил Шурочка. – Ты, значит, теперь никак решить не можешь, можно тебе с ней лечь… или нельзя?… Но это ведь и вправду запутано. В одном дому, да и Вера Артемьевна еще неизвестно, как взглянет. Зачем тебе в такое влезать? Соню я твою не раз видел, как она к зверятам приходит, так она, честно сказать, – дурнушка и дикарка. Неужели тебе поприглядней не найти?
– Да зачем?! Кого мне искать? Для меня Соня…
– Как – кого? – изумился Шурочка. – В тебе кровя-то небось играют? Так и найди себе девку посговорчивей из приисковых, или на Выселках, и все дела. Не хочешь постоянную, можно и так – на раз. За рубль, да за кулек пряников – любая пойдет… – Шурочка еще раз оглядел статную фигуру Матвея и тяжело вздохнул. – Не стану тебя обманывать, рубль – это для меня. Ты – можешь сэкономить, обойтись пряниками. Уж очень ты для девок приглядный…
– Что ты ерунду городишь? – Матвей отвернулся и пятнисто покраснел. – Соня… мы… я… никогда не стал бы… за пряники…
– Господи, да ты что, никогда еще?… – Шурочка всплеснул руками. – Ну это уже вообще свинство!.. Да чтобы в твои годы, да в приисковом поселке, да с твоими статями… Безумство сплошное! Ну, Матюша, ты вот меня корил, а я так до боли прав оказался: яблоко от яблони недалеко падает. Если по роману Софьи Домогатской судить, так и отец твой…
– Замолчи! – зарычал Матвей, недвусмысленно растопырив руки и делая шаг по направлению к Шурочке.
– Молчу, уже молчу… – Шурочка приложил палец к губам и, осторожно обойдя Матвея, остановился у двери. – И ухожу. А ты насчет предложения-то моего делового подумай. Если ты еще и с девками… не того, так чем же тебе, бедолаге, и заняться?… А ежели насчет девок решишься, так только свистни. Я тебе уж, так и быть, по дружбе поспособствую. Ты-то, небось, в этих делах неловок. А Сонька твоя страшилка и не узнает ничего… Ухожу… Ухожу… Уже ушел…
В которой Софи подготавливает побег Гриши Домогатского из сибирской ссылки, а Элен Головнина выясняет биографию Ачарьи Дасы
Дежурный дворник у ворот огромного доходного дома на Фонтанке без звука, с поклоном пропустил Софи и явно имел какой-то вопрос к невзрачно одетой Оле Камышевой. Однако, когда Оля подняла глаза и встретилась с дворником взглядом, вопрос испарился, не родившись.
– Отчего нам надо здесь именно говорить? – спросила Софи. – Можно было бы в кофейне или уж на вечеринке, коли ты прийти согласилась.
Оля загадочно улыбнулась.
– Здесь тихо и надежно, да и еще знакомых увидишь…
Софи покорилась, но все же с удивлением оглядывала вывески: «Клавишные инструменты Мейера» «Столярная мастерская – краснодеревцы и белодеревцы надежно выполнят заказы любой сложности»…
Их путь лежал в небольшую слесарную мастерскую, у двери которой висела небольшая черная доска – на ней мастер писал, в какой квартире он работает, чтобы его всегда можно было найти. Сейчас она была пуста, следовательно, слесарь находился на месте.
Согнувшийся над обширным столом мужчина в фартуке и очках чинил «аристон» – музыкальный ящик. Яркая передвижная лампа на деревянном штативе освещала его прочерченный резкими линиями профиль.
– Игнат! – удивленно воскликнула Софи. – Ты – здесь? Здравствуй!
Слесарь обернулся, встал, машинально обтер руки об фартук.
– Здравствуйте… Софья Павловна… – медленно сказал он, а потом снял очки и перевел вопросительный взгляд на Олю.
Когда-то Игнат был рабочим на прядильной фабрике Михаила Туманова, а потом повздорил с самим хозяином и был им уволен. В то же время он посещал политический кружок для рабочих, который вели подруги Софи – Оля Камышева и Матрена Агафонова. После пожара в игорном доме Софи с Игнатом ни разу не встречались.
Несмотря на Олины усилия, разговор не клеился. Все собеседники чувствовали себя едва ли не болезненно чужими друг другу. Софи мысленно удивлялась на то, какими постаревшими и как будто высушенными невидимым пламенем выглядят Оля и Игнат. Некоторое представление об этом пламени давали искры, которые вспыхивали в глазах у обоих каждый раз, когда речь заходила об интересующих их предметах – революции, стачках, растущей политической активности рабочих…
– Только отчего же вы здесь, Игнат? – не удержалась от подколки Софи. – Слесарь-водопроводчик, у богатых домовладельцев… Я думала, вы теперь будете… ну, хоть на Путиловских заводах, там, где рабочие массы… в гуще, так сказать, борьбы…
– Мы с товарищами рассудили, что так удобнее всего будет, – спокойно разъяснил Игнат. – Сюда, в мастерскую, любой может зайти, не вызывая никаких подозрений. Починить, залудить кастрюлю, другая слесарная работа. И я сам могу когда угодно уйти. Очень удобное с точки зрения конспирации место.
– Ах, вот оно что… – протянула Софи. – А я и не подумала…
Однако, по подрагиванию крыльев длинного носа Игната, Софи и даже Оля видели, что слесарь задет упреком.
– У Софи дело ко мне и к товарищам, – поторопилась Оля. – Ее брат, Григорий Домогатский, сейчас в Сибири, в ссылке. И очень нехорош. Болен, хандрит и вообще… Она пришла спросить, нельзя ли как-нибудь делу поспособствовать…
– Так а на что ж товарищ Григорий рассчитывал? – удивился Игнат. – Что путь борца будет розами усыпан? Революций без жертв не бывает, а ссылка – еще не самая большая жертва…
– Я так понимаю, что Гришу больше всего как раз бездействие и мучит, – дипломатично сказала Софи, не желая ссориться с Игнатом. – Невозможность работать…
– Ну, это совсем другое дело, – оживился слесарь. – Вот об этом надо думать, писать… Надо помочь товарищу Григорию, создать возможность приложить свои силы, продолжать…
– Разумеется, разумеется, – прервала Игната Софи. – Но сначала мне хотелось бы его оттуда вытащить…
– Бежать? – Игнат снова надел очки, словно прикрылся ими, и внимательно поглядел на Софи. – Вы именно это имеете в виду?
– Да! – кивнула Софи. – И желательно, за границу. Я знаю, что такая возможность была раньше, много лет назад, а теперь – просто не имею сведений. Но могла бы спросить, если бы вы смогли по своим каналам передать письмо. Моей… подруге и ее мужу. Они там живут, в Сибири, ее муж еще из народовольцев…
– Наивная, давно изжившая себя идеология, – начал Игнат. – Крестьянство, в противоположность промышленному пролетариату, никогда не сможет…
– Игнат, не сейчас, – мягко прервала его Оля. – Софи всегда была далека от этого, и твоих речей просто не разберет. Что ж, мы сможем верно передать письмо в Екатеринбург, чтобы оно не попало в руки фараонов?
– Ну разумеется, сможем, – подумав несколько мгновений, сказал Игнат. – Пусть Софья Павловна его напишет, возьмет какую-то безделицу, как бы починить, и придет сюда. А потом, как ответ придет, или еще что, я пришлю мальчишку сказать, что заказ исполнен и можно забирать…
– Спасибо вам, Игнат! – воскликнула Софи, прижав руки к груди. – Знайте, если надо будет, я могу и сама в Сибирь поехать, чтобы Гришу выручить…
– Не думаю, что это целесообразно, Софи, – покачала головой Оля. – Ты всегда привлекала к себе слишком много внимания. В нашем деле это – помеха.
– Может быть, так, а может быть, – и наоборот, – заметила Софи.
Игнат неожиданно кивнул, словно подтверждая ее слова, и о чем-то задумался.
Выходя со двора, Софи и Оля встретили не то пять, не то шесть женщин разного возраста, по виду – прислугу. Каждая из них несла большой, вкусно пахнущий горшок, накрытый полотенцем.
– Что это, Оля? – удивилась Софи. – Куда они все идут?
– Да вон, к Менакесу идут, в аптекарский магазин, – объяснила Камышева. – За маслом. Каждый год так.
– Отчего же за маслом – с кастрюлями? – по-прежнему не понимала Софи.
– Так завтра же пасха. А в горшках – закваска, опара для куличей. В каждый горшок Менакес им за рубль капает одну каплю розового масла. Как еще такую покупку унесешь?
– Да, действительно, – подумав, согласилась Софи. – Чтобы унести одну каплю масла, другого способа не придумаешь…
1899 г. от Р. Х., апреля месяца, 12 числа, С-Петербург
Любезная и дорогая моя Софи!
Все твои пожелания Элен Головнина уже выполнила успешно, и хоть по этому поводу можешь тревоги свои оставить.
Рассказываю все подробно, как ты знаешь, слабый ум мой устроен так, что не умеет отбирать немногое, из самого важного, а регистрирует все по порядку, как скучный, бесталанный маленький чиновник входящие и исходящие документы.
Настоящее имя и чин «индуса» Дасы я, как и полагала, узнала почти сразу, без всяких к тому затруднений. До всяческих преображений звали его Федор Богданович Дзегановский. Старая шляхетская фамилия, предки на службе у российской короны с прошлого века. Не бедствовали никогда, но и особого богатства, впрочем, не снискали, да и где ты видела богатых чем-то иным, кроме гонора, поляков? Федор окончил Пажеский корпус, служил вроде бы успешно, имел успех у дам, вращался в придворных кругах.
После произошло что-то, о чем толкуют по-разному, но в общем – молодого Дзегановского особо не принижающее. Не то дуэль из-за дамы, не то – долги чести (причем, по обстоятельным слухам, даже не его самого – а мужа сестры), не то что-то такое из области вечно бунтующей Польши и согласного тому зова шляхетской крови в жилах нашего Федора-Дасы… В общем, Бог весть, дело давнее. Результатом же всего был выход в отставку, продажа родового имения под Псковом, множество громких и опасных заявлений в тесном дружеском кругу, недружественный интерес жандармов и… тихий отъезд из Петербурга неизвестно куда. Многие тогда полагали, что тут-то гонористому Дзегановскому и сгинуть окончательно, но, как позже оказалось, просчитались.
Дальнейший кусок – сплошные и даже не слишком достоверные гипотезы, но, я полагаю, тебе следует знать, чтоб хоть как к разговору с ним подготовиться.
Рассорившийся со всеми в Петербурге и отправившийся искать «уголок оскорбленному чувству» Федор-Чацкий почему-то двинулся не в сторону Европы (чего и следовало бы от поляка по крови ожидать), а в сторону прямо противоположную – на восток. Проехал всю нашу Сибирь, был в Китае, в Монголии, в Индии, в Бирме и в Непале (чтобы все это тебе перечислить, специально сходила в Васечкин кабинет и взглянула на глобус). Если чего-то в тех местах я не увидела, так и там он, возможно, побывал. Далее (опять же слежу по глобусу) он на английском корабле обогнул мыс Доброй Надежды, принял какое-то участие в тамошней войне и, спустя время, очутился на Британских островах. Там его действия покрыты мраком неизвестности, который мне не удалось никакими усилиями рассеять.
В азиатских же странах Федор Богданович проводил время известным и весьма плодотворным, на его собственный взгляд, образом, хотя и не слишком понятным для такого просто устроенного человека, как я. В самых общих чертах скажу так: там, среди Гималаев и прочих хребтов и тропиков, он искал Истину. Не больше, не меньше. Разумеется, у него были там какие-то таинственные учителя, он жил в каких-то монастырях, поднимался на какие-то горы и спускался в какие-то пещеры. Кроме того, Дзегановский попутно постиг мистические глубины собственной души и научился управлять какой-то энергией своего тела. Ко всему этому я, право, не знаю, как относиться и оставляю на твое усмотрение. Как православной христианки мое к этому отношение однозначное, и ты легко можешь предположить, какое именно. Ты же – разбирайся сама, есть ли во всем этом хоть что-то, кроме откровенного шарлатанства. Если ты теперь спросишь меня: нашел ли он эту самую Истину хоть по его собственному мнению? – то я, конечно же, не смогу тебе ответить. Спросишь, если к слову придется, у него самого.
Однако, возвратившись после семилетнего (если я правильно все сосчитала) отсутствия в Петербург, Федор Дзегановский уже называл себя Ачарья Даса и вполне уверенно проповедовал какой-то путь, следуя которому человечество в целом (опять же, – не больше, не меньше) поднимется на какую-то новую ступень. Провозвестниками и первопроходцами этого пути являются специальным образом инициированные в Гималаях люди, в числе которых, разумеется, сам Ачарья и все его ученики и ученицы.
Теперь о последних. Оккультный кружок Дасы сформировался почти сразу после его возвращения из странствий и с тех пор (уже около года) в основе своей остается без особенных изменений. И дело вовсе не в том, что они закрыты и как-то специально таинственны. Просто туда, по-видимости, сразу всосались все желающие припасть к этому именно виду истины. И теперь они ее там как-то обихаживают и развивают. Никаких страшных слухов про кружок Дасы в обществе не ходит. Напротив, на общем пейзаже петербургского оккультного болота они считаются весьма светскими и даже наукообразными. Имеют какие-то связи с медицинскими кругами.
Теперь касательно того, что тебя, несомненно, интересует. Ксения Мещерская с самого начала и до дня своей смерти была активным членом кружка, давала деньги на его функционирование, предоставляла помещения для собраний и т. д. Врагов среди мистиков-сподвижников, вроде бы, не имела. Самому Дасе ее смерть однозначно невыгодна. Убийство ее, естественно, вызвало среди оккультистов множество слухов и толков, но ничего даже приблизительно здравого я в их числе не обнаружила. Насчет Ирен мне не удалось выяснить ничего определенного, это я оставляю на твою долю. Сложность в том, что в пределах кружка все они существуют под вымышленными, псевдоиндийскими именами. Например, Ксению Мещерскую звали Ришикеш Рита.
Путем организации несложной интриги мне удалось пригласить господина Ачарью Дасу на наш прием и получить его согласие. В дело пошли два моих светских знакомства, бирманское происхождение Саджун и необходимость освидетельствования ауры (только не спрашивай меня, что это такое!) ее особнячка, доставшегося моей лучшей подруге. К сожалению, в результате всего этого Даса явится к тебе не один, а с тремя своими верными ученицами. Надеюсь, тебе это не помешает.
Ну вот, вроде и все мои новости.
Апреля, 15 числа, 1899 г. от Р.Х., г. Екатеринбург
Милая Софи!
С удивлением и радостью, конечно, получили от тебя весточку. Сколько лет, сколько зим! Понимаю, что, кабы не нужда, сроду не сподобились бы. Что тебе – петербургской писательнице и фабрикантке, – до каких-то сибирских провинциалов… Да что ж с того. Природа всего, в том числе и человеков, устроена экономически, и пенять на это глупо и бессмысленно.
Потому, как ты любишь, сразу перехожу к делу, а все приветы, новости и приседания – потом, нижеследуют.
По существу: брата твоего препроводить из ссылки за границу через верных людей – возможно вполне, коли его состояние здоровья то позволит (из твоего письма мне было недостаточно данных, чтобы диагноз поставить). Денежные затраты на сию операцию будут весьма велики, но, я думаю, ты, по своему нынешнему положению, их незатруднительно осилишь. Сложность в том, что Григорий там не один, а с женой, да еще с маленьким ребенком. Возможно ли, чтобы они выехали позже? Или наоборот, – раньше? Передай через тех же людей немедля, от этого будет зависеть весь план, к разработке которого приступаем.
Теперь ответы на другие твои вопросы.
Мы с Ипполитом Михайловичем живем вовсе неплохо. Он по преимуществу пишет, сотрудничает в Сибирской газете, еще в паре изданий, в том числе и в России, кроме того, не оставляет своих увлечений естественными науками, этнографией и ратует, из своих возможностей, за интересы самоедских народов вместе со своими друзьями, бывшими народовольцами, а ныне просто товарищами Ядринцевым, Богоразом и прочими. Совместные труды их, если пожелаешь, можно прочесть и в столице. Особенно рекомендую тебе книгу «Сибирь, как колония». Там много горькой статистической правды, но она лучше, чем красивая ложь или уж страшные легенды о наших краях.
Я, как и прежде, занимаюсь почти исключительно медициной. Практикой и двадцатилетними почти наблюдениями достигла многого, и о диагнозах и медицинских прогнозах моих, скажу без ложной скромности, ходят легенды даже среди местных докторов. Но когда-то законченные акушерские курсы – это, разумеется, не то образование, на котором может что-то серьезное базироваться, и налет шарлатанства на всей моей деятельности – не только пища для злых местных языков, но и сама я порою его ощущаю вполне отчетливо. Слыхала, что два года назад у вас в Петербурге открылся Женский медицинский институт, где учат всех, кто пройдет вступительное испытание и сможет заплатить за обучение. Годы мои вроде бы немалые, чтобы еще учиться, но, поскольку детей нам с Ипполитом судьба не послала… Не сочти за труд, разузнай там для меня подробно про этот институт, что да как, и напиши в следующем же послании. Если есть какие-то препятствия, так я хоть буду знать наверняка и перелистну страницу – не стану тешить себя напрасными мечтаниями.
Кроме обширной, и получается что, полуподпольной, практики с заднего хода (а я еще когда-то над Каденькой смеялась с ее егорьевской амбулаторией! Сама же теперь лечу, как заправская шаманка, преимущественно фитотерапией и едва ли не заклинаниями), в свободное время занимаюсь и медицинской теорией, и обобщением огромного накопленного мною материала. Боюсь, что для одного человека он просто неподъемен. Надо тебе знать, что за эти годы я вместе с этнографами, географами и метеорологами объехала почти всю Сибирь, была в Монголии и Китае. Везде собирала рецепты и описания приемов народной медицины. Восточная и самоедская медицина – это удивительный мир, практически по всем параметрам коренным образом отличающийся от медицины западной. Постичь его как целостную конструкцию невозможно, так как бурятские, к примеру, лекари, учатся у своих учителей с раннего детства, всего около 20 лет, повсюду сопровождая их, и лишь потом получают право на самостоятельное врачевание. Поэтому в моих силах лишь осуществить какой-то, весьма приблизительный и на живую нитку, практический синтез ограниченного числа восточных и западных приемов, что я и пытаюсь совершить вот уже несколько лет…
Аглая и папа живут практически в том же состоянии, в каком ты их помнишь. Наблюдать это со стороны странно. Как будто бы время течет мимо них, и лишь римские когорты и горбоносые абиссинские всадники миражами проносятся где-то по периферии их неизменного в своей основе мира.
Каденька же в последнее время тревожит меня с сугубо медицинской точки зрения. К ее всегдашней нервной порывистости и импульсивности добавились в последнее время какие-то новые, как бы не фатальные для ее рассудка, штрихи. Во время последнего визита к нам я пару раз заставала ее беседующей в пустой комнате непонятно с кем. Кроме того, она регулярно забывает всякие мелочи из бытовой жизни, и, обнаружив это, весьма конфузится и все отрицает. Иногда вдруг ни с того ни с сего, из какой-то мелочи, впадает почти в буйство, а потом, по окончании приступа – плачет (Это Каденька-то, можешь ли себе представить?!). Ипполит полагает, что я сгущаю краски, и наблюдаемые мною симптомы есть всего лишь период окончательного угасания женской сущности, который многие энергичные женщины переносят достаточно болезненно. Но я-то знаю доподлинно, что Каденькино угасание как женщины произошло под ножом хирурга тридцать лет назад. Что ж теперь?
Касательно же Любочки, ты напрасно осторожничала в своем письме и боялась меня ранить. Именно что-то подобное я и предполагала. За истекшие годы мы с Ипполитом получили от Любочки два письма, еще по одному Каденька, Аглая, и почему-то – Вася Полушкин. Содержание Васиного и Каденькиного писем мне неизвестно, а наши с Аглаей были сугубо формальными и почти одинаковыми: «не волнуйтесь за меня, у меня все хорошо, всех люблю… Ваша Любочка». Впрочем, Люба вовсе не так слаба, и, смею думать, не такой уж и воск в руках этого самого Николаши, который все-таки всегда был и, полагаю, несмотря на открывшееся высокое происхождение, остается личностью скользкой и малопочтенной.
Все без исключения, узнавшие про твое новое явление на наших горизонтах, передают тебе самые горячие приветы. Ежели я тебя правильно поняла, и ты действительно намереваешься приехать сюда сама, что ж – мы будем всею душою рады принять тебя. Учти и естественное любопытство егорьевцев: твой образ вошел в фольклор Егорьевска 18 лет назад и с тех пор только обретал новые краски. Андрей Андреевич Измайлов, ознакомившись здесь с тобою уже в фольклорной ипостаси, называл тебя наваждением нашего городка. Кстати… не знаешь ли ты, где он, что он теперь? Интересно было б узнать.
На сем пожалуй буду заканчивать. Если доведется встретиться, думаю, наговоримся всласть.
Привет и наилучшие пожелания супругу и детям.
В которой с разных сторон описывается вечеринка в бывшем гадательном салоне, Юленька Платова недовольна фамильярностью Софи, а Мари Шталь получает в подарок кольцо с изумрудом
ТОЛСТАЯ ТЕТРАДЬ В РОЗОВОЙ САФЬЯНОВОЙ ОБЛОЖКЕ. ЛИЧНЫЙ ДНЕВНИК ЭЛЕН СКАВРОНСКОЙ (НЫНЕ ГОЛОВНИНОЙ).
Господи! Как же давно я ничего в тебя не писала, моя милая тетрадочка, верная наперсница моих девичьих дум и мечтаний. Вон, даже страницы уже пожелтели по краям. Сколько же лет прошло? Страшно перечесть… Последние записи касаются Петечки, как он улыбнулся мне, как у него прорезался зубик, как встал на ножки… Петечка теперь уж как бы не взрослый… А что ж – я? Не надо, не надо о том думать, ведь не для того же взялась за перо. Хотелось по порядку увидеть все произошедшее, оценить как бы со стороны…
Но отчего же теперь, Элен? Будь честной хоть перед собой, это ведь не твой первый бал, да и сам прием в особняке Софи, который тебе вдруг заблагорассудилось описать, ничем существенным не отличается от бесчисленного количества других балов, приемов, суаре и т. п. явлений, которые ты не слишком-то жаловала даже и в юных годах, предпочитая им укромную беседу с приятным человеком с глазу на глаз… Что ж изменилось, Элен?
Вот для того-то, чтобы понять, я сейчас и встала к бюро, для того и стряхнула пыль с выцветшего переплета…
Варвара Остякова, которую Софи наняла для потребного преобразования обстановки заведения Саджун, постаралась на славу. Я еще давно поняла: в этой широколицей, улыбчивой, немногословной женщине есть скрытая восточная ирония над всем нашим суетливым, в сущности, миром, над его установлениями и привычками. Нынче, по-видимому, по счастливому стечению обстоятельств, ее собственное внутреннее ощущение нас почти идеально совпало с заказом, который озвучила для Варвары Софи.
Все было сыграно даже не на полу – а на четверть-тонах. Обивка диванов была лишь чуть мягче, чем следовало. Великолепные расписные ширмы делили помещения на укромные отсеки, размер которых был чуть-чуть меньше, чем приличествовало. Павлиньих перьев, рассыпанных повсюду подушечек странной формы (которая невольно будила фантазию – ведь все приглашенные, не упоминая о том вслух, ЗНАЛИ, что здесь было ранее), хрустальных и иных украшений – слегка многовато. Мягкий свет из разноцветных каменных светильников – чуть тускловат, хотя и приятен для глаза. Жаровни с углями и низкие не то сидения, не то лежанки возле них – можно сколь угодно наблюдать за бегучими огоньками и думать, представлять себе… Не последнюю (а как бы не первую) роль во всем играл запах. Тоже – на грани, отнюдь не лезущий в ноздри (за все время пребывания в особняке я не увидела ни одной ароматической свечи или курильницы), но тем не менее витающий и воздействующий…
В обновленных интерьерах особняка пахло изощренной восточной любовью.
Может быть, именно в искусстве покойной Саджун и подхватившей ее мысль Варвары Остяковой – все дело? Ведь все признают, что многие восточные ритуалы и способы воздействия на человека прямо граничат с колдовством. Бесовское наваждение…
Нет! Не стоит унижаться и оправдываться, Элен. На старости лет не пристало пачкаться во лжи и увертках. Будь честна. Эта тетрадь никогда тебя не предавала. Не предаст и теперь…
Если я правильно понимаю, от приглашения не отказался никто. Разумеется, сплетничали о грядущем приеме зло и во всю силу. В основном, правда, те, кто приглашения не получил. Софи, как всегда, была голо функциональна – звала лишь тех, от кого видела выгоду задуманному делу, и вовсе не думала о приличиях и последствиях. Я, как могла, смягчила ситуацию: самолично пригласила двух-трех самых заядлых, чтобы они не чувствовали себя обиженными и выделяли хоть на капельку яда меньше, чем имели в резерве.
Стол был обычным, а сладкое угощение тоже с восточным уклоном – какие-то полупрозрачные сладкие колобки, похожие на юные осиные гнезда, рассыпающееся в пальцах печенье… Кому пришло в голову, мог задуматься над тем, кто именно его готовил.
Смешно, но наряды большинства гостей тоже оказались на пол тона смелее, чем обычно. Даже я отчего-то открыла плечи (чего обычно не делаю), и почти в самом начале оставила косынку на одном из диванов. Причем, собираясь, вовсе о том не думала, и заметила все значительно позже, когда увидела других и сравнила с собой. Занятно, и есть о чем подумать. Так ли уж сознательно обусловлено наше поведение? Или правы немецкие и австрийские психиатры и лишь крошечный участок нашего мозга действительно подвластен нам? Тогда в чьей же руце остальное? Господа Нашего? Или…
Андрей Андреевич был очень мил и, замечая мою понятную скованность и смущение, в начале вечера почти непрерывно говорил мне умные и ненавязчивые комплименты. Я, в свою очередь, представляла его всем, и реагировала на удивленные (по поводу личности моего спутника) взгляды знакомых со всем возможным высокомерием. Когда я того хочу, у меня неплохо получается – никто не сказал вслух ничего такого, за что мне перед Андреем Андреевичем было бы неловко.
Великолепная Мари Шталь с лукавейшей улыбкой находила слова для каждого: одни снисходительно постукивали веером по ладони, другие – восхищенно ахали, третьи – отшатывались. Хотела бы я иметь такую же бойкость, тогда Софи явно случилось бы от меня больше пользы. Впрочем, я видела, как она сама долго беседовала с Мари и отошла вроде бы удовлетворенная результатом. Еще не знаю наверняка, но могу предположить, что Мари разузнала и рассказала ей что-то существенное о планах своего мужа.
Ирочка Гримм, расплывшаяся и какая-то поблекшая, грустила в углу. Я постаралась ее развлечь, но, кажется, не преуспела.
Ачарья Даса со свитой явился позже других – превосходен, как лицедей, выход явно продуман до мелочей. Не играл ли в театре?
Всякая присущая Европе магия и колдовство ассоциируется в сознании с черным, может быть, темно-синим цветом. Отделка, украшения – серебро, платина.
Даса был во всем белом, из украшений – тонкое золотое колечко на среднем пальце. («Как невеста или покойник!» – высказалась ехидная Мари.) В сочетании со смуглой кожей, темными волосами и глазами – крайне эффектно. Его спутницы, напротив, в темных одеждах. Держатся чуть позади, пожирают учителя празднично сияющими глазами. Фон, рама. Точнее – рампа.
Впрочем, любой спектакль неполон без нашей Софи. Во всяком случае, она так считает. Тут же кинулась к Ачарье, завладела им, учениц буквально раскидала по углам, бойко залопотала что-то удивительное, по слуху похожее на мистическое. Неужели успела прочесть что-то соответствующее? Или Петр Николаевич ее наскоро просветил?
Кстати, из забавного. Петр Николаевич присутствовал на приеме вместе со своей матушкой, Марией Симеоновной Безбородко. Почтенная дама снизошла до бального наряда и облачилась во что-то совершенно несусветное, вышедшее из моды четверть века назад, сплошь покрытое рюшами и цветами. Притом смуглость ее выдубленной сельскохозяйственными усилиями кожи могла соперничать разве что с Дасиной. Софи характеризовала свою свекровь как пристрастную ко всему на свете. Я того не заметила. Все происходящее Марии Симеоновне, по-моему, нравилось. Она трубно откашливалась и громким, привыкшим к отдаванию команд на открытом воздухе, голосом спрашивала у сына: «А вон там, в углу, на сыча похож, – это кто? Не Самарских ли младший сын? А вот та, расфуфыренная, – неужели Рогозиных дочка? Ну надо же, а ведь хорошенькая была в невестах-то…» Петя отвечал шепотом, старался занять мать едой или нейтральной беседой с кем-нибудь хорошо знакомым, и переносил весь этот кошмар со свойственным ему стоицизмом. Софи, занятая Дасой, ничуть не пыталась ему помочь.
Ачарья, между тем, слушал Софи вполне благосклонно, и уж начал что-то ей отвечать во вполне проповедческой манере (ученицы снова подползли поближе и едва ли не достали блокнотики), как вдруг произошло нечто, никем не предвиденное.
Софи внезапно вспомнила обо мне и решила представить нас с Андреем Андреевичем Дасе. Насколько я ее знаю, она боялась увлечься самой беседой и пропустить что-то важное. Хотела, чтобы я потом обсказала ей все то же, но со стороны. Это такой у нее художественный прием, часто помогающий и в реальной жизни что-то понять.
Но, пожалуй, раньше, чем она начала говорить, Андрей Андреевич удивленно улыбнулся, шагнул к Дасе и сказал:
– Вот удивительный случай! Здравствуйте, господин Дзегановский! Федор… простите, запамятовал за давностью лет отчество…
– Богданович, – машинально ответил Даса, и сам в недоумении сдвинул густые брови, явно силясь вспомнить. – А что, мы… мы разве с вами знакомы?
Софи склонила голову и перенесла вес на одну ногу, в какой-то совершенно охотничьей стойке. Андрей Андреевич улыбнулся еще раз.
– Вспоминайте – Егорьевск. Заштатный городок в Сибири. Краснорожий норвежец, капитан Сигурд Свенссон дает обед в трактире «Калифорния»…
– О! Действительно вспомнил! – обрадовался Ачарья. – Там еще были ссыльные революционеры и… Вы – приисковый инженер… Михайлов? Нет – Измайлов!
– Андрей Андреевич Измайлов, к вашим услугам!
– Рад, честное слово, рад! Я, помню, тогда выпил лишнего вместе со всеми и специально ёрничал, говорил ужасную крамолу, а вы просто уничтожали меня огненным взглядом…
– Я, да и все остальные, мы принимали вас за жандармского провокатора…
– Ну конечно! Конечно! Но я тогда просто не мог этого понять, потому что был пьян… И выплескивал свой сплин, и погибшие надежды на случайных знакомых, которые меня явно презирали, и которых я презирал… А вы и не пытались меня остановить… Я даже, помню, думал: может, кто-нибудь из них – ссыльный дворянин, и сейчас позовет меня стреляться? Вот было бы славно!.. Ну надо же, как неисповедимо вяжутся дхармические узлы…
Софи усмехнулась, а Петр Николаевич едва заметно поморщился от явной эклектичности Дасиного высказывания.
Пока мужчины предавались воспоминаниям, забытые ученицы Ачарьи, похожие на крысок, в смятении крутили носиками: «был пьян» «стреляться» «презирал всех»… Все это так не вязалось с образом Учителя! Но Дасе, кажется, было все равно. Он действительно рад был видеть Андрея Андреевича, и теперь вознамерился выяснить, какими судьбами он из Егорьевска очутился на данном приеме…
– Да что моя история? Скука и проза, – дипломатично заметил Андрей Андреевич. – Лучше расскажите, как это вы из бегущего от сплина придворного превратились в Ачарью Дасу?
Даса оказался общителен, на удивление для «неотмирного индуса», и вполне объяснимо для польского шляхтича, почувствовавшего нешуточный, подлинно мужской интерес к своей персоне. Гималайские тайны, сражения на берегах Оранжевой реки, алмазы, китайские контрабандисты, тайфун в Гвинейском заливе – все это сменяло друг друга со скоростью падающих стеклышек в крутящемся калейдоскопе. Софи, вытянув шею, жадно слушала, наматывая локоны сразу на два пальца. На ее подвижном лице оформлялась и крепла гримаса досады.
– Что, не о том говорит? – прошептала я.
– Да нет, – также шепотом отвечала подруга. – Он – плохой рассказчик. Не умеет выделить главного, правильно расположить сюжет. Такие эпизоды пропадают, такие темы проваливаются… Жалко!
– Да ничего, – утешила я. – Андрею Андреевичу, по-моему, нравится… И самому Дасе – тоже.
Картина и в самом деле получалась странной. Даса – само воплощение загадочности и элегантности, – со своей потрясающе интересной (пусть и неправильно рассказанной) личной историей и мешковатый, невзрачный на вид инженер Измайлов говорили явно на равных. При этом некое мужское начало (что я под ним имею в виду – самой хотелось бы знать!) в Измайлове казалось даже сильнее.
Я пристрастна? Возможно, и так. Но Софи и даже Мари Шталь после подтвердили мое наблюдение.
«А этот твой Измайлов, на первый взгляд, ничего особенного, а присмотришься – интересненький, – так выразилась Мари. – Откуда ты его взяла, хотелось бы знать…»
Пока мужчины были заняты разговором под присмотром Софи, я из ее интересов сделала так, чтобы меня представили господину Ивану Самойлову (т. е. тому самому Николаше, о котором она мне говорила). Самойлов показался мне неприятным, но не опаснее мокрицы, которые иногда живут в ванных комнатах. В свете теперь много таких людей. Что-то пишут, где-то служат; имеют неглупое мнение по всем вопросом, причем единственный недостаток этого мнения в том, что оно – текуче, и регулярно меняется в зависимости от обстоятельств; всегда в процессе выполнения какого-то очень важного и (т-с-с!) очень таинственного поручения очень высоко (опять – т-с-с!) стоящего лица. Ни одному слову верить нельзя. Ни в какие дела входить – тоже. Не хочу показаться совсем уж снобкой, но от наблюдений никуда не денешься: среди них много незаконнорожденных, которые как бы по обстоятельствам не имеют никакого класса, который они с уверенностью могут назвать своим. В отличие от, положим, купцов или даже разночинцев, манеры, речь, стиль могут быть безупречны во всем. Но в глубине все время чувствуется не то страх, не то ущербность, не то озлобленность непонятно на что. Говоря с ними, все время хочется сказать: «Будьте любезны, милостивый государь, снимите маску!» Но могут ли они это сделать – вот в чем вопрос? Не покажется ли там другая маска или – еще страшнее – белый пустой овал фарфоровой куклы без лица…
«Умен, приятен в разговорах,
Покорен искренне судьбе,
Друзей имеет целый ворох,
Всем мил и никому не дорог,
Ни даже самому себе…» – не помню, кто, но точнее, кажется, не скажешь…
Тоже говорил комплименты, пересказывал свою последнюю статью о реформах в образовании, хвалил какой-то прием (или хвалился тем, что там был?), описывал угощение – консоме попельет, свежие омары, соус лемулерт, парфе ореховое… Скучно стало почти сразу, хотелось вернуться туда, где Даса и… Андрей Андреевич. Да, да, да!
Но я из интересов Софи пыталась направлять разговор: «Нынче промышленная эпоха. Стало быть, реформы в первую очередь нужны там, в промышленности. Например, в горном деле, в золотодобыче…» – и была вознаграждена.
– Удивительно, что вы, в вашем положении светской львицы, такие вещи понимаете! – искренне воскликнул Иван-Николаша, лицо изменилось и глаза заблестели почти нестерпимым блеском.
Я изобразила оскорбленность недоверием к моим умственным возможностям. Он продолжал:
– Вы правы совершенно. Кроме вас, это и другие понимают. В том числе, государственные люди. И реформы идут. Закон от 1881 года отменили, горную подать в золотодобыче заменили промысловым налогом, как во всей металлургии. В прошлом году разрешили наконец беспошлинно ввозить оборудование из-за границы, значит, можно современные машины на приисках ставить. Денежная реформа, переход на золотой запас вовсю идет…
Кажется, он увлекся и забыл, с кем говорит. Я слушала внимательно, кивала, поддакивала. В конце сомнений не оставалось: о чужом и пустом так не рассказывают. Все, о чем здесь говорено, касается Николаши очень тесно. Так и следует Софи передать.
Вечер, между тем, шел своим чередом. Какие-то девицы играли в зале на флейтах. Еще одна пела что-то восточное. Мимоходом подумала: те или не те? – но уж интереса почему-то не было никакого…
Неужели я ЕГО больше никогда не увижу?!!
Софи бесилась все более оттого, что мужчины (Измайлов и Даса) ее тихонько отодвинули в сторону, как она прежде Дасиных учениц, и, приняв к себе Петра Николаевича, заговорили о чем-то философском (этого Софи с юности терпеть не может).
Я слыхала только обрывки.
– …Но если не крестьянство и не пролетариат, то – кто же?
– …Интеллигенция, просвещенные люди, пронизать религиозность интеллектуальной наукой…
– …Помилуйте, но этого же не может быть…
– … наступает шестая послеатлантическая эпоха…
– … старая мистика, учиться у Европы, просвещение…
И вдруг легко запомнившаяся чеканная формулировка Дасы:
– …энергетически возможно, так как в России интеллигенция преследуется, в средней Европе она приручается, а на Западе – уже рождается ручной!
Андрей Андреевич зааплодировал. Софи сморщилась так, словно пожевала хинина. Я почувствовала, что грядет взрыв, но сделать уж ничего не могла. Разве что увести Андрея Андреевича? Но по какому праву…
На «текущих задачах британских оккультных братств» терпение Софи, как я и ожидала, истощилось.
– В Британии я не была, – заявила она, становясь прямо в центр мужского кружка. – Но по поводу здешних оккультных братств имею сказать вам, господин Даса или уж Дзегановский, как вам будет угодно, нечто вполне конкретное и неотложное. Пьер, тебя Марья Симеоновна обыскалась. А вам, Измайлов, стыдно должно быть. Я вам не просто сердечную подругу, а лучшую из всех женщин доверила, а теперь Элен мучается и скучает…
Я хотела было возразить, но Андрей Андреевич встал и уж склонился в извинениях. Удивленного шляхтича-индуса Софи едва не волоком куда-то утащила – он, бедняга, с ее обычаем доселе знаком не был, и вот уж, должно быть, поразился… Будем надеяться, что ей удалось из него хоть что-то определенное по поводу Ирен вытянуть…
Неужели я больше никогда…
Сандаловый аромат, почти неощутимый, тянулся от светильников, просачивался в легкие и в мозг, понемногу делаясь отчетливым, болезненно-давящим. И сиплый голосок флейты – такой же: течет, завиваясь кружевом, превращая бессвязный шум от скопища праздных людей в причудливую, пульсирующую мелодию.
– Это поддельный Восток, – кривя длинные темные губы, прошептала Патни Сати, в миру – Юленька Платова; длинная бахрома шали колыхалась вокруг ее гибкой фигуры, доведенной ритуальными воздержаниями до почти полной бестелесности. – Извращение, черная иллюзия. Конец эпохи! Все, как ты говорил, учитель, точно как ты говорил…
– Наваждение, – испуганно пискнула вторая адептка, еще не принявшая истинного имени; она мечтала, что ее наречет учитель, но тот не торопился, занятый, очевидно, более важными делами, – вообрази, я вовсе ничего не воспринимаю, и все чакры закрылись! Она нас хочет задушить; я всегда знала про эту Софи…
Писк оборвался, пухлая ладонь в нефритовых кольцах стыдливо прикрыла лицо. Дурного ни о ком нельзя ни говорить, ни думать – так велит учитель. Те, кто еще не увидел, не понял – у них впереди долгий путь во множестве перерождений… а времени-то на это уже нет, потому что кончается эпоха! Полный оборот Великого Колеса почти совершен. Бедняжку Софи пожалеть надо!
Две искательницы истины изо всех сил пытались это сделать, стоя у стенки, в тени узорчатых ширм. Выходило плохо – а как иначе могло выйти, в виду боготворимого учителя, поглощенного беседой с этой самой Софи?! Две фигуры на фоне молочно-белой алебастровой лампы. Два профиля. Его – острый, хищный, вырезанный стремительно и слегка небрежно; и ее… такой же! А вдруг она и не бедняжка вовсе, подумала безымянная, чувствуя обиду и трепет, – вдруг она тоже знает?..
– …Не знаю! – долетел до ширмы нетерпеливый отрывистый голос. – А что еще прикажете думать?
– Хотел бы я вам помочь, – Ачарья Даса нахмурился, пристально глядя на Софи Безбородко. Не прямо в глаза – к чему устраивать ненужный поединок? – но и не вбок, а старым проверенным способом: в переносицу. – Вы не представляете, как хотел бы. Вернее, не вам… Она всегда была в опасности, даже когда занималась этой своей школой, другими обыденными вещами. Ирина – впереди, на краю… Вы понимаете? Вижу, что понимаете, – он резко наклонил голову, двум завороженным зрительницам показалось – клюнул Софи своим горбатым носом. – Ирина… Кстати, вам наверняка интересно, как ее звали у нас? – Софи интереса не подтвердила, но у Дасы, как у многих преподавателей и проповедников, имелась дурная привычка домысливать за слушателей вопросы и отвечать на них. – Представьте, этим самым именем и больше никак. Ей это не нужно. Она… у нее свой путь. Я теперь это отчетливо вижу. Ну, вы-то знаете. У вас похожая аура, вам известно? Но темнее.
Софи слушала его, с явным трудом храня терпеливое молчание. Даса не мог не понимать, что еще миг – и будет прерван самым невежливым образом. И продолжал, чуть ускорив и приглушив голос; губы нервно дергались – он не скрывал волнения:
– Так вот, в последний раз я видел ее поздним вечером, точнее, ночью. Тяжелой оттепельной ночью… Спустя два дня была убита Риши… да вы знаете, конечно: Ксеничка Мещерская. Я был у нее. И, выходя, встретил Ирину.
Здесь его, по всем психологическим законам должны были прервать каким-нибудь восклицанием – почему он и сделал паузу. Однако ж не прервали. Пауза повисла, неловко затягиваясь. В угол, отгороженный светом алебастровой лампы и зелеными лапами пальм, долетел громкий голос матушки Софьиного мужа:
– …Пророчат, все пророчат! Дескать, луна упадет или еще что. И пусть падает: заслужили. А вся эта дурь от бешеных кровей.
Даса поморщился. И продолжал; Софи могло показаться – заставил себя нарушить молчание:
– Она была встревожена, – чем больше он волновался, тем дальше отстранялся от собеседницы, увеличивая приватную дистанцию, – хотела звонить к Мещерской… я едва отговорил! Нет, я всегда доверяю ее предчувствию. Но не думал, что так скоро… Мы сели на извозчика, я привез ее к дому и проводил до дверей. Дорогой шла речь о том, что в общине происходит нечто странное. Так оно и есть. Я непременно выясню – что.
Последние слова он выговорил уже неторопливо, вдруг совершенно успокоившись – по крайней мере, наружно. Темное лицо застыло, глаза, устав прожигать Софи тревожным взором, закрылись тяжелыми веками.
– Простите, – он отвернулся от нее и вновь открыл глаза, ища кого-то взглядом, – вот все, что я знаю. Договорим, если угодно, позже.
Спустя несколько минут Ачарья Даса остановился поблизости от Ивана Самойлова, развлекавшего дамскую компанию рассуждением о парадоксальных и обескураживающих тенденциях французской моды:
– …С корсетами покончено отныне и навсегда. То, что теперь носит это название, не должно вводить вас в заблуждение. Абсолютный гламур. Ничего, кроме шелка. Сломанный цветок…
Слушательницы, кажется, нисколько не сомневались в его праве участвовать в беседах на такие темы. Вдруг, замолчав на полуслове, он сделал шаг в сторону. Смуглолицый индус в белоснежном одеянии – вот только что, третьего дня, с Гималаев, и кто там говорил, что польский шляхтич?.. – слегка повернул голову к дамам, пресекая ахи и вздохи, и коротко спросил:
– Готовы?
– Совершенно, – тряхнул головой Самойлов, – вот ваш трактат, я принес… – в его руке возникла небольшая рукописная книжка, он развернул ее, быстро прочитал:
– Как амрита богов, как корона нагов, как эликсир сиддхи да будет для тебя это лекарство… Не скажу, что хоть что-нибудь понял, но ведь действует! Словом, если только позволите, – он протянул книжку Дасе, – буду прилежнейшим из учеников.
– Что ж, вы довольны? Как все прошло? Скандальнейшая Софья Павловна не обманула ваших ожиданий?
Мари Шталь, расслабленно полулежавшая в кресле, вздрогнула от неожиданно зазвучавшего в ее покоях голоса. От этого движения горничная, вытаскивавшая черепаховые гребни и заколки из замысловатой прически Мари, совершила оплошность: чем-то уколола хозяйку в высокую шею, за что тут же получила чувствительный тычок локтем.
Худощавый мужчина с седыми висками сидел в кресле у окна, высоко забросив длинные ноги и фактически скрывшись от посторонних глаз в тени тяжелых темно-зеленых портьер. Лицо мужчины нарочито выражало скуку и брезгливость. При явных способностях к лицедейству он даже не брал на себя труд скрывать, что упомянутые чувства именно – «лицо выражало». Что там он чувствовал или думал в действительности – не ваше дело! Во всей этой позиции и даже в закинутых на инкрустированный столик высоких сапогах (глубокой ночью, в собственном доме!) было что-то неуловимо подростковое, дерзкое, жестокое и уязвимое одновременно, чему Мари Шталь удивилась несказанно – за все семь лет супружества она ни разу не видела своего мужа в подобном состоянии.
– Я удивлена, Ефим, – честно призналась она. – Что вы здесь делаете? Я не видела вас в своих комнатах уже… уже Бог знает, сколько времени!
– Ну… мне вдруг захотелось узнать, как вы развлеклись сегодняшним вечером. Я взял книгу и подождал вас здесь. Это чем-то предосудительно?
– Конечно, нет, – улыбнулась Мари.
Ей вовсе не хотелось ссориться с мужем. К тому же она действительно не прочь была с кем-нибудь поделиться свежими впечатлениями. Горничная Таня, несомненно, была слишком глупа, чтобы понять всю тонкость наблюдений хозяйки. А вот Ефим, если хотел, мог оказаться очень даже хорошим собеседником.
– Тогда я слушаю вас? – Ефим приглашающе улыбнулся краешком тонких губ.
– Элен Головнина – вот кто меня поразил до глубины души! – немедленно выпалила Мари, сбрасывая с ног туфли и шевеля маленькими ступнями.
– Эта великосветская ханжа? Чем же она могла поразить вас?
– В том-то и дело! Всегда изображала из себя невесть какую недотрогу, а теперь… Ведь просто образец была, пример из хрестоматии, нам всем родители в свое время уши прожужжали: «смотри на Элен Скавронскую, вот как должна держать себя девица из общества…» Потом: «вот так должна вести себя примерная жена и мать…» За все годы ни одной интрижки, да что там – ни одного слуха. «Васечка, Петечка, Ванечка, сю-сю-сю! Дорогая, взгляни на мою новую вышивку, не правда ли, премиленький узорчик!» Рядом с ней даже мухи со скуки дохли… Единственно, что ее мраморность хоть как-то оживляло, так это дружба с Софи, да и того никто понять не мог. Что их, собственно, связывает? И вот, сегодня… Ее наряд, ее манеры, сам факт того, что она, по-видимому, принимала не меньшее участие в обустройстве праздника, чем Софи… Смотрите сюда, Ефим! – Мари вскочила и вытянулась во весь свой невысокий рост, безуспешно пытаясь изобразить осанистость и дородность (которые в ее фигуре отсутствовали начисто, но безусловно присутствовали в зрело-женственной фигуре Элен). – Плечи и грудь открыты вот досюда, здесь как бы оборка, которая тоже ничего не скрывает, и сначала была вот так наброшена косынка, а потом она куда-то потерялась и… Да у нее же старший сын вот-вот студентом станет!
– Ну… может быть, Элен тоже об этом задумалась и решила как-то… наверстать? – лениво предположил Ефим.
– Ну уж я не знаю… Да, я же вам самого главного не сказала: она явилась не с мужем, а с никому не знакомым мужчиной по фамилии Измайлов, по виду – не то из купцов, не то из разночинцев…
– Ну, это, я уж уверен, ей Домогатская сосватала! И кстати, не тот ли это Измайлов, от чьего имени писана «Красная тетрадь»?
– Вот уж не знаю! Вам ведь известно, что я, кроме модных журналов, ничего не читаю… Да хоть бы и так. Но ведь Элен согласилась! Кстати, этот Измайлов весьма странная штучка. Похож, если желаете, на подернутый пеплом, но не до конца погасший костер…
– Мари, душа моя! – сухо засмеялся Ефим. – Какая неожиданная образность! Когда это и где вы видели подернутый пеплом костер?
– В имении, в детстве, – подумав, признала Мари. – Но что ж с того, если этот Измайлов на него именно и похож?… И вот я говорю, что Головнина цеплялась за него так, что просто неприлично. Даже не дала ему поговорить с этим индусом…
– Что за индус, Мари?
– Ну вообще-то он не индус, конечно, а поляк Дзегановский, но держится так, словно вот-вот будет взят живым на небо каким-нибудь их восточным божеством. Многие у нас дамы от него без ума, а мне он кажется каким-то… избыточным, что ли? И потом… он говорит – много и путано. Как будто кому-нибудь интересно, что с ним или еще с кем-то, кого никто не знает, случилось где-то в Африке. На его фоне женщина как-то теряется, не может себя проявить…
– То есть, в сущности, светское предназначение мужчины, с вашей точки зрения, Мари, – это оттенять собой женскую привлекательность? – Ефим уже откровенно смеялся.
– Разумеется, – сразу же согласилась Мари. – Бриллиант не играет без огранки и оправы, но оправа не должна затмевать сам камень… Поэтому настоящий мужчина не должен болтать, и слишком ярко одеваться…
– А «полупотухший» разночинец Измайлов, значит, идеально подходит под это определение? Он нужным образом оттенял внезапно осмелевшую Головнину?
– Ну да, – кивнула головой Мари. – Кроме того времени, когда он разговаривал с этим самым Дасой. А потом Софи его уволокла…
– Кого? Дасу или Измайлова?
– Дасу, конечно. Что касается Измайлова, то мне, напротив, показалось, что они с Софи друг друга терпеть не могут. Так что как она могла при том «сосватать» его Элен, я даже и вообразить не могу…
– Но зачем Домогатской вообще понадобился этот индус? Они что, были знакомы раньше?
– Вроде бы, нет. Я думаю, она его пригласила для усиления восточного колорита. Что бы не сказать про Софи, но, когда она того захочет, у нее есть вкус к деталям. Интерьеры меня просто покорили. Эти ширмы… они, представьте, создают какую-то летучую неосновательность, и одновременно – закрепляют все по вашему желанию. Изменчивость и подвластность мира… Я уже решила заказать полдюжины у этой Варвары Остяковой… И еще светильник. Я не успела спросить, но думаю – это наверняка яшма…
– А что-нибудь кроме интерьеров, Мари?
– Ирочка Гримм плохо выглядит. Так и не оправилась, бедняжка, после последних, неудачных родов… Свекровь Софи отпускала замечания совершенно нелепые, и тоже всех, пожалуй, поразила своим нарядом. Но вам про наряды неинтересно… А, вот. Самойлов, протеже Мещерского, тоже там крутился…
– Да неужели? Иван? А он-то что там делал?
– Как я поняла, его Софи пригласила именно из старых знакомств.
– Сама пригласила или он увертками напросился?
– Вроде бы сама…
– Это непонятно… Впрочем, у нее всегда была такая интуиция… Неужели и теперь что-то почуяла?
– О ком вы говорите, Ефим? О Софи? Что она должна была почуять?
– Ничего, ничего… Простите, Мари. Вы… вы сегодня чудесно выглядите!
– Да что вы говорите! – Мари взглянула на мужа с откровенным недоверием. – Вы ли это, Ефим? Не прокрался ли под видом вас в мою спальню кто-то чужой?
– Ничуть, – Ефим сбросил ноги со столика, поднялся, и легко ступая, подошел вплотную к жене. Мари, волнуясь, поднялась ему навстречу.
– Теперь я должен признаться вам, – чуть хрипловато сказал мужчина. – Весь этот разговор про вечер у Домогатской – всего лишь предлог. Я сидел в одиночестве, думал о том, как вы там веселитесь – очаровательная и соблазнительная…
«Вот теперь он лицедействует в полную силу! – подумала Мари. – Но… навык слегка утратился с годами. «Соблазнительная» – это не то слово, вызывает подозрения. Так не говорят жене. Нужно было придумать что-то иное, более тонкое… Впрочем, что мне за дело? Запомним, в каком месте разговора он начал игру, и используем ситуацию по назначению…»
– Неужели вы хотите сказать, Ефим… – голос Мари прервался, в горле послышался отчетливый всхлип.
Умение управлять своим дыханием и говорить трогательно прерывающимся голоском – когда-то в юности Мари легко овладела этим навыком, и после учила ему остальных девиц, в том числе и Софи Домогатскую. Элен Головнина, помнится, учиться отказалась, сославшись на то, что Господь не одобряет лживые чувства еще более, чем лживые поступки.
– Да, именно это… – Ефим улыбнулся, склонился к лицу жены, погладил ее пальцами по щеке и коснулся губ осторожным поцелуем.
– О, действительно… – простонала Мари…
Любовное удовольствие, которое супруги подарили друг другу в краткий предрассветный час, оказалось неожиданно острым. Ефим мысленно поблагодарил за это инженера Измайлова, Мари, как всегда, – Софи Домогатскую, когда-то жестоко отвергнувшую притязания барона Шталь. С тех пор любой разговор о Софи будил в нем страстную ярость, которую ловкая Мари (Ефим был ее третьим по счету мужем) довольно быстро научилась использовать выгодным для себя образом.
Вечером следующего дня Ефим Шталь преподнес жене неброское золотое кольцо с большим, ярким изумрудом. Мари приняла подарок с лукавой улыбкой.
В которой Густав Карлович беседует с таксом и встречается с князем, Элен Головнина предлагает себя инженеру Измайлову, а Софи пишет письмо своей бывшей горничной Вере
Теплый ветер качал ветки лип, уже готовые одеться зеленым весенним пухом. Отставной судебный следователь Густав Карлович Кусмауль, в светлом пальто и немного легкомысленной касторовой шляпе, прогуливался по Садовой улице свободным и размеренным шагом человека, привыкшего к долгой ходьбе ради здоровья. В одной руке у него была легкая трость, в другой – поводок, на котором он вел гладкошерстную рыжую таксу. Впрочем, кто кого вел – еще вопрос. Такса (вернее, такс) шествовала, строго соблюдая дистанцию: ровно на полкорпуса впереди хозяина, – гордо неся длинную горбоносую голову, украшенную просторными, как паруса, ушами, слегка раздуваемыми ветром. Иногда уши чутко приподнимались: пес не просто шел, он внимал неторопливым рассуждениям хозяина, обращенным лично к нему.
– Не могу не отметить, Герман, что ты за последние дни сильно продвинулся вперед, – говорил Кусмауль, благодушно поглядывая в небо, где над прозрачными кронами Михайловского сада расплывались пронизанные солнечным светом облака. – И вполне можешь быть назван песиком хорошего поведения. Не отличного, нет: вчерашний инцидент на кухне – это большой минус. Ну зачем, скажи, надо было прятать тряпку? Она абсолютно несъедобна…
Он со вздохом качнул головой и продолжал тем же тоном, обращаясь к небесам:
– Вот что еще меня интересует. Если дворник не путает, эти двое приходили к дому еще раз. Или то были другие двое? Дама ушла, потом вернулась. Встретила господина в длинном пальто, коего опознать несложно. А потом… Можно ли предположить, что это они возвратились снова? Вероятнее всего, так. Иначе квартира бедняжки превращается в какое-то место паломничества. Но если – так, то из этого следует… Что следует, Герман?
Такс приподнял ухо, покосился на хозяина и счел нужным издать сдержанное «гав».
– Нет, я так не думаю, – невозмутимо возразил ему Густав Карлович, – во всяком случае, насчет дамы. Эта дама, Герман, кто угодно, но не убийца. Вот он… да, он – другое дело.
Кусмауль заметно нахмурился и замедлил шаг. Посмотрел на такса.
– В таком случае меня чрезвычайно тревожит один вопрос, – проговорил он тихо и с совершенно не свойственной ему мрачной подавленностью. – Жива ли Ирен Домогатская?..
Впереди раздалось цоканье копыт. Легкая коляска, запряженная парой, проехала через мост и остановилась напротив входа в Летний сад. Густав Карлович смотрел, как кучер проворно слезает с козел, наклоняется, подставляя плечо для опоры элегантному господину с орхидеей в петлице и рассеянной улыбкой на губах. Господин был уже в немолодых годах, однако из коляски выпорхнул, лишь слегка придержавшись за плечо кучера. Огляделся, увидел Кусмауля и взмахнул было приветственно рукой, но тут же, будто что-то вспомнив, сделал каменное лицо и, войдя в сад, двинулся по дорожке так скоро, что Густав Карлович его еле догнал.
– Экий же ты, право, быстрый, – выговорил он, переводя дыхание (и машинально с горечью отметив, сколь тяжела для него теперь даже такая нестоящая пробежка).
Князь Владимир Павлович Мещерский ничего не сказал, только взглянул на него с недоумением и укоризной и продолжал идти вперед, лишь слегка сбавив шаг. Густав Карлович покосился на своего такса и, увидев на горбоносой аристократической морде откровенную ухмылку, тоже позволил себе улыбнуться. Ясно: они с Германом оба вспомнили бывшую шляпницу Дашку, а ныне булочницу Дарью Поликарповну, которая тоже обожала конспирироваться подобным образом.
– Уволь, милый друг: ты из дворца, а я – с поезда; и с утра уже три версты прошел для моциона, – останавливаясь, заявил Кусмауль. Князь Мещерский вздохнул и огляделся, явно надеясь обнаружить поблизости подозрительные глаза и уши. Таковых, однако, не нашлось, зато нашлась скамейка, на которую приятели и уселись.
– Ну, Гусик, ты меня удивляешь, – с некоторым возмущением заявил Владимир Павлович. – Назначить секретное свидание и тут же едва не весь город о нем оповестить!
– Секретное, – сказал Кусмауль, – это значит не у тебя дома. А в том, что под этими липами никому нет до нас дела, можешь не сомневаться.
– Пфф! Что значит нет дела? Думаешь, мне это приятно?.. А это что такое? – князь внезапно обратил внимание на рыжего такса, и глаза его округлились неподдельным изумлением. – Гусик! Ты… завел… собаку?!
Густав Карлович кашлянул. Случись это секретное свидание месяц или хоть две недели назад, он бы не знал, куда деться от неловкости. Теперь же воспринял изумление друга Вавика даже с некоторым самодовольством. Наклонившись, погладил таксовы лоскутные уши.
– Представь себе… вот, – хотел добавить, что не просто завел, а подобрал на улице, но не стал. Почему-то показалось, что Герману это не понравится.
– Боже, куда катится мир, – пробормотал князь, – теперь я готов поверить во все, что болтают эти мистики. Конец эпохи и все такое… И он у тебя, что – тоже по линеечке ходит?
– Мм… вполне, – Кусмауль, будучи в делах, не касавшихся службы, скрупулезно честным, снова кашлянул и добавил: – Иногда.
Мещерский, качая головой уже не изумленно, а с восхищением, хотел задать еще вопрос, но Густав Карлович решительно сменил тему:
– Кстати, о мистиках. Меня среди них интересует некто Ачарья Даса, он же Федор Дзегановский. Хотел бы узнать, не говорила ли Ксения…
– Как же, как же. Он тот самый и есть: обожаемый гуру. Представь, она даже меня пыталась затащить на эти их камлания, дабы послушать сего мессию. Теперь жалею, что не пошел.
Густав Карлович задумчиво потер бровь.
– Да, это жаль.
– Но какая была бы анекдотическая картина! Впрочем, я тебе и так могу дать характеристику господина Дзегановского, – князь, слегка поморщившись, сделал изящный жест, будто отгоняя от себя невидимое насекомое. – Шарлатан и вымогатель.
– Вымогатель?
– Совершенно верно. Вытягивал у Ксении деньги. У Ксении! – Владимир Павлович поглядел на улегшегося у хозяйских ног Германа, будто призывая и его возмутиться. – Ну, не напрямую, конечно. Вполне мистически. Она, дурочка, несла сама и очень огорчалась, когда он отказывался…
– А он отказывался?
– Для вида, разумеется. Ненадолго… В конце концов мне пришлось ей пригрозить.
– Каким образом?
– Да просто сказал, что не будет ей ни жениха, ни наследства.
Услышав эти слова, Густав Карлович воззрился на князя и смотрел на него, наверно, с полминуты: сперва удивленно, затем осуждающе, наконец – с ярко выраженным возмущением. Мещерский под этим взглядом занервничал. Осведомился вызывающе:
– Что такое?
– Как что такое? Ты поручаешь мне дело, хочешь получить результат… а о главном молчишь! Про вымогательство – ни слова! Да еще какой-то жених. Что за жених?
– Да ерунда, право, – Владимир Павлович передернул плечами. Он явно чувствовал себя не в своей тарелке, и рассказывать про жениха ему не хотелось.
Но пришлось. Поди-ка, не скажи этому полицейскому бульдогу, когда он впивается в тебя мертвой хваткой! Не зря, не зря его начальство ценило.
– Ну, были у меня планы. На предмет Ксенички и еще одного… подопечного. Молодой человек, из Сибири, с перспективами, но без средств… Понимаешь?
Голос и взгляд князя сделались виноватыми, и Кусмауль, несколько смягчившись, покачал головой. Такие вещи он очень понимал. Хотя сам давно уж научился без них обходиться.
– И что? По-моему, удачный вариант. Ксеничке радость, и ему поддержка. Я тем более обещал…
– Кому, Ксении?
– Да нет же. Ему. Ну, не то чтобы совсем обещал, но дал понять, что он, если найдет денег на разработку, получит мою алтайскую концессию. Сам посуди, Гусик, откуда молодому человеку из Сибири найти такие деньги? – Владимир Павлович махнул рукой, вздохнул и закончил:
– Он нашел.
– А тебе жалко отдавать ему концессию?
– Да она уже отдана! Боже мой! – князь снова, еще выразительнее, всплеснул руками. – Англичанам, в согласии с высочайшей политикой. Привлечение европейского капитала… Как раз тогда, зимой, начались переговоры. А тут он. Я, разумеется, ответил обтекаемо… и он тут же решил, что я на все согласен! Провинциальная наивность и провинциальная же наглость.
– И что ж теперь?
– Да что. Англичане уже там. Иван тоже собирается… Я же не могу ему сказать! Страшно подумать, что будет, – Мещерский, хмурясь, слегка понизил голос. – Иван кажется вполне безобидным, но иногда… Ты понимаешь?
– Понимаю. Только убивать Ксению, Вавик, ему при любом раскладе никак не с руки. Да и тебя – тоже.
– Меня?! – Владимир Павлович, казалось, был шокирован.
– В состоянии аффекта, – пояснил Кусмауль, назидательно подняв сухой ухоженный палец. – Однако, если не глуп, быстро вспомнит свою выгоду. Ведь ты в завещание-то его не включил? Или… – бывший следователь насторожился, заметив, как легкая тучка омрачила княжеское чело.
– Право, это неважно.
– Это есть очень важно! – начиная сердиться, Густав Карлович иногда разговаривал на немецкий лад. – Так же, как и другое: знал ли о твоих планах господин Ачарья? Насколько я понимаю, у Ксении не было от него тайн. А главное… – Кусмауль сделал паузу, чтобы было ясно, что это действительно главное. – Главное, какое впечатление на Ксению произвели твои угрозы.
– Да уж произвели, – князь Мещерский внушительно хмыкнул.
– Если она усомнилась в этом господине и отказала ему в деньгах… хотя бы один раз… Нет. Все равно не сходится. Разве что она знала о нем нечто вовсе предосудительное… Что ж. Настала пора выведать о господине Дзегановском-Дасе всю, как это сказать, подноготную. А заодно и о твоем молодом человеке из Сибири. Как, кстати, его зовут?
– Иван Самойлов, – сказал князь и, отвернувшись, дернул щекой. Перспектива выведать подноготную молодого человека из Сибири его никоим образом не воодушевила.
Софи дописала последнюю цифру, отложила перо и решительно захлопнула гроссбух. Потом сняла очки и потерла ладонями уставшие глаза. Вздохнув и потянувшись, заглянула в небольшую книжицу в кожаном переплете, которая лежала на обширном столе открытой, с заложенной костяным ножом страницей.
«Обсудить с Викентьевым касательно поставок голландской пряжи» – зачеркнуто.
«Узнать в издательстве о сроках по книге Архиповой» – зачеркнуто.
«Не забыть простоквашу для Джонни…»
– Фрося! – пронзительно крикнула Софи.
Горничная появилась на пороге кабинета.
– Ты знаешь, Фрося, мечниковскую простоквашу уже принесли?
– В бидончике которая? Принесли давно, кухарка уж расплатилась… А что, вам подать?
– Нет, не надо! – дернулась Софи. – Укупорь хорошенько, мы ее с собой в Люблино повезем.
– На что же вам? – простодушно удивилась горничная. – Нешто теперь в деревне простокваши нема?
– Это особая простокваша, – объяснила Софи. – Лечебная. А у Джонни все время желудок расстроен, так, может, поспособствует. Доктор велел попытать. Кстати… Ты ведь, Фрося, в деревне выросла?
– Так, барыня. Уклейка деревня наша, на вологодчине.
– Так что, как ты считаешь, если у Джонни улучшение будет, смогут они в Люблино сами эту простоквашу делать? Или возить придется?
– Да чего же не смочь-то? – удивилась Фрося. – Была бы закваска…
– Вот и хорошо… – сказала Софи, а Фрося вдруг встрепенулась и прислушалась.
– Никак, пришел кто… Взгляну… – горничная вышла.
Софи, облегченно вздохнув, отодвинула от себя бумаги. Кто б это ни был, можно пригласить к обеду и до отъезда поболтать…
Фрося вернулась неожиданно быстро. На ее всегда флегматичном лице, как флюс, зрела тревога.
– Барыня, там к вам… Инженер, говорит… Уж не знаю… только чегой-то с ним не то… Может, Петра Николаевича позвать?
– Инженер? Измайлов, что ли? Ко мне?! – нешуточно удивилась Софи. – Ну что ж, проси! Петра Николаевича не надо…
Софи еще не успела ничего обдумать и подобрать потребное к случаю выражение лица, когда на пороге уже обозначилась фигура инженера Измайлова. С первого же взгляда на него Софи стало понятно замешательство горничной: по виду Андрей Андреевич более всего напоминал покойника, чудом Господним восставшего из гроба. Выпуклые глаза казались мертвыми очами садовой статуи. Даже от стола Софи было видно, как дрожат крупные, сильные кисти рук инженера.
– Боже, Измайлов, что с вами стряслось?! – пораженно воскликнула Софи, невольно привставая.
Некоторое время инженер молча смотрел на Софи. Несколько раз его обметанные белым губы приоткрывались и слипались вновь. Потом он вдруг резко встряхнул головой, словно отгоняя наваждение, и, наконец, заговорил. Впрочем, ситуацию это отнюдь не прояснило.
– Простите, Софья Павловна. Виноват, что побеспокоил. Ерунда все. Безумие, – с трудом вымолвил Измайлов и, повернувшись, почти выбежал из комнаты.
Услышав, как захлопнулась входная дверь, Софи медленно вытянула из прически темно-русый локон и в задумчивости намотала его на палец.
– Софи, что ты сказала несчастному Измайлову? – спросил Петр Николаевич, появляясь в кабинете. – На нем лица не было! Сколько раз мы с тобой об этом говорили: у тебя чертовски быстрый ум, редко кто за тобой успевает, но неужели же нельзя помягче с людьми… Они же не виноваты…
– Да ничего я ему не сказала! – с досадой воскликнула Софи. – Просто не успела. Он уж явился таким. Постоял на пороге, извинился и убежал… Вот еще его-то мне и не хватало! – Софи потянула к себе чистый лист бумаги и снова взялась за перо.
Петя подождал еще, пожал плечами и вышел.
«Элен, дорогая! – писала Софи. – Прости заране, так как скорее всего попусту беспокою. Только что был у меня Андрей Андреевич Измайлов, напугал горничную, стоял на пороге с таким видом, будто я – реакционный генерал-губернатор, а он – идейный террорист, и сейчас будет в меня бомбу кидать. Потом, так и не объяснившись и вроде бы в чем-то передумав, бежал. А я вдруг вот что представила: не связано ли данное диковинное явление с тобой? Мы нынче же вечером в Люблино уезжаем, а ты, на всякий случай, – пусть знаешь.
Всегда твоя Софи Безбородко»
После Софи запечатала письмо, кликнула Фросю и велела передать послание рассыльному, чтобы немедленно отнес в особняк Головниных. Глубоко вздохнув, выбросила все странности инженера Измайлова из головы.
После обеда прилегла отдохнуть перед дорогой.
Элен возникла в комнате без доклада, как персонаж из сонного кошмара. Дикие глаза, руки без перчаток. В правой – какой-то обломок или обрывок (веер? зонт? ручка от ридикюля?).
Софи помнила Элен почти столько же лет, сколько себя саму. Еще лежа, выныривая из дремы, она поняла: от обморока, горячки, нервного шока Элен отделяет даже не шаг. Полшага… может быть, одна сотая его…
Оттолкнувшись руками, Софи упруго соскочила с дивана, сделала шаг вперед и уставилась прямо в лицо Элен, не давая ей ни на мгновение отвести взгляд.
– Да чего вам всем от меня надо?!! – во всю силу легких заорала она. – Что я вам, нянька, что ли?! Что у меня, своих бед, что ли, нету, чтобы еще вашим идиотизмом заботиться! Да у меня сестра неизвестно где, брат в Сибири того гляди помрет, ребенок больной, две недели понос не прекращается… Тебе сколько лет, Элен?! Четвертый десяток, если я правильно считаю! А Измайлову так и вообще пятый! Да неужто уж вы как-нибудь не можете меж собой разобраться, не бегая по городу, как наскипидаренные и не тараща, как караси, глаза! И не изображать из себя при том престарелых Офелий, Чацких и Чайльд-Гарольдов, и не надоедать другим своей глупостью!
Софи прижала руки к груди, скомкав оборку домашнего платья, пошатнулась и вроде бы окончательно без сил опустилась на диван, свесив голову. Сраженная Элен, которая теперь по виду была дальше от обморока, чем ее подруга, с задушенным рыданием кинулась к ногам Софи и, причитая, обняла ее.
Петр Николаевич, сначала узревший Элен, с лицом точь-в-точь как у недавно заходившего инженера, а потом явившийся в комнату на вопли Софи, смотрел на разворачивающееся действие с умеренной, приличной случаю тревогой. Он в общем-то догадывался о терапевтическом характере действий Софи, но… уж больно искренне она только что кричала…
– Софи, голубка, прости меня, прости, пожалуйста! – причитала между тем Элен. – Я все только о себе, о себе, негодной, а как у тебя-то – и позабыла вовсе! Ну взгляни на меня, голубка, молю тебя, скажи, что прощаешь, и я тут же, тут же уйду, и больше тебе докучать не стану… Права ты, во всем права! Что я себе вообразила! В какие года! Дура, идиотка! Правильно ты меня честила, голубка, правильно, еще мало мне, а теперь гляди – на коленях прощения молю!
– Ну ладно, хватит выть, – вполне рассудительно сказала Софи, похлопывая Элен по плечу, и утирая взмокшее от напряжения лицо тыльной стороной свободной ладони. – И не след в другую крайность кидаться. Года твои как раз такие, чтобы во всем можно было спокойно разобраться…
– Да в чем же разбираться, Софи? – Элен поднялась, механически поправила прическу, одежду и поджала губы. – Все ясно. Безумие, наваждение, о котором и упоминать среди приличных людей грех…
– Грех? – прищурилась Софи. – Что ж ты теперь, любое чувство в грех записать готова? А как же со мной? Ты ведь про меня все знаешь…
– Ты – совершенно другое дело, – с достоинством сказала Элен, тут же с испугом оглянулась на внимательно прислушивающегося к разговору Петра Николаевича и жалобно добавила. – Ты ведь атеистка, Софи…
– И что с того? Никто до поры не знает. Пусть ты права, а не я – Бог есть. Но ведь и тогда никакая подлинная любовь не может быть греховной. Если ты и вправду веришь в то, что человек – образ и подобие Божие, то что есть жизнь каждого отдельного человека, как не история его любви? А если не так, то все боги – ложны, а сама жизнь – всего лишь наваждение.
– Жизнь без любви – наваждение…. – медленно повторила Элен, и всем присутствовавшим в комнате, включая горничную Фросю, было видно, что в ней зреет какое-то решение. – Но как же отличить подлинную любовь от не подлинной?
– Это просто, – усмехнулась Софи. – Если хочешь в любви блага, удовольствия для себя – тогда и говорить не о чем. А вот если для него или для нее…
– Но ведь тогда любовь Оли Камышевой, Матрены Агафоновой и Ипполита Коронина к народу – подлинная любовь, – неожиданно вступил в разговор Петр Николаевич. – Значит, за ними… Значит, с ними… Бог?! Это, мягко скажем, неожиданный поворот. Хотя и логически непротиворечивый. Но, коли так… что же тогда будет?
– Что-нибудь да будет, – честно подумав, пожала плечами Софи. – Потому что никогда не бывает так, чтобы ничего не было. Увидим. Что мы-то тут можем сделать?… А вот Элен… Где Элен?!
Петя огляделся вслед за женой. Элен Головниной в комнате не было.
– Теперь, когда я столь решительным образом призналась вам в своих чувствах, попирая всякие границы приличий, я, должно быть, должна вам представить и доказательства…
– Доказательства чего? Какие? – спросил вконец растерявшийся Измайлов, вглядываясь в бледное лицо Элен. – А… Вы мне подарить что-нибудь на память хотите? – попытался догадаться он. – Что ж, извольте, я рад буду и отпираться не стану. Только уж какую-нибудь совсем безделку, иначе неловко, да и отдариться мне теперь нечем…
– Я готова теперь же дать вам любые доказательства означенных чувств, – мертвым голосом повторила Элен.
Измайлов стоял у окна. Элен, притиснув сжатые кулаки к груди, замерла ровно посреди его стерильного жилища. Поняв, наконец, смысл последних слов женщины, инженер часто-часто заморгал и машинально отрицательно помотал головой.
– Я… не привлекаю вас? Я ошиблась? – немедленно спросила Элен и в голосе ее слышалось что-то похожее на облегчение.
– Вы – это все, о чем я только мечтать мог когда-либо… – медленно, подбирая слова, произнес Измайлов. – В первый же раз, когда я только вас тут, с Софьей Павловной увидел… Я, атеист, вдруг подумал внезапно: неправда все, есть Бог на свете, коли он вас создал. Потому что никому другому не под силу… И ведь вы могли же мимо пройти, если бы Софье Павловне по-другому в голову взбрело… Теперь холодный ужас, как подумаю, что мог бы вас и не увидеть никогда, остаток дней прожить и не насладиться… Тем, что еще, оказывается, живу, что могу чувствовать такое. Я ведь до той минуты полагал, что уж решительно невозможно… Потом я с вами говорил, смотрел на вас, даже танцевал один раз тем вечером, на приеме у госпожи Безбородко. Я плохо танцую, но вы вид сделали, что не замечаете… Каждый миг у меня перед глазами, когда захочу, могу вызвать, как волшебную картину. Вы – совершенство…
– Не говорите так, мне неловко, – попросила Элен. – Мне никто такого не говорил. Софи в юности пыталась меня научить, но я… мне убежать хочется, когда меня хвалят…
– Я не хвалю вас, я восхищаюсь вами как мужчина.
– Все равно… Но раз так, то, значит… – Элен опустила взгляд и вдруг покрылась красными пятнами.
– Елена Николаевна… – Измайлов решительно приблизился к Элен и, склонившись, дотронулся губами до ее запястья.
– Элен, пожалуйста… – прошептала женщина, вздрогнув, как будто ее руки коснулось каленое железо. – Меня все близкие так называют…
– Хорошо, Элен… Можете уничтожить меня немедленно, но я никогда не позволил бы себе воспользоваться вашей теперешней слабостью…
– Никогда? – голос Элен жалобно дрогнул.
– Теперь, когда благодаря вашему мужеству мы осведомлены о чувствах, которые испытываем друг к другу, нам, наверное, придется принимать какие-то решения. Но… мы не будем принимать их немедленно. Выскажусь определенно: я слишком уважаю вас и упомянутые чувства, чтобы, воспользовавшись моментом, уложить вас теперь же в свою постель.
– Правда? А я о вас иначе и думать не могла! – пылко воскликнула Элен и, вдруг покачнувшись, уткнулась лицом в грудь Измайлову. Запах ее духов напоминал о расцветающей весной березе. – Это Софи меня к вам послала, и я решила, что передовая женщина после того должна…
«Опять эта треклятая Софи, и никуда от нее не деться! – прошептал инженер, сжимая кулаки и вонзая ногти в ладони. – Господи, помоги мне!»
Сразу после того, как, накинув шинель, проводил Элен, Измайлов проклял себя за то, что отпустил ее. И тут же, следом, представил, как любит ее прямо вот здесь, на узкой, сиротского вида кровати, покрытой бежевым пикейным одеялом. Ритмично подпрыгивая и отчего-то не сняв носки. Зарычал от ярости и презрения к себе.
Теперь следует что-то решать, – так он сказал ей, и она ему поверила. Но решать-то, собственно, нечего. Святейший синод никогда не даст развода Головниным, у них ведь идеальная, по общему мнению, семья. Опозорить Элен (!), чтобы Василий мог сам подать прошение о разводе? Немыслимо, легче сразу умереть! Вызвать Головнина на дуэль и убить его? Но Измайлов не дворянин, не умеет стрелять, и к тому же Элен никогда даже не приблизится к убийце мужа. Да и что он может предложить ей? Они не ровня во всем. К тому же у Головниных почти взрослые дети, два мальчика, Элен много рассказывала ему о них на вечере у Софи…
Желание возникло настолько глупое и парадоксальное, что, несмотря ни на какие обстоятельства, искривило губы инженера в горькой улыбке: найти и придушить своими руками Софи Домогатскую…
«Апреля 15 числа, 1899 г. от Р. Х., С-Петербург
Приветствую тебя, милая Вера!
Как ни печальны обстоятельства, но все ж таки я рада, что скоро, пожалуй, увижу тебя. Любопытство не порок ли? Но, признаюсь, жутко любопытно взглянуть, как из моей бывшей горничной получилась сибирская промышленница. Знай сразу, что удивления моего в этом никакого нет: твой необыкновенный ум и способности я недооценивала только уж в совсем юных годах, а после – разобралась во всем. Ты одна – лучшая иллюстрация к возможностям «простого» народа, чем все теории господ революционеров.
Видимо, придется-таки мне ехать выручать братца. Подробности открытой почтой писать не могу, расскажу на месте.
Да беда, как известно, не приходит одна. Ко всему прочему, пропала моя младшая сестра, Ирен. Как ты ее, может, помнишь, она с самых детских лет была замкнута и тонко эмоциональна, жила в своем мире, мы и после не стали близки, и потому предсказать ее поступки и пройти вслед – ни у кого возможности нету. Сама ее жизнь в последнее время оказалась весьма запутанной, и с этим тоже надо как-то разобраться. Попытаюсь сделать все до отъезда, но это уж как Бог пошлет. В самом крайнем случае, оставлю поиски и расследование на Петра Николаевича.
Ты спрашивала про него. Что ж сказать?
Пьер по-прежнему мил и приятен для глаза, как слой свежей штукатурки. Я не могу понять его исканий, да, сказать по чести, не особенно и стараюсь. Довольно того, что он давно и навсегда простил мою тупость в этом вопросе. Иногда его, как я называю, заносит. Тогда он тушит все лампы, зажигает свечу и пишет белыми чернилами на черной бумаге. В последней книге его стихов есть отсыл к пустой странице. Под звездочкой написано что-то вроде: «Эта истина раскрывается подробно там-то». Читатель листает сборник и под указанным номером натыкается на девственно белый лист. Некоторое время таращится на него с недоумением, потом замечает внизу сноску на такую-то страницу комментария. Отправляется туда и обнаруживает следующую сентенцию: «в этом месте Читателю следует поблагодарить Автора за кратковременное молчание, которого так мало в нашем суетливом мире, и за внеплановую встречу с самим собой».
Ты в стихах разбираешься как бы не лучше меня, потому вот тебе образец из тех, что мне, пожалуй, и нравятся:
«Я помню? Стылый серый зал,
И блик лица в тени колонны,
И как я замер изумленно…
Я помню – стылый серый зал,
Что щедр Всевышний ко влюбленным
Подумал я, но не сказал…
Я помню стылый серый зал
И блик лица в тени колонны.»
И вот еще:
«Признайтесь, жить Вам легче иль трудней
Теперь, когда Вам ведомо: есть кто-то,
Кто думает о Вас – среди работы,
Среди любых забот бегущих дней,
Кто в мыслях не обидит и оплошкой?
Признайтесь: жить Вам легче иль трудней,
Коль изо всех пленительных огней
Вы для него – единый свет в окошке?
Когда Вам с каждым месяцем видней,
Сколь постоянно, ровно это пламя,
Признайтесь, жить Вам легче иль трудней –
Любимой и мучительно желанной?
Коль в мире Вы всех ближе и родней,
Кумир, богиня, муза для поэта –
Теперь, когда Вам ведомо все это,
Признайтесь: жить Вам легче иль трудней?»
(стихи А.Балабухи)
Суди теперь сама, коли пожелаешь…
А я вот доселе твой стих помню и люблю.
“На заборе сидит кот,
Сзади дома огород,
В речке плавает рыбак,
А на улице – кабак”.
Впрочем, стихов, мне кажется, уж довольно.
Касательно же того, о чем ты меня просила разузнать. Не сказать, чтоб я сильно в сем преуспела, но все равно напишу, а ты уж сама судить станешь: то иль не то, пригодится иль не пригодится?
Новый император раздает сибирские концессии придворным, надеясь, видимо, обеспечить если не верность, то хоть лояльность их и их потомства в нынешние, чем-то определенно чреватые времена. Придворные, понятно, в горной промышленности ни в ухо, ни в рыло. Однако, в концессионном договоре есть специальный пункт (вот это я доподлинно узнала), который позволяет отдавать полученные земли в аренду и т. д. Вот на этом, конечно, все эти князья и тайные советники и стремятся заработать. Волею судеб знаю по крайней мере один достоверный случай, когда ищут на этот вот перекуп деньги среди наших, петербургских купцов и промышленников. Задача не из легких. Легко же вообразить участие иностранцев и их капитала. Может быть, с этим связано и то, что прямо вот сейчас разрешили беспошлинно ввозить оборудование для горной промышленности. Непротиворечиво: чужеземцы вложат капитал и свои, более прогрессивные машины с собой привезут.
Так что решай с англичанами сама. Все вроде бы на первый взгляд связывается неплохо. Но… присмотрись к ним повнимательнее. Они – в ваших краях, как я понимаю, пионеры. А так уж на Руси повелось: впереди любого дела идут спекулянты. А потом уж все остальное. Как бы и они… Особенно внимательно присмотрись к тому, который по-русски говорит. Вполне может быть, что он-то и есть самый жук, и в подходящий момент оставит с носом и тебя, и других англичан, которые без него, как я понимаю, в Сибири весьма беспомощны.
Вот тебе еще один совет, которого пояснять не буду, так как сама все знаешь. Ты писала, что Машенька Гордеева с англичанами тоже во время их визита как-то сносилась. Так вот, выясни, если сумеешь, как ко всему этому относится не Мария Ивановна сама, а муж ее, небезызвестный нам обеим Серж Дубравин (ныне Дмитрий Михайлович Опалинский). Имеются ли у него по этому английскому поводу энтузиазм и надежды, и, если нет, то почему именно.
Касательно же обучения Матвея инженерному делу в Екатеринбурге, думаю, надо еще о том при встрече поговорить. Что ты, собственно, имеешь против столицы? В соответственном умственном его развитии и подготовке я не сомневаюсь (при твоем-то патронаже!) ни минуты. Или в характере и привычках юноши есть нечто, о чем я не осведомлена? Сама понимаешь, что всякую поддержку и опору во время учебы я своему крестнику уж как-никак, да обеспечу.
Маменька, Аннет, Сережа, Алеша, Павлуша и Милочка, слава Богу, здоровы, а вот приемный сын мой (не помню, сообщала ли тебе, что я взяла к себе ребенка умершей подруги) страдает от желудочного расстройства, которое все никак не можем унять. Может ты, на будущее, знаешь какое верное средство?
На сем кончаю и остаюсь любящая тебя и с надеждою на встречу –
В которой разные люди пытаются разгадать чужие или, наоборот, состроить свои собственные интриги
Петр Николаевич и Софья Павловна расположились в покойных креслах нижней гостиной. Пользуясь нечастым случаем присутствия в усадьбе обоих родителей, дети находились тут же. Павлуша сидел с ногами на диване и читал какой-то журнал, время от времени задавая дельные вопросы отцу. Милочка под столом строила дом для тряпочной, с фарфоровой головой куклы, которую почему-то называла мужским именем Федя. Джонни, сопя, пытался помогать Милочке, но все, по своему обыкновению, ронял и рушил. Милочка не злилась, но раз за разом поправляла нарушенное и пыталась объяснить Джонни, как надо. Кришна сидел на столе настороже и, когда удавалось, цеплял лапой шелковые волосы Феди (по-видимости, кукольная прическа напоминала ему какой-то охотничий объект), после чего Милочка начинала визжать и гоняться за ним с тряпкой. Радха, отдыхающая на карнизе, тут же расправляла крылья, слетала вниз и, истошно крича, пыталась с налету клюнуть Милочку и оборонить Кришну. Джонни вступался за Милочку и кричал на Радху, размахивая короткими руками. Павлуша демонстративно затыкал уши. Эсмеральда истошно лаяла, пугалась и, царапая когтями, пыталась залезть на колени к Софи, которую почитала своей перманентной спасительницей. Более флегматичная по характеру Констанция лежала на полу и неторопливо грызла носки Петиных туфель. Когда ее отпихивали, она обиженно взвизгивала, и через минуту возвращалась к своему занятию.
– Послушайте, Милочка и Джонни! – наконец не выдержала Софи. – Я к вам, право, хорошо отношусь, и ничего против вашего присутствия не имею, но не могли бы вы куда-нибудь убрать весь этот зверинец? Нам с Петром Николаевичем следует серьезное дело обсудить, но в таких условиях…
– Животные никуда не уйдут без Джонни, – откликнулся с дивана Павлуша. – Он у них вроде вожака стаи. До человека не дотянул, так…
– Павлуша, прекрати! – резко окоротила сына Софи. – Милочка, возьми Джонни и всех зверей и идите в детскую. Я потом загляну к вам. Павлуша, ты нас тоже оставь…
– А я-то чем вам помешал?! – с обидой воскликнул мальчик. – Вроде не ору, ботинки не грызу, крыльями не хлопаю…
– Павлуша! – чуть повысил голос Петр Николаевич.
Когда дети и животные покинули гостиную, Софи сильно сплела пальцы обеих рук и искоса взглянула на мужа.
– Этот Даса только подтвердил то, что я и сама думала: смерть Ксении и исчезновение Ирен как-то связаны между собой.
– Чем же он подтвердил?
– Он сказал, что встретил Ирен возле дома Мещерских почти накануне смерти Ксении…
– Что?! – Петя удивленно приподнялся в кресле. – Ты… или он хотите сказать, что Ирен могла…
– Да нет, конечно! – отмахнулась Софи. – Тем более, что, по его словам, он тогда сам увез ее оттуда. Просто Ирен что-то знала…
– А Даса этого не знает?
– Черт его разберет… – проворчала Софи. – Точнее, как сказала бы покойница Саджун, дхарма разберет… Он ведь и соврет, недорого возьмет – вот в чем вопрос. Но я очень надеюсь что-то понять, когда буду на этом их собрании. Посмотрю на них, так сказать, в естественной среде обитания…
– Что еще за собрание, Софи? – настороженно спросил Петр Николаевич. – Во что ты опять ввязываешься?
– Ах, Петя, оставь! Я должна-таки узнать, куда пропала Ирен. А последняя по времени ее компания – это именно Даса с его задрапированными ученицами…
– Но это может быть опасно…
– Ой, да не смеши меня! Кто там опасен?! Юленька Платова? Сам Ачарья Даса? Не знаю, как тебе, а мне он показался обыкновенным амбициозным шляхтичем…
– Неудовлетворенные амбиции иногда превращаются в грозную и недобрую силу…
– Наверное, ты прав, но это – явно не тот случай. Полагаю, что толпа восторженных учениц вполне удовлетворяет любые амбиции Дзегановского. А что касается всех этих светских оккультных кружков… Так, ради Бога! Это же не какая-то там кровавая подпольная секта с черной мессой и кровью христианских младенцев, разливаемой по кружкам в качестве причащения. Обычная, я думаю, ерунда, разве что с восточным оттенком. Я всего этого еще в юности навидалась. Блюдца, столы, свечи, зеркала… «Дух Гете, ответь, скоро ли ждать конца света?»… «Дух Пушкина, дух Пушкина, скажи: принять ли мне предложение Селивестра Никанорыча теперь или погодить до Пасхи?!»
– Однако, не забывай, – заметил Петр Николаевич, тщательно стараясь казаться спокойным. – Кроме неизвестно куда пропавшей Ирен, в этом деле имеется еще и убитая Ксения Мещерская. Смерть, она и есть смерть, каким бы легкомысленным не казался тебе окружающий ее антураж…
– Ты знаешь, Петя, я как раз думала об этом. Вспоминала Иосифа Нелетягу, старалась рассуждать так, как стал бы рассуждать в этом деле он… И вот что у меня получилось. Мистические следы в гибели Ксении кажутся какими-то надуманными, как будто бы кто-то специально рассыпает крошки, ведущие в нужном ему, и, видимо, ложном направлении. Смотри: эта книга с подчеркнутыми строчками, оставленная на виду и едва ли не раскрытая на нужной странице. Если бы она была действительной уликой, убийца унес бы ее с собой, как он сделал с орудием убийства, или уж, по крайней мере, уложил на полку к другим подобным книгам. А так… причем, как я уже знаю от моей верной Дашки, подчеркнутые строчки выглядят угрозой не столько погибшей, сколько князю Мещерскому. И это тоже след, который нам кто-то подсовывает…
– Ты не усложняешь ли все, Соня? – спросил Петр Николаевич. – Вместе с твоей «верной Дашкой», которая, как я понимаю, от скуки булочной жизни вообразила себя чуть ли не детективом…
– Возможно, возможно, – неохотно согласилась Софи. – Ну и тем более, я должна же взглянуть на все это гнездо вблизи… И не отговаривай меня…
– Да кому это под силу было бы отговорить тебя от того, что ты уж решила? – печально усмехнулся Петр Николаевич.
Софи, вовлеченная в разговор, чуть было не ответила на явно риторический вопрос мужа. Удержалась буквально в последний миг. «Только один такой человек был на свете… И того нету».
Иван Самойлов знал толк в петербургских ресторанах. В каждом у него имелось любимое местечко, со всеми метрдотелями был коротко знаком, а со многими и связан какими-то особыми, маловразумительными для непосвященных интересами. Русская, французская и восточная кухня, пальмы и канделябры, китайские официанты с косами и неподвижными улыбками на плоских лицах, неподражаемая цыганка Ляля Розанова, балабинские ростбифы, рояли и скрипки… Как раз для этого праздника жизни господин Самойлов, кажется, и был создан. Он входил в ресторанные залы, улыбаясь безмятежно и расслабленно, и тотчас же звон вилок, бокалов и музыки организовывался в такт биению его пульса, и лампы вспыхивали ярче, и метель за высокими зеркальными окнами застывала текучим узором.
– Вот за что я люблю англичан, – сообщил он, обводя взглядом сотрапезников, – за то, что они вкусно живут. Ценят момент! Не вчера, не завтра – сейчас! Умеют – не то, что мы…
– Да уж, по части светлого будущего с нами некому равняться, – пробормотал Константин Ряжский, рассеянно глядя в сторону и вниз.
Отдельный кабинет, где расположились мужчины, имел три стены, а вместо четвертой – резные перила и синие бархатные шторы, приподнятые и задрапированные как в театре. За перилами искрился электрический свет, а внизу открывалась панорама столов и затылков. Ряжский смотрел, как красавица Липа с обнаженными тяжелыми плечами, в колыханье черных оборок проходит между столами, встряхивает волосами, не поет – выговаривает низким задыхающимся голосом:
«…А ты живешь и не дышишь,
глядишь и не видишь,
ты не знаешь меня –
это мстится тебе…»
– Люблю крупных женщин, – объявил барон Ефим Шталь, проследив за взглядом Ряжского, – впрочем, и мелких тоже. Грех!.. Касательно же светлого будущего – скоро ль революция-то? Что там говорит на сей счет ваш индусский ясновидец?
– Сходи да послушай. Он ни от кого не прячется.
– Так ведь и не зовет! А самому напрашиваться: просвети, мол, истины жажду… так, что ли? Не-ет, это уж ты с господином Самойловым…
Ефим говорил будто слегка через силу, казалось, он мысленно задает себе вопрос: а что это я тут забыл, в этом скучном месте, с неинтересной компанией? Ну, да; с Ряжским они давно уже не были так близки, как когда-то в юности, хотя и до сих пор на ты, по старой памяти. А Самойлов… господин Самойлов – курьезный тип, он-то их здесь и собрал. Зачем, спрашивается?
– Одно в его рассуждениях, по-моему, прямо в точку, – тем же радостным тоном, каким говорил о вкусном житье англичан, провозгласил господин Самойлов. – Это что они экономически нас хотят задавить и революцию спровоцировать. Мы у них как у Мечникова мыши – для опытов.
– У них, это у кого?
– У англосаксов, – пояснил Ряжский чуть невнятно, поскольку именно в этот момент решил таки отдать дань знаменитому ростбифу.
Ефим развеселился.
– Скажи, пожалуйста. Теперь англосаксы виноваты. Евреев с масонами, получается, мало? Конечно, где ж им, беднягам, поодиночке снести российский абсурд! Только сообща…
– У тебя, Ефим, – сказал Ряжский, берясь за салфетку, – так глаза устроены, кроме абсурда, ничего не видят. Однако же бакинские акции как-то разглядели.
– Так ведь и ты, Костенька, не в прогаре, – засмеялся Шталь. – Только все это ненадолго: акции, подъем рубля, честные дельцы… Ты этого их Плеханова наверняка читал? Поразительно: мхом покрытые фантазии ваших любимых англосаксов – Локка с Оуэном – на несокрушимых научных рельсах! Все так и будет, не через пять лет, так через пятнадцать…
– Я читал не только Плеханова, но и Маркса, – кивнул Ряжский. – Соблазн и впрямь велик.
– Соблазн?
– Ну да. Ты посмотри: предприниматели априори насильники и воры. Присвоение прибавочной стоимости – все, чем они заняты. Эдакий прыщ на рабочей поверхности, сковырни его – и процесс сразу пойдет быстрее…
– И ведь сковырнут!
– Интересно, это заблуждение или провокация? Хорошо, Маркс – он всю жизнь просидел на иждивении, но этот второй ведь и сам был заводчик, и, кажется, дельный.
– Костя! Да они испокон веков в этом убеждены. Все господа социалисты, начиная с апостола Павла. Это Иисус, бедняга, твердил: кесарю кесарево, а после него сразу пошло: сгрести все в кучу и делить поровну. Зачем управление, когда налицо моральное совершенство? Они ведь все совершенны, Костенька, взгляни на любого агитатора у себя на фабрике: аж светится…
Он снова засмеялся. Предмет беседы его, в отличие от Ряжского, не трогал вовсе. Так, игра в цветные мячики; надо ж о чем-то говорить, пока господин Самойлов, зазвавший их сюда, не разродился еще своим деловым предложением.
В том, что таковое последует, барон Шталь не сомневался. Как и в том, что это будет чистая афера, достойная лубочной книжки «Похождения Эрнеста Незаконова». Он бы и слушать не стал – невелика забава, в самом деле, – если б не одна фраза этого Самойлова, скользнувшая как бы между прочим. «Личный счетец кое к кому»… Разовьет ли тему? Или так сказал – лишь бы заманить? Ведь ее гнусные книжонки – почище лубка! – всеми читаны, и любой пройдоха теперь сообразит, на какой крючок Ефима Шталь подцепить можно!
– Выходит, Маркс и Плеханов, – лениво продолжил он, потянувшись за бутылкой мозельского (собрание, понятно, было конфиденциальным, и прислуги у стола не предполагалось), – есть часть англосаксонского заговора? А что, очень даже… В любом случае нам – верный конец. Ну, разве что революционеры перегрызут друг другу глотки в борьбе за моральное совершенство. То есть, они это непременно сделают – нет сомнений, – но боюсь, что не до, а после.
– Воспрепятствовать, однако, можно, – заявил Самойлов, которому надоело, что эти двое ведут беседу между собой, о нем как бы позабыв, – с экономической стороны. Я, собственно, и хотел…
– Что значит воспрепятствовать? –
Ряжский, которого разговоры о революции привели в раздражение, подумал, морщась от долетавшего из залы хриплого голоса цыганки Липы: чем тут сидеть, надо было встретиться с рабочими, как они просили, сегодня. А то завтра их и впрямь распропагандируют, и уж не договоришься.
– Именно то, о чем и господин Даса говорил. Весьма, кстати, умно и по делу! Я – человек приземленный, от астральных миров далек, но вот это…
– Вы, оказывается, знакомы? Что-то я вас на собраниях не видел.
– Всего лишь некоторым образом знаком, по роду, так сказать, профессиональной деятельности. Ведь я журналист…
А также – любовник престарелого педераста и полицейский агент, невозмутимо подумал Шталь. Интересно, как бы Костенька запел, если б узнал? Ах, за одним столом сидел, теперь рук не отмоешь! Или – нет? Они ведь непротивленцы, буддисты-толстовцы, тоже – морально совершенные! Причем в их мораль Ванечка Самойлов, пожалуй, превосходным образом впишется.
– У вас, насколько я понимаю, к нам дело? – Ефим аккуратно наколол на вилку ломтик печеной семги. – Так излагайте.
– Дело! – согласился Самойлов, глядя на барона удивленно и весело. С его стороны он никак не ждал поддержки, во всяком случае, вот так, сразу. Впрочем – это, может, и не поддержка, а как раз наоборот… Ладно! Решив не забивать себе прежде времени голову, он принялся излагать.
Дело в его изложении выходило абсолютно прозрачное. Есть князь Владимир Петрович Мещерский, получивший от государя концессию на земли на Алтае и решающий теперь, кому эти права повыгоднее запродать. Есть англичане, ради этих самых прав сколотившие уже акционерное общество. И есть он, Иван Самойлов, которому князь… ну, скажем так: доверяет.
– То есть, – уточнил Ефим, – на кого вы укажете, тот концессию и получит.
– Нет, Господь с вами, – Самойлов взмахнул рукой, скромно отрицая собственное всемогущество, – князь, знаете ли, человек в высшей степени разумный, он и сам верное решение примет, если ему предъявить все обстоятельства. Зачем ему, скажите, англичане? Разорять наши недра? Они вон и на Ишим наметились…
– С Алтаем как раз понятно, – заметил Ряжский, – там золото, кабинетские земли. А в Приишимье что? Пушнина и лес?
– И это тоже, почему нет. Но ради одного этого англичане, уверяю вас, не стали бы выкладывать очень изрядные деньги. Им кое-что известно… то, что, как они думают, больше никто не знает. Но я-то, господа, я – сам из тех краев, и то, что я вам скажу, вы вполне можете проверить!
– Так и говорите, – мягко предложил Ряжский.
– Вы про тамошние прииски, может быть, слышали. Да, они по большей части выработаны. Которые еще что-то дают, с хорошим оборудованием выгоду бы принесли, а так – слезы, а не прииски. Впрочем, не в них дело. Там болота кругом, а под ними – порода, пластами. До ледников еще…
Он слегка понизил голос, говоря без обычной своей расслабленности – быстро и отрывисто, и даже лицо будто подобралось и помолодело. То, о чем он говорил, было ему довольно смутно знакомо – главным образом, со слов Коронина и брата Васи, – и теперь он старался как можно точней и осторожнее подбирать термины, чтобы объяснить будущим компаньонам – а уж Ряжский-то точно не профан! – каким образом в Приишимье, где по всем показателям никак не должно быть золота – оно есть.
– …Никто и никогда не пытался разрабатывать. Но не один выход и не два, а как бы не десяток. Если места знать…
– Вы знаете, – улыбнулся Ефим.
– Англичане знают. Есть у меня подозрение, что вышли на кое-кого из местных… Короче, они уже там! Просто так бы не поехали.
– И что вы предлагаете? – вопрос, заданный Ряжским, был очевидно риторический, но Самойлов на него ответил:
– Создать свое общество. У них – «Ishim Gold Corporation sdf dfLtd.», у нас – «Золото России». Почему нет? Ведь в самом деле: Россия! Они, ясное дело, разорят, пенки снимут… или проще: сыграют на акциях, и до свидания! А мы гляди потом на эти земли, и ничего уж не сделаешь…
– Так это ж деньги нужны, – сказал Шталь.
– У меня свободных мало, – Ряжский заинтересованно и удивленно смотрел на Самойлова. Надо же, как его пробрало. Россия! Ну, на Россию-то ему, положим – плевать, а вот на свой карман – нет, и, видимо, дело и впрямь стоящее. Неужто сможет повлиять на Мещерского? Нельзя же позволять англичанам…
– Деньги, допустим, есть у меня, – снова заговорил Ефим, – а у тебя, Костя – имя. Возьми да съезди к старику. Повспоминай о Ксеничке, посочувствуй. Он, говорят, из-за нее прямо-таки в ипохондрию погрузился.
Ряжский удивился еще сильнее. Ефим, которому всегда и на все наплевать, самойловские идеи явно принял всерьез – и даже планы строит, как будто они уже договорились! Да, пожалуй… пожалуй… Но англичане?..
– Как же быть с англичанами?
Ефим согласился:
– Это проблема. Бульдоги, если уж во что вцепились, челюстей не разожмут.
– Да какая проблема! – Самойлов нетерпеливо дернул лицом. – Договор, что, разве уже подписан? Да я нынче же с князем поговорю! И вам бы тоже, конечно…
– У них фора, – сказал Ефим, – они раньше начали.
– И что? Где они сейчас? Завязли на Алтае. Да они, если хотите знать, оттуда могут и вовсе не вернуться. Сибирь есть Сибирь, каторжный край.
– Да-а? – Ефим весело вскинул бровь. – Замечательный, я вам скажу, был бы вариант.
– И очень реальный. В тех местах, откуда я родом, люди в тайге пропадают что ни день. Прикопают в том же болоте… и где она, «Ишим-золото корпорейшн»? Была и нету. Никто и не спохватится.
Ряжский согласно кивнул… и вдруг – опомнился, сообразив, что они обсуждают! Шталь откинулся на спинку кресла, рассеянно улыбаясь.
– Предпочитаю все же посетить Сибирь в качестве золотопромышленника, а не каторжника. Костя, ты, надеюсь, тоже? Поэтому первая задача – договориться с князем…
Самойлов опустил глаза, гася легкую досаду. Да уж, с этими настоящего дела не сделаешь. Один ленив, другой – чистоплюй. Ладно! Главное – деньги дадут, на это он их, считай, уговорил! И, значит, теперь ему ехать в Егорьевск. А там…
Там – поглядим.
В которой Софи посещает оккультную вечеринку, на которой кое-что узнает об особенностях шестой послеатлантической эпохи, но ничего – о судьбе Ирен
Софи Домогатская относилась к тому сорту людей, которые, если сумели понять, что ошиблись, всегда признают свои ошибки. Таких людей немного, но все же они встречаются. Уникальность же Софи состояла в том, что для этого признания ей не требовалась никакая внутренняя работа, и ни малейшего насилия над собой. Констатировала она свои ошибки так же легко, как ясным летним утром встают с постели здоровые физически и преисполненные амбиций юноши. Встали и пошли, не оглядываясь назад.
В небольшой, но уютной гостиной огромной квартиры генерала Платова на Гороховой улице Софи потребовалось около четверти часа, чтобы сообразить, что все ее домашние заготовки и предположения относительно кружка Ачарьи Дасы ничего совершенно не стоят.
Неожиданным оказался уже сам состав собравшихся. По рассказам и прежнему опыту Софи полагала увидеть с десяток-полтора более-менее экзальтированных учениц, окружающих учителя, пару мятущихся юнцов и некоторое количество определенного вида мужчин, с больным кишечником, в меру побитых жизнью, но все еще воображающих себе что-то в духе Михаила Лермонтова.
Собравшееся в гостиной общество составляли совершенно не те люди.
Софи, которую Даса представил как новую адептку, интересующуюся оккультными вопросами, легко вошла в разговор. Разумеется, в нем были и чакры, которые то открывались, то закрывались (Софи отчего-то представляла их чем-то вроде дыхательного отверстия у виноградных улиток), какие-то каналы, по которым куда-то текла непонятная, но очень могучая энергия, и прочие загадочные вещи. Но все это поначалу было вполне обходимо и не становилось самоцелью.
Невысокий, коренастый юноша с восточным лицом разъяснял собравшимся главу из недавно изданной и уж наделавшей шуму книги своего дяди «О системе врачебной науки Тибета». С ним о чем-то спорил высокий, сухощавый, со следами недавно перенесенной лихорадки мужчина. Как после выяснила Софи, восточный юноша звался Осор Бадмаев и был племянником практикующего в Петербурге известного бурятского врача, а мужчина по фамилии Вельяминов являлся сотрудником Института Экспериментальной Медицины, который вместе с экспедициями, предпринятыми институтом для борьбы с чумой и холерой, объездил не только всю Россию, но бывал и в Индии, в Персии, в Манчжурии и в Китае.
Закутанная в шаль женщина с худым умным лицом беседовала с двумя коротко стриженными девушками о сравнительных аспектах женского медицинского образования в России и Германии. Софи поняла, что одна из девушек – студентка того самого института, о котором ее спрашивала Надя Коронина, и, разумеется, воспользовалась случаем, чтобы расспросить ее. В результате все три собеседницы сами заинтересовались экзотическим (в подаче Софи) образом таежной целительницы-самоучки и взяли с Софи слово, что она при первой же возможности снабдит их адресом этой удивительной сибирской женщины-врача.
В общем, столоверчением, вызыванием духов и принесением в жертву черных петухов в гостиной даже не пахло.
«Да, – решила про себя Софи. – Ирен все это, несомненно, могло заинтересовать. Но что ж здесь делала глуповатая и эмоциональная Ксения? Какова была ее роль? Сохла по красавчику Дасе? Давала деньги на содержание всего этого?»
Ее размышления были прерваны явлением сразу двух новых и, о неожиданность! – знакомых ей лиц. Первым оказался Константин Ряжский – удачливый промышленник из дворян (что, несомненно, являлось скорее исключением, чем правилом в общей картине капиталистического Петербурга), когда-то приятель Ефима Шталь, вроде бы порвавший с бароном после событий, касавшихся сводного брата Ефима – Михаила Туманова. Одно, весьма короткое, время Софи и Константин приятельствовали. Причем, нельзя было сказать, что Ряжский ухаживал за Софи. Скорее, это она стремилась привлечь его внимание. Потом, после всех историй с сапфиром, Ефимом и Тумановым, и замужества Софи, их отношения прервались.
Теперь Софи, естественно, удивилась, но и секунды не потратила на то, чтобы на манер графа Толстого порассуждать о пути исканий, приведшем Пьера Безухова к масонам (то есть Константина Ряжского в оккультный кружок Ачарьи Дасы). Она просто нешуточно обрадовалась и кинулась к нему.
– Костя, я так рада, что вы тоже здесь. Знакомый и заведомо здравомыслящий человек. Пойдемте сядем.
Константин Ряжский выглядел намного более пораженным встречей, чем Софи. Причем, если бы Софи хоть чуть-чуть пригляделась, то наверняка заметила бы не слишком положительный характер этого удивления.
– Здравствуйте, Софья Павловна. Как вы тут…? – некоторое время Константин явно колебался, потом все-таки склонился и светски поцеловал руку Софи. Адепты приветствовали друг друга каким-то мудреным образом: прикладывая ладонь ко лбу, к груди и, кажется, проделывая еще что-то. Подобные мелочи Софи не интересовали, да и свою руку она почти вырвала у Константина, торопясь взглянуть ему в глаза.
– Костя, вы ведь видели здесь, знали Ирен, не так ли?! Вы же не могли ее не заметить! Она моя сестра, и Даса говорил, что у вас здесь все под кличками, а ее так и звали – Ириной…
– Да, мы с Ириной неоднократно встречались на собраниях, – сухо подтвердил Ряжский.
– Ну так что? Что вы скажете про нее, про все это?
– Ирина была самым сильным медиумом из всех, которых я когда-либо видел и о которых мне доводилось слышать, – подбирая слова, сказал Константин. – Она многое могла переживать и познавать через свое эфирное тело. Иногда это действительно содержало важные откровения из духовного мира…
Из сказанного Константином Софи не восприняла ничего, кроме формы глагола «быть». Она вздрогнула и схватила Ряжского за руку.
– Была?! Вы думаете… вы думаете, что ее больше нет в живых?
Константин видимо побледнел, но голос его по-прежнему оставался суховато-рассудительным:
– Я имею в виду только то, что последние события, быть может, просто отвратили Ирину от всех этих занятий и развернули в сторону другой, более обыденной жизни. Этим и только этим я объясняю ее отсутствие…
– Ах вот как! – Софи облегченно перевела дух. – Но… зачем же ей в таком случае прятаться от родных? От подруги? Если она просто решила порвать со всем этим… Может быть, ей что-то угрожает? Что вы имели в виду, Костя, когда говорили: известные события? Что именно?
– Я, может быть, отвечу вам, – сказал Ряжский, аккуратно, но решительно отцепляя пальцы Софи от своего рукава. – Но сначала вы мне ответьте: что вы здесь делаете? С вашим твердым материализмом, и хорошо известным мне презрением ко всему, что хоть сколько-то выходит за рамки осязаемого и умопостигаемого? Каковы ваши намерения?
– Да очень простые, – быстро ответила Софи. – Ирен исчезла. Полиция этим заниматься не хочет, считает, что она по своей воле, а больше некому получается. Вот, я узнала, что она все последнее время проводила с этими… ну, то есть, с вами, и вот… Иду, как гончая по следу. А что еще сделать? Посоветуйте, Костя!
– И что ж… – в глазах Ряжского появилась задумчивость. – Сколько я вас знаю, со следа вас уж ничем сбить нельзя?
– Да разве только Ирен найдется, – Софи развела руками. – А так что ж… Да вот еще напасти по одной не ходят!
– Что ж еще? – спросил Ряжский.
– Гриша, – Софи вполне доверяла Константину, помня его, как человека не слишком общительного и доброжелательного, но, несомненно, порядочного и надежного. – Брат мой революцию делал, потом в крепости сидел, нынче в Сибири в ссылке. Так вот жена его пишет: совсем плох. Тоже что-то делать надо, и медлить нельзя. Голова кругом: думаю, думаю, и ничего придумать не могу…
– Может быть, вам, госпожа Безбородко, стоит хоть раз положиться на судьбу и не бросаться всем телом на колесо дхармы, надеясь, что оно от этого закрутится быстрее? – философски спросил Ряжский.
Софи досадливо поморщилась.
– Костя! Ну хоть вы-то ерунды не несите! Боги и дхармы сами по себе, а, если крутиться не станешь, так ничего и не сделается. Вы-то уж это не хуже меня знаете… Так что за «известные события»?
– Я имел в виду смерть Ксении Мещерской, которая, несомненно, произвела на Ирину глубокое впечатление.
– А вы сами знаете, или хоть предположить можете, отчего Ксения погибла?
– К сожалению, нет, но очень хотел бы знать, – в рыже-серых глазах Константина блеснул нехороший огонек, который ничего доброго не сулил убийце. – Но мне лучше других понятно, что все это, – Константин скупым жестом обвел рукой гостиную, где собралось уж много народа. – Действительно может быть опасным. В нашем мире много дверей. Но не всем и не во все следует заходить и даже соваться…
– Ксеничке уж точно не следовало, – согласилась Софи, не слишком понимающая, о чем идет речь. – А что ж Ирен?
– Под настоящим оккультным руководством из нее вполне можно было сделать высшего медиума, – заметил Ряжский. – Но это было бы слишком опасно для нее. Ей не следовало позволять…
– Что позволять? Кому? Дзегановскому-Дасе?
– Простите, Софья Павловна… Но я действительно более ничего не знаю…
Второй неожиданностью оказалась Любочка Златовратская. Увидав ее, Софи позволила себе на пару мгновений задуматься, и тут же решила, что все правильно: неглупая, получившая образование, приученная в родительском дому к вдумчивому чтению Любочка вполне могла найти в кружке Дасы одновременно и светское развлечение (которых ей так не хватало в ее вынужденном затворничестве), и пищу для ума.
– Софи?! Вы… здесь?! – Любочка отчего-то выглядела не только удивленной, но и встревоженной неожиданной встречей.
«Неужели боится, что я Николаше донесу?» – внутренне усмехнулась Софи.
– Здесь, здесь, – проворчала она, коротко обнимаясь со старинной приятельницей. – Неужто не знаете: Софи Домогатская по своей всем известной взбалмошности может оказаться ну совершенно где угодно!
– Вы… вы увлеклись теперь оккультными учениями? – осторожно поинтересовалась Любочка.
– Вот еще! – фыркнула Софи, понизив, впрочем, голос почти до шепота. – Идите, Любочка, сюда, в уголок, я вам расскажу.
Люба послушно двинулась вслед за Софи. С подвижного лица ее не сходила удивленно-тревожная гримаска.
Софи в трех словах обрисовала ситуацию, напоследок призвав Любочку стать ее единомышленницей и помочь в поисках сестры.
– Но почему вы решили, что смерть Ксении и исчезновение Ирен связано между собой? – серьезно спросила Любочка. – Ирина, сколько я ее знала (немного, надо признать), все время находилась как будто бы внутри себя, и с Ксенией практически никогда не общалась.
– Не знаю точно… Но что-то мне подсказывает… Думается, что вряд ли это обыкновенное дело даже и в оккультных кружках – одну убили, другая чуть не вслед за тем исчезла… Проще предположить, что связь все-таки есть. Да и Густав Карлович также считает, а за ним – ого-го! – сорок лет полицейского опыта…
– Густав Карлович? – Любочка нахмурила густые брови. – Кто же это?
– Это бывший полицейский следователь, который негласно расследует смерть Ксенички по поручению князя Мещерского. Он со мной, естественно, своими предположениями не делится, но у меня в его окружении есть свой агент! – с ноткой гордости за свою ловкость сказала Софи.
Любочка нахмурилась еще больше.
– Значит, Мещерский с помощью этого Густава Карловича ведет свое расследование, а вы, Софи – свое?
– Да, да, именно так. Меня, конечно, больше интересует найти Ирен, но и Ксеничку тоже жаль, хотя и не вернешь уже, что б ни выяснилось… Она вообще-то безвредная была, как я ее помню. У кого рука поднялась, ума не приложу… А что ж вы мне, Любочка, скажете?
– Я?… – Златовратская задумалась. – Что ж – я? Я ведь с обеими накоротке не была… Ну вот разве что… Мы тут после смерти Ришикеш (это так здесь Ксению звали) под руководством учителя сначала неделю постились, а потом проводили, можно сказать, свое расследование, на тонком, эфирном плане…
– Ну, да, да! «Дух императора Наполеона, ответь: кто Ксению Мещерскую придушил?»
– Если тебе не интересно, Софи, так я не буду… – обиделась Любочка.
– Да нет, очень интересно, – спохватилась Софи. – Рассказывай!
– Тонкости и методики тебе уж явно не нужны, – заметила Любочка. Софи поспешно закивала. – Потому скажу сразу про результат. В результате же коллективного сеанса медитации получилось, что Ксения погибла из-за тех препятствий, которые воздвигаются духами тьмы на пути прохождения эфирного тела через сферы тройственной души.
– О, Господи! – вздохнула Софи. – А в чем же это материально-то выразилось, можно узнать? Удавку-то ей на шею кто накинул? Духи тьмы лично или как?
– Ну, этого мы, к сожалению, узнать не можем… – потупилась Любочка.
– И какой тогда прок? – пожала плечами Софи.
Между тем наконец приступили к тому действию, ради которого, по-видимому, и собрались. Вот тут уж расселись в странных на взгляд европейца позах, погасили электрические лампы, зажгли свечи и какие-то ароматические палочки, хором затянули что-то ритмическое и заунывное. Софи тихо приткнулась в уголок. Любочка куда-то исчезла. Ряжский сидел на ковре в первом ряду, развернув кисти ладонями вверх. Даса, в тех же белых одеждах, воздев руки, дирижировал происходящим и быстро и изящно соединял пальцы в явно что-то обозначающей последовательности. Софи попыталась было следовать за ним, но быстро сбилась.
Потом по очереди приветствовали всех собравшихся, которые, в свою очередь, выражали желание и готовность приступить к какого-то рода мистическим действиям. В этом затянувшемся эпизоде Софи заинтересовал лишь один момент.
– Сегодня Ирины телесно нет с нами, – сказал Даса и, как показалось Софи, нашел ее взглядом. – НО я чувствую, что ее иехида нас не покинула, находится среди нас и оказывает нам поддержку…
– Простите, что перебиваю, уважаемый Ачарья Даса, – как могла вежливее обратилась Софи. – Но что такое «иехида»?
Многочисленные ученицы тихонько, но яростно зашипели, как потревоженный во пне клубок устроившихся на зимовку змей. Перебить учителя! Да что она себе позволяет! Эта неизвестно откуда взявшаяся выскочка!
Но Даса по виду не обиделся и не возмутился совершенно.
– Очень хороший вопрос, – доброжелательно сказал он. – Кто сможет ответить на него нашей гостье? Ты, Патни?
– Слушаюсь, учитель.
Юленька склонила голову, приложила ладошку ко лбу и отрапортовала звенящим голоском, не глядя на Софи:
– Иехида – это эзотерическая высшая индивидуальность или атма-буддхи-манас, когда объединены в одно. Эта доктрина содержится в «Халдейской книге чисел», которая учит семеричному делению человеческих качеств. Во время зачатия святой посылает д'юк-на или призрак образа тени, подобный лицу человека. Это замышляется и оформляется в божественный целем, т. е. образе тени элохима. Именно целем ожидает дитя и принимает его в момент его зачатия, и этот целем есть наша лингашарира. Руах с нэфеш образуют подлинную личность человека, а также его индивидуальность. Эта комбинация есть то, что теософы называют двойственным манасом, высшим и низшим эго, слитым с атма-буддхи и ставшим одно.
– Исчерпывающе, Патни, я сам бы не сумел объяснить лучше, – сказал Даса, едва заметно улыбнулся Софи и склонил голову. Юленька польщенно зарделась.
Софи же больше вопросов не задавала. Если Даса планировал с помощью Патни-Юленьки нейтрализовать беспокойную гостью, то это удалось ему как нельзя лучше.
Последующее действие по характеру вполне напоминало проповедь, хотя тема ее и не была объявлена.
Было и что-то вроде практической части (или причастия? – Софи, хотя и получила когда-то начальное религиозное образование, совершенно не разбиралась в христианской и прочей эзотерике.)
Впрочем, у Дасы речь шла о конкретных образах (а не о чувствах, которые предписывалось испытывать в христианской церкви. Сама попытка предписаний в этой области с детства вызывала у Софи энергичный протест). Предложение же «представить» что-либо никакого протеста не вызывало, и Софи охотно пыталась выполнить звучащие рекомендации.
Сначала следовало представить себе черный крест, как символический образ для уничтожения низших влечений и страстей. Потом на пересечении его перекладин следовало поместить семь сияющих алых роз, расположенных в круге (Софи для простоты сплела их в венок и дополнила милым сердцу образом старого сельского кладбища) и олицетворяющих собою образ крови, уже очищенной от этих самых влечений.
Потом от всего этого следовало отказаться. «Я погружаюсь не в образ, а в мою собственную душевную деятельность, порождающую образ…» (Софи послушно оставила странную могилку с крестом и розами и отправилась побродить по кладбищу, выходившему на косогор спокойной среднерусской реки).
– Вы слишком привыкли к тому, – вещал между тем Даса. – Что ваша внутренняя жизнь определяется внешним впечатлением. Углубляться в самого себя следует не затем, чтобы копаться в своей душе, а для переработки и приведения в порядок добытого в жизни опыта. В тиши и покое… (Софи остановилась на косогоре и, глядя на медленно текущую реку, попыталась собрать в единую систему все, что говорили ей по поводу Ксении и Ирен Дашка, Любочка, Даса и Костя Ряжский.)… Нет надобности искать переживания, они имеются всюду («Вот это уж точно!» – мысленно горячо поддержала Дасу Софи)… Мне самому понадобилось объехать весь мир, чтобы понять это… А теперь будем молчать. Благоговейное молчание – ключ для познания сверхчувственных миров…
В этот вечер сверхчувственные миры явно не были благосклонны к Софи. В молчании ей ничего не открылось. Впрочем, тут же подумала Софи, может быть, во мне просто недостаточно благоговейности…
Дальнейшее напоминало уже не проповедь, а скорее, лекцию в Университете. Причем Ачарья Даса говорил куда понятнее, и употреблял значительно меньше заумных слов, чем Патни. Софи, которая вообще не любила терять времени попусту, придерживалась мнения, что в любом месте и теме можно почерпнуть что-то здравое. Внимательно вслушиваясь в разглагольствования Дасы и стараясь следить за его мыслью, она и не заметила, как увлеклась.
Сначала ей казалось, что все, о чем говорит Ачарья, к ней лично не относится. Но из услышанного сумела понять, что даже и у нее есть надежда, так как «в пятом послеатлантическом периоде познания о сверхчувственных мирах будут вливаться в человеческое сознание, и повторится то, что внес в развитие человечества третий период – египетско-халдейский. Тогда душа обычного человека еще напрямую воспринимала факты сверхчувственного мира».
Пока Софи тщетно пыталась вспомнить, кто такие халдеи, Даса сообщил собравшимся, что шестой послеатлантический период – это период развития России, и ведущую роль в нем сначала будет играть интеллигенция, которая в России уже сейчас существенно отличается от интеллектуалов западных стран и Америки. Интеллигент в России – это человек, пробужденный для духовной жизни. (Софи тут же поняла, что никак не может отнести себя к интеллигентам и даже немного загрустила от этого. Потом встряхнулась и напомнила себе: ну вот, Ирен – пробудилась, стала интеллигенткой, и что вышло?!).
В это время Даса почему-то перекинулся из России на Британские острова. Это тоже, в свете дел Веры и компании, показалось Софи интересным.
Оказалось, что «кольцо заговоров, которое начинается в Лондоне, тянется по Западной Европе, идет в южную, в балканские страны и заканчивается в Петербурге (Софи попыталась вообразить себе кольцо, расположенное на географической карте описанным образом, но потерпела поражение. В кольцо непременно попадала неупомянутая Дасой мусульманская Турция, арабы и прикаспийские кочевники. Потом на память почему-то пришло «кольцо Нибелунгов», и соответствующая музыка из оперы Вагнера).
«В англо-саксах заключен ведущий элемент пятой послеатлантической эпохи (Недолго вам осталось радоваться, – вспомнила Софи. – Мы – следующие!). Услышанное именно в оккультной области может прояснить бесконечно многое, что происходит в обычном мире. Миссия британского народа заключается в распространении по всей земле коммерциально-индустриальной универсальной монархии. Позади распространения материальной культуры действуют оккультные импульсы.»
После этого, леденящего кровь «непробужденных», утверждения Даса снова вспомнил про Россию.
«Если учреждается британская коммерция, то должен быть создан относящийся сюда русский полюс. Эти две области необходимы для создания циркуляции. Таким образом, задача англо-саксонских оккультных братств: создать противоположность между британской индустриальной империей и тем, что выявляется из русского элемента одновременно с происходящей на основании спиритуальных задатков подготовкой шестой послеатлантической эпохи.
Противополюс в лице будущих русских, которые, конечно же, еще менее, чем сегодня, будут склонны заниматься бездуховной коммерцией…
(«Это отчего же?! – мысленно возмутилась Софи и взглядом просверлила затылок Ряжского, как будто ожидая от него противостояния Дасе. – Я многих уже и теперь знала и знаю, которые вполне склонны и способны. А уж к шестой послеатлантической…»)
Если в мире не получат распространения духовные импульсы, то мы будем иметь с Запада только экономические истины. («И то неплохо! – вздохнула про себя Софи. – С паршивой овцы хоть шерсти клок…»)
Изначальное знание постепенно угасло, усилилась зависимость от территории. Англосаксы воображают в себе миссию мирового господства.
Но есть еще и социальный вопрос, о котором вы все знаете. Он существует сегодня в виде всемирно-исторического импульса, и никто уже не может закрывать глаза и отрицать его существование. Великие социальные импульсы, живущие в современном человечестве (особенно в пролетариате), частично перехвачены марксизмом и тем самым фальсифицированы, – это, в сущности, самые спиритуальные силы души, но повернутые материалистически («Эх, надо было Олю Камышеву с собой взять, – подумала Софи. – Она бы прямо сейчас ему и сказала!») Оккультисты Запада больше уже не справляются с социальными импульсами европейского человечества. В их среде зреет мысль создать поле для эксперимента, где должны быть изжиты и доведены ad absurdum социальные импульсы, являющиеся, с их точки зрения, лишь утопией. Этим полем для эксперимента видятся для них славянские страны. Западный мир не предназначен для разрушения его социалистическими экспериментами, – так они рассуждают. – для этого существует восточный мир. А потом западный мир будут защищать, указывая на восток: вот, мол, к чему приводит социализм, когда он распространяется так, как это нежелательно для западного мира! Тем самым хотят вызвать антипатию ко всем социальным движениям и идеалам.
После прекращения эксперимента Восток превратится в область, где трудятся, а Запад – в область, где распоряжаются тем, что Восток извлекает из природы…»
– Но где же выход, учитель? – не выдержал кто-то из адептов. Как показалось Софи, это был юноша-бурят.
– Выход видится в том, чтобы пронизать Землю вновь приобретаемой общей для всех духовностью. Без различия наций, вер, цвета кожи и социального положения. Но экономически – мы просто не успеваем. Запланированный и спровоцированный западными оккультистами социальный взрыв может последовать раньше, чем промышленная Россия встанет на ноги. Из этого следует, что сейчас развитие промышленности в России – духовно-мистическая задача…
«Так вот почему Константин здесь!» – догадалась Софи, разглядывая энергично кивающий затылок Ряжского.
После, как принято и в Университете, уже запланировано задавали вопросы.
– Каким же образом сейчас Запад управляет Востоком на материальном плане бытия?
– Держать в руках Восток можно, поддерживая лишенную науки религию. И наплевать, что это – мистическое безличное православие или такой же безличный коммунизм. Плодоносящий синтез науки и религии оставлен для внутренних оккультных кружков англо-саксонской расы – ведь только так можно направлять ход мировых событий.
– Каково соотношение теософии и масонства?
– Современное франкмасонство содержит мало следов теософического влияния. Какими бы точными и прекрасными не были мысли Сведенборга, Пернетти, Паскуале, Сен-Мартена и Шастанье, они оказывают крайне слабое влияние на современное общество.
– Следует ли, живя в миру, стремиться к аскезе? Ограничивать свои природные импульсы?
– Борьба с природой – это бессмысленная мечта аскетов. Как будто бы природа не является самим божьим законом… Христианская церковь сделала из природы восставшую силу и тем придала материи более смысла, чем у нее есть на самом деле. Вольтер и прочие порождены вовсе не ересью или язычеством. Они порождены самим христианством. Языческий бог – это гений природы, грациозный как весна, и страшный, как морская буря. Язычество породило истины орфиков, герметиков, неоплатоников. Атеизм и вульгарный материализм порождены христианской церковью.
Некоторое время послушав ответы Дасы на вопросы учеников, Софи подобралась поближе. «Ну, может быть, в этот раз он не будет на меня Юленьку натравливать…» – подумала она и задала свой вопрос.
– А если человек все-таки не верит ни в каких богов?
– Человек, который честно живет без религии, лишает себя большой помощи, но он не наносит ущерба Богу. Бесплатные дары не заменяются наказаниями, когда от них отказываются, а Бог – не ростовщик, который заставляет людей оплачивать проценты того, чего они не занимали…
– А как же христианский ад? – тут же пискнула одна из учениц.
– Ярость, когда не можешь ничего понять и ни во что не веришь, бешенство, когда не можешь любить – вот это и есть настоящий ад, – серьезно ответил Даса, глядя на Софи, а не на юную ученицу.
– То есть, вы хотите сказать, учитель, что все христианские легенды всего лишь… – упрямо наклонив круглую башку, начал бурят Осор.
– Легенда зачастую содержит больше правды, чем история! – прервал его Ачарья Даса. – Смотря как взглянуть, смотря как взглянуть…
– О! О… – залепетали окружающие Дасу ученицы, видимо, в восхищении от открывшейся им глубины истины.
– В чем же тогда должна заключаться цель и деяния пробужденного? – поправляя пенсне, строго спросил врач Вельяминов, который явно относил себя к интеллигентам.
– Человек, в целом реального мира, есть существо, предназначенное к тому, чтобы привести к единству все многообразные существа, развившиеся в лоне природы, с целью побудить их принять участие вместе с ним в управлении космосом и в беспрерывном осуществлении божественной мысли.
– Вот это сказал! И все слова русские, – с уважением пробормотала Софи и протолкавшись поближе к Дасе, спросила. – Скажите пожалуйста, Даса, а что бы мне такое прочесть? Вот, особенно про то, где верующие и неверующие. И про природу…
Даса задумался. Потом сказал (несколько учениц еще прежде достали блокнотики и карандаши и стали записывать):
– Вам, Софи, я порекомендовал бы для начала почитать труды Альфонса Луи Константа, известного под именем Элифас Леви Захеда. Это христианский отступник, умнейший человек. «Ключ к великим тайнам», «Майдонский колдун», «Наука о духах», «Великий Аркан». Хотя бы что-то из этого…
– Спасибо, – поблагодарила Софи и в этот момент снова увидела Любочку Златовратскую.
Женщина неотступно, не обращая внимания на окружавших ее людей, наблюдала за Софи.
(прим. авт. – Не давая никакого толкования сему факту, автор считает нужным сообщить читателю, что все вышеописанное вовсе не придумано им (автором) с учетом знания последующих исторических событий. Все это действительно обсуждалось в оккультных кружках Европы и России на рубеже веков, до всяческих войн и революций, которые потрясли цивилизованный мир в 20 веке.)
Словесная вязь текла из-под двери непрерывным потоком, от которого у Дашки, старательно пересчитывавшей бокалы в буфетной, чесалось в носу, и вот-вот готов был начаться насморк. Надо же, думала она в смятении, ведь так складно говорит, и по отдельности каждое слово понятно, а вместе… ну, ничего! И не дура ж она вроде. Или таки – дура? Господа-то вон понимают! Надо будет потом у Софьи Павловны спросить.
Она снова покосилась на полуоткрытую дверь, прикусывая губу, чтобы громко не захихикать. Нет, ну взрослые ж люди, ей-Богу. Сидят в чудных позах, растопыря ладони. Дамы – все, как одна, набеленные, губы у кого свекольные, у кого лиловые, у кого вовсе черные, под глазами – тьма, одеты в балахоны какие-то. Когда дама в теле, это уж совсем нелепо. Вот мужчины – те ничего, респектабельные вполне. Только неужто и им все это интересно?.. А если притворяются, то зачем? Дашка, не вдумываясь в смысл текущих из-за двери речей – да и как вдумаешься в то, что непонятно по определению?! – инстинктивно не сомневалась в том, что все происходящее – игра и притворство. Всякие тайны и чудеса она, конечно, обожала, но они для нее могли быть только земного свойства. А мистика… мистика – это книжка, роман про арабского шейха на белом верблюде, на которого (шейха, конечно, а не верблюда – хотя…) худой, смуглый и горбоносый учитель Ачарья Даса был похож просто до ужаса!
Где-то в белоснежных одеждах у него был спрятан кинжал, которым он ту несчастную наверняка и зарезал. Или ее задушили? Дашке неприятно было думать о таких подробностях. А как не думать, когда вот он, убийца – рядом, и ее, если догадается, кто она такая, точно так же может!.. Нет, тут же возражала она себе, он – не убийца, он сам в опасности, его охранять надо! В дверь, вместе с речами, текли невиданные ароматы из курильниц, развешанных по всем комнатам, и от этих ароматов мысли окончательно путались и рождались невнятные и нелепые грезы наяву…
– …Вы знаете, кто ее убил?
Голос Учителя вдруг произнес короткую фразу, надо же – совершенно понятную! Дашка вздрогнула. Голос донесся не из той комнаты, где они все медитировали, а совсем с другой стороны. С площадки черной лестницы! Каким-то образом Даса туда переместился, она и не заметила.
Она сделала несколько осторожных шагов к этой черной двери. Надо же посмотреть, с кем он разговаривает. И почему – там?
– Я почти уверен…
– И вы решили сказать мне?
– Кому ж еще, как не вам?
Даса говорил спокойно. А тот второй, наоборот – очень нервничал. Дашка никак не могла его разглядеть. Дверь была хоть и стеклянная, но стекло – матовое, и виден был только силуэт, все время клонящийся то в одну сторону, то в другую.
– Это не имеет отношения… к нашим делам…
– А к чему же имеет? Или – к кому?
Второй не ответил. Но – дернулся особенно сильно, и Дашка испугалась: вот сейчас возьмет и набросится на учителя! Почему-то у нее не было сомнений в том, что он может это сделать, уж очень голос у него какой-то… судорожный: то тянет, то запнется, то букву проглотит. Старается звучать небрежно-иронически, да куда там.
– Я не могу пока… Это близко меня самого касается…
Даса ничего больше не сказал. Дверь скрипнула. Дашка поспешно отбежала в дальний угол, к посуде и бутылкам. Вот они сейчас войдут, и им сразу про нее все будет ясно!
Ачарья Даса вошел один. С тем, вторым, расстался, даже не попрощавшись. Когда он проходил мимо Дашки, она низко склонилась над бокалами, делая вид, что его не замечает (и то сказать, шаг у него был бесшумный). Даса не остановился и ничего не сказал. Но она отчего-то была совершенно уверена: он знает, что она подслушивала. И сейчас, идя мимо, смотрит на нее и улыбается.
В которой у Ирен объявляется жених, Лисенок и Серж Дубравин любят друг друга, а Элен уговаривает инженера Измайлова ехать в Сибирь
– И вот, Петя, получается, что никто, ну абсолютно никто из людей, с которыми Ирен общалась последнее время, не знает, куда она делась. Как будто бы просто шла по улице и – раз! – исчезла… Но такого же не может быть!
– Разумеется, не может. Значит, была причина…
Софи и Петр Николаевич разговаривали в гостиной своей петербургской квартиры. За окнами кисеей висел светлый весенний вечер, напоминавший Пьеру музыку Грига, а Софи – сливочное мороженое в кондитерской Фрумма.
– Единственной причиной видится смерть Ксении. Может быть, Ирен что-то узнала об этом убийстве и скрылась, опасаясь за свою жизнь? Но почему тогда она не обратилась ко мне? Нет, это невозможно…
– Соня, твоя привычка думать, что все, попавшие в затруднительное положение, должны немедленно обращаться к тебе, в чем-то даже умилительна…
– Всего лишь опыт, Пьер, всего лишь опыт… – раздраженно заметила Софи. – Кстати, о попавших в затруднительное положение. Вопрос с Гришей нельзя более откладывать. Я должна ехать, но Ирен…
Софи стояла у окна и по своей, еще от детства оставшейся привычке, поглаживала бронзовые ручки. Их теплая, чуть шершавая поверхность казалась ей приятной и почему-то солоноватой на ощупь.
– Поезжайте, Софья Павловна! – отрывисто произнес от двери голос, значительный более низкий, чем голос Петра Николаевича. – Поезжайте, коли должны…
– Константин! Господин Ряжский! – разом воскликнули супруги.
Над обтянутым коричневым сюртуком плечом Ряжского замаячило круглое личико Фроси.
– Оне так быстро взошли… – пробормотала она. – Я и докладать не успела…
– Чем обязаны, Константин Васильевич? – спросил Петр Николаевич, поднимаясь и пожимая протянутую Ряжским руку.
– Прошу прощения за необъявленное вторжение, – веско сказал Константин. – Однако, дело не терпит более отлагательств. Я должен сказать вам… – он шумно и некрасиво сглотнул.
– Что же? – поторопила Софи. – Об Ирен? Говорите ж!
– Ваша сестра Ирина – моя невеста. Мы помолвлены, – говоря, Ряжский смотрел на паркет и крутил на толстом пальце большой, довольно безвкусный перстень.
«Неужели это Ирен ему подарила? – удивилась Софи. – Не может того быть, при всей отстраненности у сестры довольно тонкий художественный вкус…»
– Но почему… – начал Петр Николаевич.
– Вы знаете, где она?! – прервала мужа Софи.
– К сожалению, нет. На ваш незаданный вопрос, Петр Николаевич, могу ответить так: по желанию самой Ирен. Она не хотела, чтобы кто-то узнал о наших отношениях до тех пор, пока не назначен день свадьбы. Вы знаете, ей болезненно претила любая шумиха, она не желала знакомств, светских визитов и прочего… Мои родители давно умерли, братьев и сестер у меня нет, поэтому мне было легко выполнить ее просьбу или прихоть…
– И что ж теперь? – спросила Софи, глядя на Константина. Об ее взгляд можно было порезаться.
– Как вы понимаете, я тоже, как и вы, разыскиваю Ирен. Думаю, нам следует объединить усилия. Софья Павловна поедет в Сибирь выручать Григория Павловича, а мы с Петром Николаевичем…
– Костя, а вы не хитрите со мной? Из своих интересов…
– Зачем мне это нужно? Я собираюсь найти Ирину, жениться на ней и прожить с ней остаток жизни. У нас с ней общие взгляды, чаяния… Вы же, Софья Павловна, виделись с сестрой хорошо если раз в месяц…
– Это аргумент, – признал Петр Николаевич.
Софи молча склонила голову.
Когда обговорили детали и подробности, Ряжский откланялся. Софи не пошла провожать, по-прежнему смотрела в окно. Вечер за разговором неравномерно потемнел, словно стол, залитый чернилами. Зеленовато-лиловым светом горели газовые фонари. Извозчик сверху, из окна, казался механической куклой. Подковы рыжей лошадки гулко зацокали по мощеной мостовой. Ряжский, держа шляпу на коленях, обернулся и взглянул наверх, встретился глазами с Софи. Приподнял было руку, но удержал жест в себе. Софи помахала ему ладошкой.
Из окна терема было хорошо видно озеро, с мутно-синим, каким-то нехорошо пятнистым льдом. Лед на Черном озере будет держаться до конца апреля, а в иные годы у северо-западного берега, в тени, бывало и до мая не стаивал. Черные ели стояли по берегам, будто плакальщицы у изголовья покойника. Выбеленное небо саваном накрывало всю картину.
– Господи прости, какая жуть в голову лезет, как шанег с мясом переешь, да пива перепьешь! – с досадой пробормотал Дмитрий Михайлович Опалинский, отводя взгляд от озера.
Тут же, словно в насмешку, на глаза попалась странница Евдокия, обгорелой палкой бредущая наискось по двору, по своим, никому не ведомым делам. Дмитрий Михайлович едва удержался от того, чтоб сплюнуть и перекреститься. Евдокия всегда вызывала у него какое-то ознобное, неприятное чувство. И то, что она уже много лет жила на их заимке, и отчего-то они с женой никак не могли от нее избавиться… Ну ладно, пока была жива Марфа Парфеновна, тетка Марьи Ивановны, воспитавшая ее. Под конец жизни она прямо таки душою прикипела к угрюмой Евдокии, переехала на заимку жить, и без ее совета не делала буквально ни одного шага. Все душу спасала… Интересно было б теперь узнать: спасла ли? Целую грачью колонию развели старухи вокруг выкупленной Опалинскими заимки: странницы, богомолки, какие-то божьи люди, до глаз заросшие бородами… Дмитрий Михайлович звал непрошеных насельников «грачами». Марья Ивановна вслух сердилась, но про себя, кажется, соглашалась с точностью мужниного наименования. Все в черном, ходят неспешно, бормочут что-то себе под нос…
Жили «грачи» в окрестном лесу, в избушках-полуземлянках, которых с каждым годом как-то незаметно прибавлялось. Пять лет назад какие-то захожие могутные странники, в подпоясанных алыми кушаками длинных рубахах, за половину лета срубили в лесу небольшую ладную часовню. Молиться в нее стали приходить из тайги совсем уж зверовитого вида персонажи, из тех, которыми малых детей пугают. Евдокия со старухами всех привечали без разбору…
И вот теперь, когда Марфа Парфеновна уж несколько лет как упокоилась на егорьевском кладбище, у Опалинских все никак не получалось решительно изжить из своих законных владений всех этих людей, которые мешали, беспокоили, муторно действовали на душу, как бывает, мешает попавшая на роговицу маленькая пылинка… Марья Ивановна все толковала про грех и обиду Божьим людям, Дмитрий же Михайлович греха не боялся. Скорее, не мог сообразить, как взяться за дело… И чем объяснить?
Евдокия и ее «паства» в дела хозяев заимки не мешались, жили тихо и скромно. Несмотря на явную разбойность части «прихожан», соблюдали звериный же обычай: вблизи логова не гадить и не куролесить. Сама Евдокия ни разу не сказала Дмитрию Михайловичу дурного слова и вообще никого и никогда вслух не осуждала. Напротив, говаривала не раз, что сама более всех грешна и не ей судить.
Бывало, Дмитрий Михайлович даже думал о том с любопытством: что ж она такое натворила-то, если на здешнем каторжном фоне – «более всех»? Сварила в котле пару христианских младенцев? В дореформенные времена собственноручно запорола на конюшне полдюжины крепостных девок? Застрелила из пистолета мужа или любовника, или обоих сразу? Надо признать, что все это неприятно легко связывалось в его мозгу с нынешним обликом странницы Евдокии…
– Раз уж ты, матушка, странница, так и шла бы себе куда-нибудь… Подальше… – пробормотал Дмитрий Михайлович, неприязненно глядя вслед прямой черной спине.
– Что ты говоришь, Сережа? Мне? – послышалось позади него.
Дмитрий Михайлович обернулся и разом помягчел лицом. Поманил девушку к себе.
– Елизавета…
Лисенок по своему обычаю была одета в штаны и длинную самоедскую куртку, шитую из оленьей шкуры. Она быстрыми, неслышными шагами пересекла просторную комнату. Подошла не к мужчине, а к роялю. Ноги ее были босы, узкие и длинные ступни оставляли на полу влажные следы, похожие на след зверя.
– Где ты была?
– Ходила в лесу. Слушала… – девушка распустила закрученные в узел волосы и они пламенным водопадом стекли ниже лопаток. Мужчина облизнул внезапно пересохшие губы.
– И что?
– Под снегом ходят мыши. Вот так…
Лисенок открыла крышку рояля и, тремя пальцами нажимая клавиши, сыграла, как ходят мыши. Мыши показались Дмитрию Михайловичу чем-то испуганными и возбужденными.
– Кора трещит. Но уже не так, как зимой, а по-другому. Влажно и протяжно, понимаешь?
– Сыграй, – покорно попросил Дмитрий Михайлович, и кончиками сцепил между собой дрожащие пальцы.
Пока Елизавета не выразит в музыке все, что она увидела, услышала и подумала за то время, когда они не виделись, с ней бесполезно разговаривать о чем-то другом. И вообще все бесполезно…
Елизавета… Лисенок…
Девятнадцать лет назад он увидел в лесу ее мать, юродивую еврейку Элайджу, которую родители прятали от людей. Девушка в одной белой рубахе, по грудь вошла в обжигающе холодную озерную воду, только что освободившуюся ото льда. И огромные дикие лебеди, остановившиеся на озере по пути на восток, поплыли ей навстречу. Элайджа кормила лебедей пирогами, а ее белые груди плавали перед ней, как два больших птенца. Рыжие волосы, такие яркие, каких не бывает у живых людей, пламенели в закатном бреду. Дмитрий Михайлович, который тогда еще ощущал себя Сержем Дубравиным, онемев и окаменев, стоял в кустах, на другом берегу маленького озерца. Какое-то время он думал, что встретил лесного духа, нимфу… Потом на нимфе женился Петя Гордеев, и прижил с ней четверых детей, старший из которых умер при рождении. Лисенок была старшей из выживших.
Когда-то инженер Андрей Андреевич Измайлов сказал Опалинскому на обеде в «Калифорнии», указывая на Петиных детей: «Они вовсе не слабоумные, как вы все тут думаете. Их можно развивать, и результаты будут великолепны.» – Дмитрий Михайлович тогда ему не поверил. Ведь если бы это было так, то Мария Ивановна давно занялась бы этим вопросом. Ведь она привязана к своей семье, любит детей, и всегда искренне горевала по поводу того, что Шурочка – их единственный ребенок.
Но позже Дмитрий Михайлович убедился в правоте инженера. И спросил у жены: «Маша, Элайджа не может заниматься образованием своих детей – это каждому очевидно. Почему же ты не…»
Мария Ивановна даже не дала ему договорить. «У них, между прочим, есть еще и отец! А если ты такой добрый и благородный, можешь сам этим заняться!»
«Ну что ж, и займусь, если тебе недосуг,» – пожал плечами Дмитрий Михайлович. Сказать по чести, он так и не сумел разгадать причину негодования жены. Да и не особенно о том задумывался.
А Элайджины дети, словно диковинные цветы, растущие и развивающиеся у него на глазах, доставили ему в последующие годы немало приятных минут. Особенно Лисенок, которая в полной мере унаследовала музыкальность, рыжие волосы и первобытную красоту своей матери (где-то в глубине души Серж Дубравин всегда оставался эстетом). При всем том она была явно тоньше и ранимее Элайджи, которая все эти годы жила, почти не соприкасаясь с реальным миром.
Он играл с ними в мяч, читал им вслух любимые книги своего детства (читателем из всех троих стал только Юрий. Девочки по сей день больше любили слушать), ходил вместе с ними в лес и на Березуевские разливы. В лесу и на разливах уже дети выступали его проводниками, показывали и рассказывали о лесе такое, чего он сам никогда бы не разглядел и не узнал… Первое время Дмитрий Михайлович всегда звал с собой сына. Но Шурочка по слабости здоровья или по какой-то иной причине избегал совместных со «звериной троицей» игр и прогулок.
До начала прошлого года все трое называли его «дядя Митя». Теперь так обращалась к нему только Анна-Зайчонок. Юрий, подрастая, стал звать его по имени-отчеству, а Лисенок…
Он всегда знал, что Элайджа каким-то не слишком понятным ему образом все-таки общается со своими детьми и что-то рассказывает и передает им. Однажды… Они с Лисенком были тогда на заимке вдвоем. Девушка часто приходила сюда без брата и сестры, чтобы поупражняться на рояле. А он… трудно теперь сказать, что влекло его на заимку. Тогда он думал, что в волшебном теремке, сотворенном посреди тайги больным воображением настоящего Мити Опалинского и художественным талантом остячки Варвары, он философствует и отвлекается от прозы приисковой жизни… Тогда он не удержался и спросил:
– Элайджа… твоя мать когда-нибудь показывала тебе лебедей?
Лисенок по виду совершенно не удивилась вопросу.
– Да, я знаю. Они пролетают над нами ранней весной. Их надо кормить, чтобы поддержать их силы. Мама печет для них специальные хлебцы с травами.
– И ты… теперь ты кормишь их? – почему-то с замиранием сердца спросил Дмитрий Михайлович.
– Конечно, – кивнула Лисенок. – Кто-то должен. Я старшая. Лебеди живут долго, но не очень хорошо различают людей. Я распускаю волосы и они принимают меня за маму.
– Лисенок… – он отвернулся от нее, но все равно услышал предательскую хрипотцу в своем голосе. – А ты могла бы теперь… распустить волосы… для меня? У тебя… очень красивые волосы…
– Я знаю, – бесстрастно согласилась девушка. – У меня такие же красивые волосы, как у мамы… Может быть, тебе сыграть лебедей?
– Да, сыграй мне, как ты их кормишь. И покажи… распусти волосы!
– Хорошо, – тут же, без паузы, сказала Лисенок за его спиной. – Только ты не поворачивайся, пока я не скажу.
В тереме было две печи, но они не могли протопить обширные помещения, и в комнате с роялем оставалось прохладно даже летом. Однако, в тот мартовский день Дмитрий Михайлович обливался потом. Противные струйки текли по шее и по спине, под мышками было мокро. Раньше он потел в меру, и только от напряженной физической работы, которая, надо признать, в его жизни случалась нечасто. «Наверное, это оттого, что я уже немолод», – подумал он и пожалел себя. Думать так о себе было горько и сладко одновременно, как если бы сжевал подряд целую плитку шоколада.
Лисенок между тем закончила возиться и заиграла. Дмитрий Михайлович сам был умеренно музыкален от природы, и одаренность воспитанницы давно воспринимал как должное. Зная особенность музыки Елизаветы, он честно попытался представить себе озеро и лебедей. Воображение у него было богатое и обычно все получалось. Нынче же что-то откровенно мешало. Когда он сообразил, что и где именно, то заново облился потом.
– Повернись! – приказала Лисенок.
Дмитрий Михайлович обернулся. Девушка сидела за роялем в простой, белой, короткой рубашке, с распущенными волосами. Черно-белые клавиши огромного инструмента были строги и изысканно прекрасны. Яркая ржавчина ее разметавшихся волос на их фоне казалась почти вульгарной. Босые ступни, которыми она нажимала на педали, покраснели от холода.
Дмитрий Михайлович приблизился, как во сне, развернул ее к себе вместе с крутящимся, выкрашенным черной краской табуретом, опустился на пол и засунул узкие замерзшие ступни себе под рубашку, поближе к подмышкам, во влажное горячее тепло. Его ладони лежали на ее круглых золотистых коленках, и он вдруг увидел, что его ногти, когда-то гладкие, стали ребристыми и грубыми. Лисенок коротко вздохнула, наклонилась вперед и положила свои руки ему на плечи.
– Как мне тебя назвать? – спросила она.
Он вспомнил, как Элайджа когда-то говорила: вещь и ее имя – одно. Вполне возможно, что и ее дочь считала также. И распространяла это мнение на людей.
– Ты же знаешь, меня зовут Сергей Алексеевич, – тихо сказал он. – Ты можешь назвать меня… Сережей?
– Я смогу… потом… – тихо сказала Лисенок.
И от ее низкого голоса он сошел с ума.
После он сто раз проклял и тысячу раз благословил этот мартовский вечер и последовавшую за ним ночь. Она действительно называла его Сережей, шептала, а потом и выкрикивала это имя (его настоящее имя!), которого он не слышал уже много-много лет. Когда он потом думал об этом, то всегда путался в двух понятиях: «продажа души» и «возвращение души». На что он тогда был готов, и что сделал на самом деле, об этом он так и не сумел с собой (или еще с кем-то?) договориться.
Главная неловкость возникла отчего-то не с женой, а с Петром Ивановичем. Много лет находясь как бы в родственных отношениях и живя фактически одним домом, они никогда не были близки, но, казалось, испытывали друг к другу ровную молчаливую приязнь. Петя никогда по своей воле не мешался ни в какие дела сестры и зятя, Дмитрий Михайлович сторонился его вечно лающих собак, охотничьего оружия, висящих на гвоздях ягдташей, пахнущих кровью, перьями и шерстью… Когда Опалинский занялся образованием детей, Петя, который сам по молчаливости и отстраненности от всего с годами стал напоминать Элайджу, еще потеплел к нему, и даже как-то, будучи в сильном подпитии, косноязычно, но горячо поблагодарил.
Теперь же Дмитрий Михайлович при каждой встрече с Петей ощущал себя последним негодяем. Почему-то ему казалось, что он не только изменил его сестре и совратил дочь, но и как-то задел честь Элайджы (а именно этого Петя никому не простит – как-то безошибочно Дмитрий Михайлович чувствовал это). Оттого ли, что он вожделел еврейку когда-то, много лет назад, или еще отчего-то, но смотреть Петру Ивановичу в глаза и говорить с ним о пустяках становилось с каждым днем все труднее. И на вычищенные Петины ружья и блестящие охотничьи ножи в кожаных ножнах он теперь смотрел какими-то другими глазами. Глазами будущей жертвы?
Лисенок с ее бесовской, унаследованной от матери проницательностью как-то напрямую сказала ему, что отца бояться не надо. Даже если он узнает, то ничего не сделает ни ей, ни Сереже. Он хотел ей верить, но до конца – не мог. Наверное, дело заключалось в том, что воображаемая Петина агрессия отчасти была его собственным негодованием против самого себя.
– А вот Марья Ивановна…? – спрашивала Лисенок, и глаза ее поблескивали в темноте двумя оранжевыми звездочками.
– А что – Марья Ивановна? – спрашивал он в ответ и, к стыду своему, не мог придумать ничего умнее.
Странное дело, но перед женой ему почти не было неловко. Его встречи с Лисенком ничего не отбирали от их с Машей дел и ничего в них не заменяли. Подобного у них просто никогда не было. После нескольких интимных встреч с Елизаветой Дмитрий Михайлович легко разгадал всегда для него непонятное: как это Петр Иванович столько лет живет со своей еврейкой и никогда даже не помышлял об ином.
В телесной любви Лисенок была как в музыке, как во всем – спонтанный гений природы. Иногда Дмитрию Михайловичу (нет – Сереже!) казалось, что он готов умереть в горячем кольце ее тонких, сильных, покрытых веснушками рук. Бывало, пугала мысль: а мог ведь действительно умереть, от старости, или от колик, и не узнать, что есть такое…
И вот удивительно: после любви он с ней подолгу, иногда часами, разговаривал. Еще помнилось, как обижалась и даже плакала по молодости Маша: ну вот, теперь ты уже и спать хочешь. Он тогда удивлялся: а что же еще в постели делать, когда все кончилось? Ей же, представьте, хотелось говорить о чем-то путаном и романтическом. И он, сделав свое дело, да намотавшись за день с подрядами и приисками, тоже испытывал что-то вроде досады: чем языком-то чесать, лучше бы хоть чуть-чуть поворачивалась, помогала ему, а не лежала после первых поцелуев как замороженная… С Лисенком все было иначе. Он рассказывал, рассуждал обо всем подряд. Она устраивалась на его груди, заглядывала в глаза, смотрела, как шевелятся губы. Никогда не знал, понимает ли она его. Но она – слушала. А потом, голая и золотистая, садилась за рояль и играла. Играла его жизнь. Слушая ее игру, он часто плакал, не стыдясь своих слез. Плакал о себе. Елизавета утешала его, как умела. У нее – все получалось.
– Скажи: ты меня любишь? – часто спрашивал он, с неловкостью вспоминая, как с этим же вопросом когда-то приставала к нему Маша. Он тогда почти злился на молодую жену: говорил же не раз, в церкви венчались, живем в одном дому, спим в одной постели, чего ж ей еще?!
Лисенок вроде бы не сердилась. «Суди сам,» – просто отвечала она.
Никогда, ни разу девушка ни о чем его не просила, при частых встречах в усадьбе не проявляла и не говорила ничего, чего нельзя было бы сделать или сказать на людях. Он же, ругая себя, едва сдерживался, чтобы не прикоснуться ненароком, не поцеловать хоть украдкой. Седина в бороду, бес – в ребро…
Свидания на заимке он всегда назначал сам. Она почти никогда не отказывалась. Зато после того, как встретились, сошлись в комнате с роялем, уж никакой инициативы от него не ждала, готова была делать и придумывать все сама и, казалось, получала от этого не меньшее удовольствие, чем он. Порою рояль казался ему третьим в их любви. Когда он в шутку сказал ей об этом, она серьезно кивнула. «Да, так и есть. Музыка между мной и тобой. Между мной и всем миром. Этого нельзя изменить. Прости, если тебе это неприятно.»
Когда стало тепло, он, зная ее любовь к дикому лесу, предложил встречаться где-нибудь в тайге. «Это будет прекрасно и романтично, под стать твоей юной красоте!» – заявил он, опять отчего-то некстати вспомнив жену, и представив себе что-то такое неопределенное среди цветов и молодых ветвей. Лисенок засмеялась: «Столько лет в тайге живешь, Сережа, а все равно – глупый. Мошка, комары и гнус – позабыл, однако? Можно, конечно, дым пустить, но тогда ничего не видно будет и кашлять все время…»
Теперь он дождался конца ее музицирования и обнял ее с такой страстью, словно вернулся домой из дальнего царства. Целовал серьезное лицо, губы, шею, плечи. Ее кожа пахла озерной травой.
В близости она любила быть сверху и быстро-быстро облизывала острым язычком розовые губы. Он блаженствовал и старался не думать: что дальше? Она шептала: Сережа, Сереженька, хороший… Он: рыженькая моя, Лисенок, Лисеночек маленький… Быть собой, слышать свое имя, которое произносит любимая женщина… Спустя много лет, когда и надежду уже потерял… Люди, которые не лишены этого счастья, не умеют это оценить. Как все, оказывается, просто устроено в этом мире! И как поздно это понимаешь…
Но как же все-таки быть с Машей? Егорьевск не столица, здесь все про всех быстро становится известным…
Корявые ржавые сосульки свисали с крыши сарая. Два драных, грязных молодых петуха, подпрыгивая, с гонором бегали друг за другом по угольной куче.
Марья Ивановна взошла на крыльцо, уперлась кулаком в поясницу. «И чего бы за столько-то лет не сделать ступеньки пониже, да пошире?» – с обидой подумала она. Спохватилась: на кого ж обида? Вот сегодня отдать распоряжение Мефодию, глядишь, через недельку и перестроят крыльцо… Он, он должен был подумать и распорядиться. Понять, увидеть, как она отяжелела с годами, догадаться, что ей уже в труд каждый день по многу раз влезать на крутое, резное крылечко… Пожалеть…
Внезапно Машеньке захотелось в Петербург, в столицу, танцевать в атласных бордовых туфельках на вощеном, сверкающем паркете. Свечи горят, в их дрожащем свете все плечи белы, все лица таинственны и прекрасны… Да какие свечи? Там уж, во дворцах, давно электричество везде… Да все равно…
Не было и не будет такого никогда! Во всяком случае, для нее, для Машеньки-хромоножки, которая, как личинка под корой, навсегда спряталась в грузном и рыхлом теле немолодой тетки…
Отчего-то вдруг пришло в голову: кто мог бы понять ее нынешний порыв? Теперь или хоть когда-то увидеть эти свечи, услышать шорох легких ног, грациозно скользящих по сверкающему наборному паркету? Кому могла бы сказать, с кем поделиться? Отец? Ему наверняка о таком и не мстилось никогда. Деньги, рабочие, подряды, хозяйство, прииски, золото, опять деньги – вот его интересы… Муж? Отчего-то казалось, что если он и думал о чем-то таком раньше, то уж никак не связывал все это со своей женой. Скорее уж с Софи Домогатской. Тетка Марфа? Да упаси Господи! Кузины? Фаня? Нет, славная поповна в юности несомненно была своего рода мечтательницей, но все ее мечты касались лишь радостей плоти… Неужто никто?
Мама… – вдруг, едва ли не впервые за много лет вспомнила Машенька. Мария, глядящая на облака, мечтающая о несбыточном… Она-то сумела бы понять, принять, пожалеть, приголубить… Но где она теперь? Где была всегда, когда была так нужна своей маленькой хроменькой дочери… Марья Ивановна ощутила слезы, выступившие на глазах, и внезапно, вместо того, чтоб окончательно размякнуть душой, разозлилась. Глупость все! Атласные туфельки, подумать только! Крышу, вон, на сарае перекрывать надо!
Взгляд снова упал на голенастых, взъерошенных петухов.
«В суп дармоедов! Сегодня же! – подумала она с наслаждением, но потом окоротила себя. – Что ж петухи-то виноваты?»
И еще позже: «Отчего это я все время оправдываюсь в каждом своем чувстве, поступке? Перед кем? И не довольно ли уже?»
– Я пришла просить вас об одолжении, Андрей Андреевич, – войдя и категорически глядя перед собой, сказала Элен.
– Конечно, Елена Николаевна, – мягко произнес Измайлов, не приближаясь. – Я полностью в вашем распоряжении. Вы же знаете… Все, что вам только будет угодно…
Женщина была так напряжена, что ему казалось – подойди к ней, дотронься хоть пальцем, и она закричит. Не от испуга или оскорбленного достоинства, а согласно тому самому физическому закону, по которому сбрасывается на металлическую пластину накопленный в лейденской банке электрический заряд.
– Сейчас я сделаю нам чаю, вы присядете вот сюда, к столу и все мне расскажете. Или, может быть, вы хотите кофе? Вина?
От подчеркнутого спокойствия и сдерживаемой нежности в манерах и голосе инженера Элен слегка разморозилась и даже осмелилась напомнить:
– Я просила вас: зовите меня Элен.
– Хорошо, Элен. Но тогда вы, в свою очередь, называйте меня Андреем.
– Я… я попробую… Андрей…
В ее устах его простое имя прозвучало так тонко и ласково, что у него едва ли не слезы навернулись на глаза. Конечно, он сдержал себя.
– Вот и славно. Так что же вы будете пить, Элен?
– Мне все равно… – Элен, наконец, решилась оглядеться, по-птичьи резко повернула голову в одну, в другую сторону, и тут же ее карие глаза весело блеснули. – О! Я заметила!
– Что же? – вежливо осведомился Измайлов.
Это было трудно сказать словами. Элен и не пыталась, она выразила все одной улыбкой, обращенной к инженеру. От улыбки на ее щеках появились ямочки. Измайлову захотелось поцеловать их, вместо этого он стиснул зубы.
Еще бы она не заметила! Ведь все из-за нее!
Стерильное жилище Измайлова было похоже на пробуждающийся после зимы петербургский двор-колодец. Все кажется по-прежнему мертвым и нечеловеческим, но… Где-то сквозь плиты протянулась тоненькая, но живая былинка. Отчаянно переругиваются на пыльном жестяном карнизе воробьи. В луже отражается клочок неба и купается взъерошенный голубь. Кто-то выставил на подоконник пожелтевший за зиму цветок в глиняном горшке. Чумазый мальчишка пускает из кухонного окна склеенного из газетного фунтика воздушного змея. Из чердачной щели внимательно следит за всем остроухая полосатая кошка…
Всего лишь мелочи, заметные только пристрастному взгляду, но…
– У вас салфетка на столе появилась, и на книжке чертик сидит, – сказала Элен.
– Да вот, – смущенно потупился Измайлов. – Пристал, понимаете, смешной такой оборванец сразу после Вербного воскресенья: купи да купи! Не сумел отвертеться…
– Да, да! – горячо подхватила Элен. – Мне тоже всегда трудно отказать. И по мне это сразу видно, наверное, потому что все пользуются. И дети, и нищие, и все… Я в молодости на ярмарки ходить боялась…
Выпили кофе. Потом чаю. Измайлов взмок, и, спросив разрешения, расстегнул сюртук. Элен утирала лоб кружевным платочком. Когда она положила его на стол, Измайлов, подавая еще печенья, тихонько утянул платок и спрятал в карман.
– Где ж мой платок? – удивилась Элен время спустя. – Вот тут лежал…
– Право, не знаю, – пожал плечами Андрей Андреевич и взглянул честными, широко расставленными глазами. – Да и на что мне? Хотите, дам свой?
– Пожалуй, – поколебавшись, согласилась Элен.
Измайлов поражался своим чувствам, но больше, неизмеримо больше – самому существованию Элен, каждому ее слову. «Не может быть, чтоб она была еще и умна!» – говорил он себе, и сам не верил своему скепсису.
– Это очень странное ощущение – словно ожидание жизни, – говорила между тем Элен. – Все вокруг кажется даже не шекспировским спектаклем, а страницами романа. Причем ведь так похоже многие нынешние писатели пишут, что и не отличишь. Средневековые, готические романы, да и французские – это все-таки совсем другое. Там сразу как-то чувствуется граница – вот ты, а вот – они. У нас не так. Неприятное это даже чувство, когда читаешь, вот хоть господ Чехова, Достоевского, Эртеля и как будто бы к тебе в душу без спросу влезли… И от этого именно ждешь чего-то… Многие женщины, я знаю, так живут. Мужчины все-таки более конкретно деятельны. Некоторые, во всяком случае. Но у меня лично это всеохватывающее ожидание почему-то всегда было связано с Софи. Как будто бы это она должна придумать, а потом… Особенно это усилилось после того, как она написала первый роман. Вы ведь знаете, я в какой-то мере была его вдохновительницей. Я собирала эти письма из Сибири, уговаривала ее. И потом… потом я как будто бы все время ждала, что вот, она перевернет страницу и выпустит меня, и тогда начнется… Выпустит – куда? Начнется – что? Если бы знать. Впрочем, все это глупость такая… Не надо…
– Нет, не глупость. Позвольте, Элен, мне продолжить. Я это все очень даже понимаю. И ваша Софи без всяких иносказаний влезла мне без спросу в душу, и превратила мою жизнь в страницы романа. С тех пор… наверное, в каком-то смысле я тоже упустил поводья своей жизни, и теперь жду, когда страницы будут перелистаны… кем-то неведомым. (Госпожа Домогатская в этом смысле мне явно не подходит). Наверное… скорее всего, я просто труслив и слаб. Попробовал, не вышло, спрятался в норку. – Измайлов встал, снял, не открывая, с полки синенький томик Некрасова. С чувством продекламировал вслух. – «За обойденного, за угнетенного, встань в их ряды! Иди к униженным, иди к обиженным, там нужен ты!» Красиво, благородно! – положил книгу, перелистнул лежащую на столе газету. – «Роскошные и пышные волосы достигаются только при регулярном употреблении бальзама ЭЙКАЛИПТИ для рощения волос. Приготовленный в лаборатории А. Энглунд. Уничтожает перхоть, приятно освежает головную кожу, флакон стоит всего 2 рубля». Тоже не вредно, согласитесь? – Измайлов провел ладонью по своей лысеющей голове от затылка ко лбу, прикрыл на мгновение глаза. – Слишком много вокруг умных, энергичных и талантливых по-своему людей, которые желают дергать за нитки. Прямо кипит всё. И так трудно наперекор всему идти своей дорогой. Да еще и как бы узнать – где она?
Сидящая на стуле Элен осторожно протянула руку и погладила локоть стоящего Измайлова. Он, как ожог, ощутил ее прикосновение через три слоя ткани, и, испугавшись, отошел к полкам с книгами.
– Что-то меня на отвлеченные абстракции потянуло… Простите. Вы ведь говорить о чем-то хотели, как пришли?
– Правда, – потупилась Элен. – Это вы простите меня… Я знаю, что так нельзя, но… Софи нынче едет в Сибирь выручать Гришу. Одна. Вы могли бы поехать с ней?
– Что?! Поехать в Сибирь с Софьей Павловной? – Измайлов был неприятно поражен и не скрывал этого.
– Разумеется, вы такой просьбы не ожидали, – еще ниже склонив голову, произнесла Элен. – Но я… я очень за Софи волнуюсь. Это может быть опасно, а она… она ведь по природе своей опасности не чует, пока прямо над головой не грянет. Да вы же там бывали, и знаете… И еще… я вот почему решилась. Мне… нам обоим нужно время, чтоб разобраться во всем, понять, принять решение какое-то, а когда вы здесь… Надо – врозь. Я не могу… Если вы сейчас откажетесь, то я сама в деревню уеду…
– Ну уж нет! – решительно сказал Измайлов. – У вас же сыновья, муж, обязанности какие-то… Я – человек одинокий. Не сказать, чтоб общество Софьи Павловны и посещение Сибири составляли предел моих мечтаний, но… Снявши голову, по волосам не плачут…
Элен поднялась со стула, положила руки на плечи инженера и поцеловала его. Цветочно-березовый запах ее духов окатил его, как вода из лохани. «Если убрать духи, то так маленькие девочки целуют на ночь престарелых родственников,» – подумал Измайлов.
– Спасибо вам… Андрей, – тихо сказала Элен. – Вы очень великодушны.
В которой Евпраксия Александровна снова обретает сына, егорьевские компаньоны заново знакомятся с Николаем Викентьевичем, а Софи Домогатская прибывает в Екатеринбург
Просторные комнаты анфиладой, обставлены и оформлены с московским, тридцати-сорока летней давности, смешанным, купеческо-дворянским шиком. Дорогой фарфор, два блестящих самовара, много тафты, плюша, гнутых ножек, какие-то самоедские поделки из кости, потолок – золоченая лепнина на деревянной основе… Если бы были понимающие люди, наверное, посмеялись бы украдкой. Понимающих людей в Егорьевске нет. Те, кто удостаивались быть приглашенными в покои Евпраксии Александровны Полушкиной, вздыхали: «Шикарно-то как, матушка, благодетельница!»
После побега старшего сына и обращения к Богу, а потом и смерти мужа Евпраксия Александровна очевидно для всех сдала. Не могла выносить закрытых дверей, все, сколько ни есть в покоях, должны быть распахнуты настежь. Иногда забывала что-то в разговоре или в одежде. Завела птичек в клетках (самоедские мальчишки за плату ловили ей силками), и желала, чтобы они все время чирикали. Так ей было спокойней. На ночь сама накрывала клетки платками, сыпала пичужкам зерно, наливала свежую воду. От тех, которые петь больше не желали, сразу же избавлялась. Пусть хоть зима, хоть кошкам на корм. Василий Полушкин отвергнутых матерью птичек жалел, забирал к себе, раздавал до весны егорьевским детям, давал копейки «за постой». Весной все вместе выпускали их на Березуевских разливах, уж и обычай образовался. Отмашку давал сам Василий, предупреждал ребятню заранее, покупал в лавке леденцы, иные сладости. Взрослые, прознав от ребят, приходили смотреть, радовались освобожденному птичьему щебетанию в голубом небе. Молодежь приносила гармонь и на протаявшем от снега лугу, на берегу разливов устраивала пляски и игры. Агнешка от «Калифорнии» торговала пирогами и квасом, Татьяна Потапова – платками, кисетами и прочей мелочью (раздухарившиеся от весеннего солнышка парни и девки покупали все это на подарки друг другу), Илья Самсонович из-под полы угощал мужиков горячительным. Вечером Василий Викентьевич по обычаю же присылал подводу – забрать опустевшие птичьи клетки, загрузить упившихся до положения риз, развезти по домам. С чьего-то длинного языка самостийный праздник назывался – «отпускать Московских гостей».
Постарев и душой и телом, Евпраксия Александровна, однако, не сделалась вовсе развалиной. Много и дельно советовала младшему сыну, когда он входил в понятие о подрядах, поставках и прочем. Не позволяла ему проявлять излишнюю мягкотелость и верить в долг. Предупреждала связываться с самоедами и особенно расплачиваться с ними водкой (позже Вася на своей шкуре убедился в матушкиной правоте). В память мужа творила богоугодные дела, раздавала милостыню.
По вечерам, водрузив на нос очки и запалив лампу с абажуром из зеленого стекла, много и прилежно писала. Василию говорила, что сочиняет, по примеру Софи Домогатской, роман. Но что скроешь в Егорьевске? С почты регулярно отправлялись пухлые послания в Екатеринбург, а оттуда, по слухам, доверенное лицо Полушкиной, переменив конверт, переправляло их еще дальше, в столицу империи. Правду сказать, письма самой Евпраксии Александровне приходили нечасто…
Вот и теперь, завернувшись в шаль и низко склонившись на столом, она царапала пером по бумаге. Подчерк у Евпраксии Александровны сохранился на удивление – молодой, красивый, почти девический. Бывало, сама любовалась на ровные, словно вышивка, строчки, ложащиеся на белый лист… Говорят, у китайцев красота письма считается прямо наравне с другими искусствами. Что ж, легко понять и поверить…
Шаги с лестницы по анфиладе вызвали досаду, еще состарили испещренное морщинами лицо: наверняка Вася с какой-нибудь докукой. Или, еще того хуже, прислуга…
Вошедший ростом был пониже Васи, а лица после света в полутьме сразу и не разглядишь. Незнакомый мужчина в доме? На ночь глядя? Кто же? Как вошел? Где Вася? Евпраксия Александровна даже испугалась слегка. Рука дрогнула, чернила капнули на лист…
– Матушка! – прошептал вошедший, быстро подошел, опустился на оба колена и спрятал лицо в складках шали.
– Ни-кола-ша… – с трудом выдохнула Евпраксия Александровна, бросив перо, обеими руками обхватила голову старшего сына, и тихо и сладостно завыла.
Вера Михайлова сидела на стуле, далеко расставив колени под широкой юбкой. Густые брови ее были нахмурены, кончик перевернутого карандаша мерно постукивал по некрашеному столу. Николаша, который годами был немного старше Веры, отчего-то чувствовал себя рядом с ней гимназистом-приготовишкой, и злился на себя за это ощущение.
Вася-орясина, сводный младший братец, не слишком-то изменившийся за прошедшие годы, разве что заматеревший в груди и плечах, подпирал спиной бревенчатую стену приисковой конторы и глупо улыбался. Еще один человек, моложе братьев годами, которого Николаша не знал (но крупные, правильные, хотя и грубоватые черты лица которого казались ему смутно знакомыми), сидел в углу на другом стуле и, спросившись Веру, курил короткую толстую папиросу.
– Что годы меняют? – низким грудным голосом спросила Вера, обращаясь к Василию. – Матюшина смерть на его совести. Я Никанору верю.
Вася кивнул, не убирая с веснушчатого лица дурацкой улыбки. Николаше, как часто бывало в молодости, захотелось закатать ему оплеуху.
– Со слов Никанора же, Вера Артемьевна, как вы мне объяснили, – вступил незнакомец. – Выходит, что это было просто стечение обстоятельств…
– Да разумеется, Вера Артемьевна! – воскликнул Николаша. В увиденное им было трудно, но поневоле приходилось поверить: эта баба в полосатой юбке, бывшая горничная-крепостная, – тут главная. Оба мужика – у нее на посылках. – Да, я плел интриги, да, хотел Гордеева свалить, а самому подняться. Но! Матвея Александровича не только убивать не желал, напротив, в случае удачи – хотел его главным над всеми приисками сделать. Как самого понимающего и честнейшего во всей тайге человека… И обижать ни его, ни тем более вас не собирался…
– Однако, Матюша в могиле, Никанор – семь лет на каторге за убийство провел, а после и сам в землю лег… – задумчиво, без злобы сказала Вера.
Николаша поежился. Сам он отнюдь не был ни трусом, ни чистоплюем, но отчего-то вдруг показалось: с этим вот безучастно-задумчивым выражением лица Вера Артемьевна Михайлова может и петуху шею свернуть, а, если что-то пойдет не так, то и его, Николашу, собственноручно пристрелить и в тайге прикопать. Или распорядится кому…
– Но вы сейчас мне правду сказали… – вымолвила Вера, и мужчина ненадолго перевел дух. («Говорит так, будто и действительно правду от лжи отличить может. Кто ж она такая? Ведьма, что ли?»)
– Расскажи о деле, Николай, – качнулся вперед Василий.
Николаша рассказал, стараясь говорить кратко и вразумительно, и испытывая невольное удовольствие каждый раз, когда, задавая вопросы, к нему обращались его настоящим именем: Николаша, Николай, Николай Викентьевич. Потом поймал себя на том, что вдруг отчего-то не только говорит, но и думает о Викентии Савельевиче – «покойный папенька». Думает с искренней печалью и как бы даже со стыдом за то, что когда-то не слушал, не ценил, огорчал… А как же Владимир Павлович? Кровный отец, о котором столько было перемечтано, столько передумано в туманном детстве и юности… Да Бог с ним!.. Никуда от судьбы не денешься: именно Викентий Савельевич Полушкин дал приблудышу свое имя, вырастил на свои средства, и уму-разуму учил как умел… А Владимир-то Павлович в каком качестве признал – не только сказать, но и вспомнить-то стыдно…
– Так, значит, ваш кровный отец Мещерский как раз и есть тот, кто от государя концессию на Алтае получил? – уточнил незнакомец.
Николаша согласно кивнул, а потом мотнул подбородком в сторону брата:
– Вася, ты бы представил нас, что ли? Лицо мне ваше вроде бы знакомо, но припомнить…
– Я – Ванечка Притыков, Ивана Гордеева младший сын, – усмехнувшись, сам представился незнакомец. – Вы меня, должно быть, мальчонкой знали…
Николаша поежился. Интересно, станет ли этот выросший мальчонка корить его или даже мстить за отца?
Но Иван Притыков тему развивать не стал, вместо этого спросил еще:
– Стало быть, вы, Николай Викентьевич, с друзьями и те англичане, которые у нас в Егорьевске побывали, получаетесь конкуренты?
– Получается так, – Николаша развел руками. – А вы, Васька сказывал, уж вовсе наладились с британцами дело иметь?
– Ну про вас-то не слыхать было, – серьезно заметил Иван, и Николаша, как ни старался, не сумел ухватить в его тоне и словах насмешку (хотя она была очевидна по смыслу).
– А отец точно тебе и твоим друзьям концессию отдаст? – поинтересовался Василий. – Не выйдет ли так, что купят его англичане за бо́льшие деньги, а? Есть ли договор какой, бумаги, которые посмотреть можно?
– Да что ты городишь-то, Васька?! – возмутился Николаша, надеясь, что никто не заметит в его возмущении фальши. – Какие бумаги между отцом и сыном?! Ты представь: Викентий Савельевич тебе, Ваське, что-то из подрядов поручил и, прежде чем тебе по делам отъехать, ты от него подпись требуешь…
– Меня больше не Алтай волнует, а здешние дела, – вступила в разговор Вера. – Что ж тот индус, он-то, я не поняла, на чьей стороне играет? И откуда ему вообще про наши дела известно?
– Да никакой он не индус! – раздраженно возразил Николаша. – Поляк он, если по национальности желаете… А откуда он про нас знает – мне не говорит. Вроде бы бывал когда-то в наших местах…
Вот ведь чертова баба: сразу суть ухватила. Вопрос был, что называется, не в бровь, а в глаз. Хотел бы он сам знать, на чьей стороне играет Даса! И играет ли вообще? Может быть, у него в голове уже настолько все перемешалось, что он и не различает уже, что и на каком свете происходит… Да и карты эти, на которых крестиком клад помечен… Кто в отрочестве романов про острова с сокровищами не читал? Кто не мечтал найти сундук, полный золота и самоцветных камней? Да, если честно рассудить, то сам Николаша не слишком-то и верит в золото на Ишимских болотах… Хотя Васька вот отчего-то не сомневается, да и Ванечка Притыков вроде бы – тоже. Дураки, что ли? Не выросли еще из коротких штанишек? Готовы верить в сказки о карте и кладе? Да ради Бога! Алтайская концессия – вот верное и надежное дело. Пускай только поддержат Николашу в этом, помогут отвадить англичан, а остальное… остальное – как пожелает эта ужасная Вера… Отчего она так на него смотрит? Все вспоминает своего кошмарного, каменноликого инженера, Матвея Александровича Печиногу? Даже и вправду жалко, что убили его. Вот бы чудесная парочка вышла…
– А что ж вы с англичанами полагаете делать? – опять эта Вера, и опять – прямо по существу. – Они ведь теперь на Алтае, а после – сюда приедут. И здесь… Не сговорятся с нами, так с Гордеевыми-Опалинскими стакнуться. Опять убийц станете нанимать?
Ванечка Притыков ощутительно вздрогнул. Василий снова откачнулся от стены, выпрямился во весь свой удивительный рост.
– Зачем вы так, Вера Артемьевна? – мягко укорил Николаша. – Договорились же: старое не поминать. Что было, то минуло давно. Да и зачем англичан убивать, если концессия у нас в руках будет, да и насчет здешнего золота можно и до их приезда подсуетиться…
– Это как же? – заинтересовался Иван.
– Это уж вы мне подсказать должны… Аренда нужна или купить… Во всяком случае, ничего англичанам продавать нельзя… Есть ли тут в болотах еще золото или нет его, все равно сами добычу наладить сумеем, и все прибыли у нас останутся, в России… А Марья Ивановна, что ж, продать даже и за хорошую цену не захочет?
– До приезда англичан снега она никому прошлогоднего не продаст, – заметила Вера.
Иван и Василий молча кивнули.
– Надо думать, – заметил Николаша.
– Вот это правильно, – неожиданно добродушно согласилась Вера. – Такие дела с бухты-барахты не решаются. Нынче мы все с Николаем Викентьевичем заново познакомились… Или вас теперь лучше Николаем Владимировичем называть?
– Нет, нет, пусть будет Николай Викентьевич! – торопливо воскликнул Николаша. Вася взглянул на брата с удивлением, но ничего не сказал.
– Еще, стало быть, продолжим, – сказала Вера. – Вы ведь, Николай Викентьевич, насколько я поняла, афишировать свое появление в Егорьевске не намерены?
Николаша кивнул.
– Ни к чему это. Лет, конечно, много прошло, но мало ли кто заинтересоваться может. Так что я, с вашего позволения, инкогнито поживу…
– Разумеется, – согласилась Вера. – Если вам дома рискованно покажется, то можете меня известить: у нас с Алешей таежных захоронок около дюжины осталось. Водка и золото, понимаете ли… – усмехнулась она.
Николаша опять почувствовал себя школьником и испытал досаду на себя. «Да чего я эту бабу боюсь?! Что она мне сделает?!»
– Ладно, инкогнито… – проворчал Василий. – Коли тут закончили, так к матери поезжай. А то она прямо обмирает…
Тучи, тупо толкаясь друг о друга, ползли по небу, наваливались на кровли вокзала, их серые шапки клубились точно такими же завитушками, как на вокзальном фасаде, отделанном в русском пряничном стиле. Из туч лил дождь. Лил вот уж третий день, и в слегка лихорадочном свете фонарей, разгоняющем ранние сумерки, все казалось гладким и блестящим: стены и выгнутые коньки вокзала, перрон и длинный навес над ним, рельсы и шпалы, и черная морда паровоза. Паровоз, лязгая, сипя и пронзительно вскрикивая, все медленней тащил вдоль перрона вереницу вагонов, тоже – блестящих и гладких. Выдыхаемый им пар тут же наливался дождевой тяжестью и оседал вниз, распространяя по обе стороны поезда кислый угольный запах. Толпа встречающих, усталая и возбужденная – поезд на два с лишком часа опаздывал, – колыхала зонтами, высматривая в дождевых потоках и отблесках фонарей номера вагонов.
– Да вот же он, седьмой, – с напряженной гримасой пробормотала Надежда Левонтьевна Коронина, слегка приподнимаясь на цыпочки; они с Ипполитом Михайловичем стояли в отдалении от толпы, и мельканье зонтов и шляп отгораживало от них прибывающий поезд. – Остановился… Двери открываются… Вон – кондуктор…
И впрямь, внушительная фигура в черном русском кафтане уже воздвиглась у вагонных дверей, разом организовав бестолково мельтешащую толпу. Наденька уперлась взглядом в переливающийся, как леденец, значок на кондукторской шапке. До этой минуты она была совершенно уверена в том, что моментально узнает Софи Домогатскую, а та – ее. Но лица пассажиров, одно за другим проявлявшиеся в дверном проеме, оказались вдруг одинаково невнятны, стерты, как заигранные карты, непонятно даже – мужские или женские. Если за что и можно было зацепиться глазами, так только за этот леденцовый значок; ей казалось, она различает надпись на нем: «Пермь-Тюменская железная дорога».
– Билет надо было брать до Тавды…
– Я и взял до Тавды, – Ипполит Михайлович сверху вниз глянул на жену, пожав плечами, слегка опущенными под тяжестью толстого суконного пальто, негнущегося, как доспехи, и такого же прочного, – причем не один, а два, согласно логике.
– Какая там логика. Она и одна вполне может…
– Едва ли. Софья Павловна уж не девочка. Как, кстати говоря, и ты. И что, скажи на милость, заставляет тебя так нервничать? Возврат егорьевского наваждения?
– Да. Наваждения, – прошептала Наденька. Знакомое лицо внезапно бросилось ей в глаза, выделившись из череды белых пятен, и так же внезапно она успокоилась.
Разумеется, она прекрасно знала, что Софи будет не одна. И знала – с кем. Странно было б, если б та не предупредила – кого встречать, когда, куда брать билеты. Другое дело, что мужу она об этом не сказала, попытавшись оправдаться перед собой тем, что сообщили ей чересчур поздно. И весь день, готовясь ехать на вокзал, тешилась странными, довольно приятными своей новизною чувствами, напоминавшими девическую робость. Эти чувства сгинули, едва только она разглядела Андрея Андреевича Измайлова, совсем не постаревшего (хотя это белым днем надо смотреть) и, кажется, нисколько не озабоченного предстоящей встречей. Он деловито переговаривался с кондуктором, поворачивая голову вслед размашистым жестам; носильщик, лихо вкативший тележку едва не под колеса вагона, принимал багаж. Он, может быть, и не знает, что я тут, подумала Надя. Ну да, с Софи станется…А что ему, даже если и знает?
– Гляди-ка, инженер Измайлов, – хмыкнул Ипполит Михайлович. – Вот новость. Неужто эта твоя госпожа Домогатская его завербовала?
– Она теперь Безбородко, – машинально, следуя привычке к точности, поправила Надя. Ее муж был, как всегда, невозмутим. Не волновали его ни струи воды, текущие с обвисшего зонта, ни угрызения совести. Да что там, какие угрызения? Он их и восемь лет назад не испытывал, а теперь подавно. Ей бы надо последовать его примеру, да что-то не получалось. Был даже момент, когда ей очень захотелось съежиться и спрятаться куда-нибудь, да хоть под пролетку извозчика, что терпеливо поджидал их на мостовой, – когда появившаяся наконец Софи крикнула, взмахнув рукой:
– Наденька! Ипполит Михайлович! Мы здесь!
Измайлов повернул голову в их сторону. Взгляды мужчины и женщины пересеклись, и всё разом сказали друг другу. Надя ощутила облегчение и разочарование одновременно.
– Вот вам причуды континентального климата, – заявил Коронин после приветствия, которое вышло бестолковым и скомканным. Измайлов оказался таки смущен и даже зол – непонятно, на кого. Софи… «Нисколько не изменилась!» и «Совершенно другая!» – эти две противоположные мысли явились к Наде разом, едва она ее увидела. Так бывает, когда о человеке слишком много думаешь. Хотя уж об Измайлове-то она думала никак не меньше…
Дело было, видимо, в том, что Софи Домогатская представляла собой мифологическую персону, коим в общем-то не положено существовать во плоти. Странно было смотреть на эту молодую даму (была бы уж девочкой, как положено – вечно юной; или – постаревшей, все-таки восемнадцать лет прошло, а так слишком ненатурально выходит!) в маленькой шляпке, надвинутой на лоб. К щеке прилипла мокрая прядь, блестящий взгляд быстро скользит по лицам встречающих и, не задерживаясь на них, с тем же любопытством – на вокзальный фасад, на толпу, на седоусого обер-кондуктора со свистком на цепочке, озабоченно спешащего вдоль вагонов, на оранжевую фуражку начальника станции, на фонари, на извозчиков… Она поворачивает голову – туда, сюда, поглощая этот сырой вечер с чахлым светом фонарей, пахнущий угольной гарью, железом, мокрой резиной и лишь слегка – распускающимися листьями. Ну-ка, где здесь уральская экзотика?
Наде почему-то вспомнился еще один персонаж из егорьевской мифологии – лорд Александер Лири. Этого лорда она ни разу не видела, но по описанию Машеньки Опалинской очень живо представляла, как он вертит головой, жадно разглядывая сибирские диковины: «Oh, Siberia! Splendid! Wonderful!». Она была почти уверена, что, если таки его увидит, – он окажется очень похож на Софи.
– Да, у вас если уж начнет лить, так минимум на неделю, – поддержал было Андрей Андреевич пристойный разговор о погоде, но тут же был решительно прерван:
– Так что ж, и будем мокнуть, пока мхом не обрастем? Поезд когда, завтра? Вот с утра и поговорим о делах. А теперь вы нас куда отвезете? Надя, вот: это тебе адреса и еще для развлечения…
«Застарелых болезней четыре: скраны, дму, ор, скйа-рбаб…» – разбирала Надя уже под защитой поднятого верха пролетки.
– Пригодится? Интересно? А что такое скраны?
– Откуда это? – Надя внимательно разглядывала листки. Измайлов сидел напротив, как ни в чем ни бывало обсуждая с Корониным проблему глобального потепления, которое по все признакам наступит на планете не нынче, так завтра.
– Господин Ачарья Даса уверяет, что это его собственный перевод со свитка из какого-то тибетского монастыря. И что некоторых терминов он и сам не понимает.
– Ачарья Даса? Буддист или теософ?
– А что, есть разница? – небрежно пожала плечами Софи. – Кстати, он в Егорьевске бывал.
– Егорьевск, – вдруг вмешался Андрей Андреевич, – это такое специальное место, где стягиваются все пути. Хочешь не хочешь, а там окажешься.
Было совершенно непонятно, иронизирует ли он, благодушествует или злится.
В которой Аглая и Илья теряют надежду на тихий вечер, Софи прибывает в Егорьевск, а Грушенька не хочет, чтобы ее спасали
Удивительно, но за последние восемнадцать лет дорога от Тавды до Егорьевска не стала лучше. Рыжие кучи навоза расклевывали какие-то пестрые веселые птички, небо отражалось в наполненных водой колеях. В лесу лежал снег, возле больших елей чернели круговые проталины. На полях лежали глубокие синие тени, составляющие разительный контраст с плодообещающим золотом весеннего снега. Кое-где снег уже сошел, но земля еще стояла темная и пустая.
У придорожных трактиров и почтовых станций сидели на корточках и грелись на солнышке крестьяне с лицами такими же пустыми, как их земля.
«Дураки и дороги,» – пробормотал Измайлов, который, по-видимому, думал о том же.
Софи описала ему свои наблюдения над дорогой так, как будто бы записывала их в тетрадь.
– Вы со мною удивительно бесстыдны, – заметил инженер. – Как с врачом или с литературным героем. Впрочем, чего же мне еще от вас ждать… «Пустые лица»… Это, я полагаю, как и земля, не навсегда. Вот когда все проклюнется…
– Мы не увидим…
– Увидим, куда же денемся, – Измайлов пожал плечами. – Но вы так и не сказали мне, какая же у нас с вами в Егорьевске будет легенда…
– Всю правду я могу рассказать только Вере. Может быть, еще Каденьке. Надя с ней, кажется, достаточно откровенна, стало быть, и мне нет резона…
– А что же Мария Ивановна?
– Я именно не знаю, что она теперь. Как с ней стало? Могло по-любому обернуться. И верить ей не могу. Даже не ей, быть может, а скорее – Сержу Дубравину.
Измайлов вздрогнул. Софи успокаивающим, доверчиво-интимным жестом положила руку ему на колено.
– Простите, я не подумала. Для вас ведь Дубравин – это Черный Атаман, несчастный безумец Митя Опалинский, тот, который чуть не угробил вас где-то неподалеку от этого места.
– Несчастный? Вам жаль его? – уточнил Измайлов. – Вы знаете, сколько загубленных жизней и сломанных судеб было на его счету?
– Я сказала только то, что сказала, – объяснила Софи. – Абсолютное большинство людей, творящих зло, сами несчастны.
– Самопорождение зла… – усмехнулся Измайлов. – А как же роль Господа Бога?
– Не вижу противоречия, даже когда пытаюсь встать на позицию богословов, – задумчиво проговорила Софи. Коляску перекосило на очередном ухабе, женщина повалилась на Измайлова, рукой толкнулась от его упругого плеча. Мимоходом подумала о том, что Измайлов, по-видимому, даже физически крепче, чем кажется на первый взгляд. – «Бог благ, откуда же в мире Зло?» Что за вопрос? Да мир сам ежечасно плодит, и воспроизводит его из подручного материала, вовсе без Божественного или дьявольского участия. Чувства людей далеко не всегда взаимны. Отвергнутые искренние чувства сплошь и рядом обращаются в злобу, и далеко не всегда она направлена непосредственно на обидчика. Зло порождает безответность чувств – вот в чем дело. Ребенка отвергают родители. Женщина не любит мужчину. Отчизна не оценивает по достоинству заслуги того, кто верно ей служил. И т. д.
– Что ж, Он мог бы сделать все чувства взаимными.
– Тогда все в мире замкнулось бы само на себя и остановилось. Он же создавал не дагерротип и не портрет мира, а движущуюся систему.
– Значит, по-вашему выходит, что миром движет Зло?
– Почему ж только Зло? Добро тоже может двигать. Конечно. Но… я думаю, оно все-таки не так энергично…
Измайлов необидно засмеялся. Женщина и мужчина взглянули друг на друга. В его глазах отражалась небо. Зеленое смешивалось с голубым. На переносице виднелась отметина от ветряной оспы.
– Вы знаете, Измайлов, я люблю дороги, – сказала Софи. – В них все исчезает: время, страны, эпоха, судьбы… Мы с вами могли бы ехать вот так же в древнем Египте по пустыне, и в Британии 5 века по римской дороге, и в 18 веке где-нибудь в Галиции. Мужчина и женщина. И все тот же разговор: весна в этом году, похоже, запаздывает, мальчик не слушается, родители хворают… Прошлое осталось позади, будущее еще не настало… А пока есть лишь вот эта протяженность дороги, разматывающейся перед нами и остающейся позади нас. Мы словно подвешены в пространстве между временами…
– Софи, я вам нужен?
– В каком смысле, Андрей Андреевич?
– Я же знаю, что у вас есть блокнот. Если вы позволите, я вздремну, а вы будете всю эту красоту прямо записывать…
– Измайлов, вы невыносимы!
– Ну уж не невыносимее вас, моя дорогая!
Мужчина, косолапо ступая, взобрался по невысокой, но крутой, скрипучей лестнице на второй этаж, приоткрыл дверь, боком вошел в небольшую, жарко натопленную комнату со скошенным потолком. Полосатая кошка, урча, вышла к его ногам, потерлась усатой мордой о голенище сапога.
Женщина, сидевшая с книгой на застеленной кровати, подняла глаза, улыбнулась.
– Аглаюшка! – мужчина просветлел усталым лицом. – Ты уже пришла, голубка моя! А я и не знал, все внизу, в зале со счетами сидел. Что ж не сказалась?
– Да я со двора прошла, не хотела тебя отвлекать. Вот сижу, отдыхаю, книгу читаю. Мне не скучно.
– Да я знаю, что ты скучать не станешь, о себе пекусь. Минутка лишняя тебя видеть – вся радость жизни моей.
– Ну, ты скажешь, Илюша… – женщина приятно смутилась, отчего лицо ее сделалось моложе и тоньше очертаниями. – Опять ноги болят?
– Да… вот напасть! – не сразу признался мужчина, опускаясь в скрипучее, потертое кресло, явно родное и присиженное. – Отекают к вечеру, мочи нет…
– Давай помогу сапоги стянуть, – женщина отложила книгу, легко и грациозно поднялась, подошла, наклонилась, взялась обеими руками за сапог.
– Аглаюшка! Ты что?! Не надо тебе… – мужчина покраснел багрово и некрасиво, разом лицом и шеей. Даже небольшая лысинка, обрамленная черными, почти без седины кудряшками, окрасилась в угрожающий яркий цвет.
– Господи, ерунда-то какая между нами, – пробормотала Аглая, с натугой стаскивая второй сапог и бросая его рядом с первым. – Что ты от всего конфузишься, Илюша. Как мальчик, ей-богу! Кто бы тебя здесь, со мною, увидел, так и не признал бы, поди. Тот ли это хитрый жидовин Илья Самсонович, который железной рукой прибыль из всего давит, владения свои каждый год расширяет, а капиталы несметные в стальных ящиках с секретом хранит?… Давай-ка вот, положи теперь ноги сюда на скамеечку, повыше, повыше, дай подушечку подложу, отек-то и спадет… Да ведь сестра-то моя велела тебе режим соблюдать, соленого-копченого не есть, и вечером воды не пить, ты же, небось, нарушаешь?
– Нарушаю, голубка, нарушаю, – сокрушенно покачал головой Илья. – Люблю покушать да попить с устатку да с нервов, грешен… Зато травку, что Надежда Левонтьевна дала, завариваю и пью исправно…
– И то ладно… – вздохнула Аглая, устраиваясь на полосатой тканой дорожке у ног Ильи и прислоняясь спиной к его коленям. – Надю слушать надо. Она, хоть и врачебного диплома не имеет, но в болезнях понимает как никто. Дар у нее. Вон от Татьяны-то Потаповой в прошлом году все врачи отказались, а Надя и кровь из утробы остановила, и на ноги ее поставила… И отцу твоему, Самсону, язву вылечила…
– Бога молим за Надежду Левонтьевну, Бога молим, – поддакнул Илья, осторожно, чуть касаясь, поглаживая высокую шею и гладкие, уложенные венцом волосы Аглаи. – Без Татьяны-то мне совсем худо пришлось бы…
– Тяжело тебе одному, Илюша, – согласилась Аглая. – И гостиница, и трактир, и магазины, и лавки – за всем уследить. Жениться тебе надо, давно говорю… Хоть вон на Татьяне, хоть из своих, из евреек возьми, чтоб родить могла. Ты богатый, за тебя всякая пойдет…
– Не могу я жениться, Аглаюшка, ты же знаешь… Не могу тебе такую обиду нанести…
– Да какая же мне обида, коли тебе для дела нужно?
– А душа? – стыдливо потупившись, спросил Илья. – Душа-то она разве не прежде всего? Не прежде дела?
– Ну, уж ты как начнешь… – усмехнулась Аглая. – Я тебя и понять не могу… Давай я тебе лучше про своих оболтусов расскажу. Представь себе, сегодня Семен из второго класса принес на урок за пазухой воробья…
Илья Самсонович слушал, как Аглая рассказывает о школьных делах, и на его округлом лице расплывалась блаженная, глуповатая улыбка. Проделки озорных мальчишек, их учебные успехи и неудачи радовали и огорчали его так же, как и саму Аглаю. Иногда ему даже казалось, что он – и есть она. Видел ее глазами, удивлялся вместе с ней, печалился ее печалями. Так стало давно и оставалось много лет. Сидя в трактире, или в лавке, собачась с поставщиками, выставляя пьяниц из залы «Калифорнии», выколачивая долги – он всегда помнил, что она – есть, и когда-то, когда ей придет охота, появится в его маленькой, вовсе не по доходам обставленной комнатке в мезонине, и будет сидеть на кровати с кружевным покрывалом и восемью подушками, и в ожидании его читать книгу под розовой лампой или грызть его любимые кедровые орешки, которые всегда стояли на блюдечке возле кровати… А потом он сам расплетет ее тугие косы, и снимет маленькие туфельки или ботиночки, и переоденет в ночное… И уже после всего будет сколько душе угодно, в колдовском свете желтого месяца смотреть на нее, спящую. И не надо будет стесняться себя – толстого, нелепого, уродливого рядом с ее неземной, неувядающей красотой, которая всегда пахнет чем-то пронзительным и тонко-горьковатым… Просто видеть ее, знать, что она есть на свете, – это было с ранней молодости в его жизни то единственное счастье, за которое он не пожалел бы никаких сокровищ, и самой крови своей, ибо что еще может быть ценного в жизни провинциального трактирщика-еврея… Грех жаловаться на судьбу – она была и остается к нему более чем благосклонной. Ведь сколько людей прожили всю свою жизнь, так и не узнав отпущенного ему сполна горького вожделения Любви…
«Заклинаю вас, дщери Иерусалимские, сернами или полевыми ланями: не будите и не тревожьте возлюбленной моей, доколе ей угодно!..
Как лента алая губы твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового яблока – ланиты твои под кудрями твоими. Шея твоя, как столп Давидов, сооруженный для оружий; тысяча щитов висит на нем – все щиты сильных. Два сосца твои, как двойни молодой серны, пасущиеся между лилиями. О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста; о как много ласки твои лучше вина, и благовоние мастей твоих лучше всех ароматов.
Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе…»
– … А у него уже усики над губой пробиваются, и он прямо так папеньке на уроке и говорит: а я лично с графом Толстым не согласен! Представь себе: «я – лично»
– И в чем же у недоросля несогласие с графом вышло? – нешуточно заинтересовался Илья, отвлекаясь от своих мечтаний. Тем более, что недоросль был знакомый – старший сын его старинного приятеля, каменных дел мастера, Миньки.
– По вопросу о сущности любви…
– Ого!
– О, по моему, он замечательно сказал. Дай вспомню: «Если судить по книгам графа Толстого, то любовь в вашем мире всегда обречена. Неотвратимость взаимного поражения в любви – вот так будет точно.» Левонтий Макарович согласно и важно кивнул в ответ и говорит: «Ну так ведь и есть. Любовь – субстанция краткосрочная и недостоверная. Certa amittimus, dum incerta petimus (гоняясь за сомнительным, мы упускаем верное)…» – «Неправда, – кричит недоросль. – Любовь вечна так же, как и сама жизнь!» Как это замечательно, правда? Что они еще такие молодые… И вот это: «в вашем мире». Понимаешь, он думает, что будет жить в каком-то другом мире, отличном от нашего, лучшем…
– Может быть, так и случится?
– Не знаю, Илюша, я много говорила с Ипполитом Михайловичем, но мне все равно трудно представить себе этот лучший мир… Когда пытаюсь, получается что-то такое в дыму и тумане… Но что нам-то о том печалиться? Ведь ни у меня ни у тебя нет детей…
Круглое, подвижное лицо Ильи болезненно и резиново сморщилось.
– У меня есть племянники, – помолчав, сказал он. – Я должен думать об их будущем, потому что моя сестра Элайджа… Ну, ты сама все про нее знаешь…
– Да, конечно, – согласилась Аглая. – Но мне кажется, Илюша, что Аннушка, младшая, вполне может сама о себе позаботиться. Она уже сейчас в «Луизиане» своих деда с бабкой в сторону отодвинула и всем заправляет. Я как-то намедни туда заходила, с родителем одного оболтуса потолковать (представляешь, кстати, жизнь мальчишки и его усердие в учении, если папашу только в трактире отыскать можно?). Так вот, своими глазами все и видела. Роза-то думает, что она по-прежнему всем командует, да как бы не так. Аннушка ей: да, бабушка! Сей минут, бабушка! Непременно так, бабушка! – а сама идет и все по-своему делает. Самсон ее во всем покрывает, лишь бы Розочка не беспокоилась и у нее колик не случилось… Так Анна дурного для заведения и не сделает, у нее хватка не хуже Розиной, да и твоей… Юрий и Елизавета – это конечно, совсем другое дело. Но как же тебе о них думать-то, Илюша?
– Сам не знаю, Аглаюшка, сам не знаю, но ведь сердце-то за кровь родную тревожится. Кто еще о них порадеет? Петр-то Иванович только охотничьим ухваткам и научит…
– А что ж кузина моя, Марья Ивановна? Ей-то они такие же племянники, как тебе, да и живут одним двором…
– Мне кажется, что Марья Ивановна их отчего-то не любит. Может, Шуре конкурентов в наследстве видит, может еще чего… Вот я и хочу сделать так, чтоб племянники хоть в деньгах никогда не нуждались…
– Дмитрий Михайлович говорил, да и старичок тот, музыкант, что Елизавету в столице учить надо. Талант, мол, у нее…
– Да я и сам знаю, что талант. Что ж с ним делать-то? – вот вопрос. Денег бы я на Петербург хоть сейчас дал. Но кто ж с ней в столицу-то поедет? Элайджа? Юрий, который хоть и грамотен, но почти так же дик, как и Елизавета? Талант талантом, но там же с распростертыми объятиями никто не встретит, надо крутиться как-то, заводить знакомства, пробиваться…
– Да… А знаешь что, Илюша? – вдруг встрепенулась Аглая. – У меня же сестра уж много лет в Петербурге живет, Любочка. Помнишь ее? Так вот, я не знаю, как она там живет и с кем, может, не особенно и хорошо. Но, раз назад не вернулась, значит, как-то пообтерлась, приспособилась. Любочка, конечно, не самый лучший вариант для Елизаветы, но все же… Если я ее попрошу, думаю, присмотрит на первых порах, и направит и сопроводит куда надо. Особенно, если с Елизаветой достаточно денег послать… Это Надя у нас бессеребренница, а Любочка всегда до денег жадненькая была… Во всяком случае, попробовать можно, если, конечно, сама Елизавета согласится…
– Елизавета, я думаю, согласится, если с ней Юрий поедет, – заметил Илья. – Для нее в музыке, да в брате – вся жизнь.
– Ну вот и прекрасно! – обрадовалась Аглая. – Пусть едут оба. Он на первых порах будет ее охранять, а потом, как приглядится, и разберется, что к чему, станет ее импресарио… Елизавета прославится, будет на концертах играть, в Петербурге, в Вене, в Париже… И Юрий при ней. А мы тут гордиться станем… Я помню, как Иван Парфенович мечтал: «Сибирскими талантами земля полниться будет!» – Вот и выйдет по его. Елизавета-то с Юрием – его внуки…
– Да, помню прекрасно Ивана Парфеновича Гордеева… – задумчиво сказал Илья. – Помню, как он меня порешить хотел, когда я Петьку за Элайджин позор подстрелил…
– А что ему тогда оставалось-то? – заметила Аглая. – Петр Иваныч какой не есть, а сын… Он такой и был: ни своим, ни чужим спуску не давал.
– Да. Могучий был человек. Одержимый жизнью… – нахмурился Илья.
– Что, Илюша? – Аглая вытянула тонкую руку наверх, бегло приласкала лицо мужчины, разгладила морщину между бровями. Он задержал ее пальцы своею рукой, бережно перецеловал каждый. – Размечталась я по-пустому? Растревожила тебя понапрасну?
– Нет, отчего же по-пустому? – задумчиво протянул Илья, что-то подсчитывая в уме. – Все правильно ты рассуждаешь. И послание Любовь Левонтьевне я тебя, пожалуй, написать попрошу теперь же, не медля… Дорого это все встанет, да на такое капитала не жаль… Стало быть, правильно я сделал, и своевременно, что в то дело с Марьей Ивановной встрял…
– С Машенькой? – удивилась Аглая. – Что у тебя с ней за дело может быть? Разве что она на тракте строиться задумала? Гостиницу на паях? Магазин? Что?
– Да брось ты это, голубка…
– Ну, Илюша, скажи, мне ж интересно, – не обижаясь в действительности, но с притворной жалобой в голосе сказала Аглая. – Я пусть в ваших делах не понимаю, но все же – женщина, а все женщины euntibus ordine fatis (в силу установленного порядка) любопытны, как сороки. Так мой отец говорит, а мне его разочаровывать невместно…
– Ну, только чтоб не уронить тебя в глазах любезнейшего Левонтия Макаровича, – усмехнулся Илья. – Дело касается тех англичан, что осенью здесь побывали. Помнишь?
– Помню, конечно. Да и вот оказия: папенька тоже последнюю неделю все о них толкует. И Марью Ивановну поминает… К чему бы то?
– Ну что ж… Значит, Марья Ивановна сбирает коалицию, – сказал Илья и лицо его на мгновение стало таким жестким, что случайный наблюдатель мог бы испугаться внезапному контрасту. Аглая сидела спиной и ничего не заметила. – Еврей-трактирщик для представительства не годен. Начальник училища лучше подойдет. Зато у еврея есть деньги… Значит, Левонтий Макарович, Илья Самсонович, Марья Ивановна… против Веры Михайловой, молодого Полушкина и… где же Иван Иваныч окажется?
– Против Веры, ты говоришь? – тут же ухватилась Аглая. – Это решительно невозможно, в чем бы ни было. Папа против Веры никогда ничего не сделает… Ничего и никогда…
– Это деньги, Аглаюшка, – Илья неуклюже сполз на пол позади Аглаи, обхватил ее руками и осторожно ласкал губами шею и затылок. Женщина, не оборачиваясь, доверчиво прижалась к его широкой мягкой груди. – Если все сложится, о-очень большие деньги. Золото. За них все забывают. Убивают, предают. Иван Притыков, если случится, супротив единокровных брата и сестры пойдет. А любовь, как говорил тот же Левонтий Макарович Минькиному сыну – субстанция недостоверная. Тем более такая… эфирная, как у твоего отца к Вере Михайловой…
– Пусть их… А ты… Ты, Илюша… – Аглая, по прежнему не оборачиваясь, приложила пухлую ладонь Ильи к своей щеке. – Ты, если ввяжешься в это, ничего из-за денег не забудешь?
– Я… ничего… не забуду, – прямо в ложбинку на ее шее прошептал Илья. – Не бойся, голубка. И… пойдем ляжем…
– Конечно, Илюша, – легко поднимаясь, согласилась Аглая и, склонившись, поцеловала мягкие кудри трактирщика. – Я и сама сказать хотела… Поздно уже…
– Я помогу тебе? – прошептал Илья прерывающимся голосом.
Их ритуал был отработан годами и до мелочей, но каждый раз по-новому волновал его. Аглая, улыбнувшись, кивнула…
И в этот миг под окнами раздалось гиканье возчика, останавливающего лошадей. Заскрипели оси повозки. Скатилась с крыльца и звонко залаяла трактирная собачонка. Илья босиком прошлепал к окну, отодвинул розовую занавеску.
– Господи, кого это черти посреди ночи несут?! – с досадой произнес он и внезапно закхекал, словно подавившись чем-то.
– Что там, Илюша? – усмехнулась Аглая. – Неужто и вправду черта увидал?
– Д-да в каком-то смысле… Скорее, как говорят французы, дежа вю… Вот сейчас выйдет вслед Вера с косой ниже пояса и с саквояжем в руке… Так же бросится к ее ногам черная собачонка… И будет – это самое…
– Вера Михайлова? Откуда она здесь? И почему с косой?… Да что там такое, в конце-то концов?! – Аглая подошла к окну, оперлась на подоконник, выглянула из-за плеча Ильи. Под ее рукой просунулась туда же кошка – ей тоже хотелось поглядеть, из-за чего нарушился хорошо известный даже ей порядок.
– Ой! – воскликнула Аглая. – Да какая же это Вера, если это – инженер Измайлов! А там… Господи! Да это же Софи! Софи Домогатская! Иди же, Илюша! Иди к ним! Я тоже сейчас спущусь…
Илья с трудом натянул сапоги и выкатился навстречу ночным гостям. Вслед за ним, широко зевая и крестя рот, вышел на крыльцо трактирный слуга Георгий.
– Самсон! – закричала Софи, увидев в дверях круглую фигуру. – Вы здесь?! Как я рада! А Измайлов говорил… Ох… Илья… Здравствуйте и… простите, простите меня… Я… Я обозналась… Вы стали так на отца похожи…
– Не извиняйтесь, Софья Павловна, – мягко улыбнулся Илья. – Я в зеркало едва ль не каждый день смотрюсь и все про себя знаю. А вот вы словно и вовсе не изменились. Я вас с первого взгляда, да в темноте узнал. Подумал: ровно и не было тех восемнадцати лет…
– Скажешь тоже! – облегченно рассмеялась Софи. – Время для всех одно. И я тоже постарела, как и все. Темнота все покуда скрывает. А это… Ты видишь, кого я привезла?
– Вижу, конечно. Здравствуйте, Андрей Андреевич! Рад снова видеть вас в наших краях…
– И я рад видеть вас, Илья Самсонович…
– Что ж, добро пожаловать в «Калифорнию». Сейчас прошу в залу, а ты, Георгий, разбуди Агнешку, пусть господам ночлег приготовит… – Илья мимоходом смутился, но все же решил уточнить. – Вам как, одну на двоих комнату или две разных изволите?
– Разные, разные… – засмеялся Измайлов, заметив смущение трактирщика. – Мы, хоть и путешествуем вместе, но от романтических отношений далеки. Я уж больше не самоубийца, а Софья Павловна – замужняя дама…
В это время за спиной Ильи появилась женская фигура, очерченная лучом света, проникавшим из залы.
– Кто это? Кто это? – заволновалась Софи. – Я ее знаю? Знаю, наверное… В посадке головы что-то чертовски знакомое… Ну, конечно! – Аглая!.. Аглая, милая, вы здесь? И хороши по-прежнему! Значит, вы с Ильей все же поженились? Я знала, знала! А Надя мне, чертовка, ничего не написала! Ну, какие же вы молодцы! – радостно вскричала Софи, швырнула в грязь пухлую сумку, которую держала в руках, и внезапно порывом бросилась на шею трактирщику. – Поздравляю, поздравляю! Я так за вас рада, Илья! Я про вас ничего не знала, но все эти годы вас помнила и любила. Вы такой хороший были и остались наверняка!
Илья багрово покраснел. Аглая, напротив, посерела. Георгий и вышедшая на шум статная Агнешка лукаво ухмылялись в кулаки, наблюдая разыгравшуюся сцену. Измайлов сначала досадливо морщился, с ходу разгадав неловкость, потом шагнул вперед, и буквально оттащил Софи от трактирщика.
– Да уймитесь же вы! – прошипел он ей на ухо. – И перестаньте чертыхаться! Не позорьте себя и людей!
Софи огляделась, мотая головой и по-совиному моргая огромными, блестящими в темноте глазами.
– Вот уж и вправду: словно и не было тех лет! – Аглая нашла в себе силы усмехнуться. – Вы, Софи, все такая же до мелочей, как я вас помню. С корабля – на бал, и чтобы все вокруг по вашей линейке строились…
– Ага, – сообразила, наконец, Софи. – Я что-то не так сказала. Ну ничего, – она с вызовом повернулась в сторону Измайлова. – Это еще исправить можно! Простите меня, Илья, и верьте, мое расположение к вам искренне вполне. Мы еще позже поговорим с вами. Идемте же теперь…
Мужчины переглянулись между собой через плечо Софи и согласно пожали плечами: «Что ж тут поделаешь?» Можно было заметить: темноглазый кучерявый Илья и рыжеватый Измайлов с зелеными, широко расставленными глазами, улыбаясь, становились чем-то похожими друг на друга.
– Я думаю, все ж таки – Петербург! – решительно сказала Софи, поднимаясь со скамьи и уж в который раз принимаясь ходить по просторной комнате. Вера осталась сидеть и следила за своей бывшей хозяйкой спокойными, чуть выпуклыми глазами. Их яркая осенняя желтизна буквально магнетизировала Софи.
– Вера, послушай, у тебя и прежде глаза такие были? Ну… как у рыси, что ли… Отчего я не помню?
– Не знаю, – улыбнулась Вера. – Но, может, за жизнь и поменялось что. Матюша вот родился с серыми глазами, а сейчас у него – почти коричневые.
– У детей – это я и сама знаю, – мотнула головой Софи. – Но чтоб у взрослой женщины…
На этот раз Вера промолчала.
Разговор их не утихал, но и не тек свободной рекой, как бывает порою, когда давно не видевшим друг друга людям многое нужно сказать и рассказать друг другу. Даже с Надей Корониной, с которой Софи прежде почти и не общалась, ей было легче. Вера находилась в своем дому, и явно старалась казаться непринужденно-гостеприимной, но и в ней некая скованность оставалась заметна для Софи. Или, быть может, она теперь всегда такая? Или такой и была?
Невысокая, тихая девушка молча подавала на стол, меняла блюда и приборы. Когда встречалась с Верой взглядом, несмело улыбалась. На гостью не смотрела вообще.
– Это прислуга? – не выдержала, наконец, Софи, зная уже, что это не так и намеренно провоцируя свою бывшую горничную.
– Нет, это Соня, моя приемная дочь, – спокойно ответила Вера. – Она с незнакомыми людьми разговаривать спервоначалу не может. Тем более про вас слышала много – оттого еще больше тушуется. А прислуживать здесь – сама вызвалась. Теперь вот приглядится к вам, а после и познакомится и поговорит, ежели вы пожелаете…
– Пожелаю, конечно, – пожала плечами Софи. – Хотя странно это… Но как они с Матвеем? Как брат и сестра или… иначе? Если он уедет учиться, то она…
– Я сама разобрать не могу, – призналась Вера. – Они скрытные оба. То так покажется, то эдак…
– А если напрямую спросить? – удивилась Софи. – Не пробовала?
Ей самой именно этот путь казался лучшим, если не единственно возможным для разрешения всех и всяческих недоумений.
– Матюша о таком говорить со мною не станет, а Соня… она же, если не захочет правды сказать, соврет, – заметила Вера. – И что я узнаю?
– Н-нда… – протянула Софи и вернулась к понятному и актуальному. – Стало быть, я Матюшу, как поеду обратно в Петербург, с собой забираю… Экзамены он уж на месте сдаст, экстерном, чтоб документ получить, а на следующий год выберем получше заведение, где инженеров готовят…
– Софья Павловна, а ты не думаешь, что неплохо было бы самого Матюшу попытать? Чего он-то думает?
– Сколько ему лет? Девятнадцать будет? Да нешто я его не уговорю, что б он там ни думал! – воскликнула Софи. – Главное, чтоб ты, Вера, согласилась. Да вот еще Соня эта… Но это мы смотреть будем. Что ж, она совсем в город не может? А если ее полечить чем?
– Совсем. И не болезнь это, а устройство души, – покачала головой Вера и спросила с любопытством. – А что ж, обернись иначе, вы, Софья Павловна, и Соню забрать готовы?
– Ну а как же быть-то, если вдруг окажется, что она моему крестнику до зарезу необходима? – удивилась Софи. – Хотя… так, по виду, не скажешь… Мне даже сестренка ее старшая занятнее показалась, такая… мелкая, злобненькая кнопка… А уж Стеша с ее механическими игрушками – так просто чудо!
– Соня внутри интереснее, чем снаружи, – заметила Вера. – И очень начитанна. А Манька… ее социальный вопрос тревожит… и угнетенное положение пролетариата…
– Ну, может, Соня еще не проявилась, – кивнула Софи. – А про социальный вопрос и угнетенный пролетариат ты лучше при мне не упоминай. Я от этого вмиг сатанею. Вспомни, зачем я сюда явилась…
– Ага, помню, не буду, – согласилась Вера. – Так ты мне, Софья Павловна, объясни теперь, как вы с Корониными все спланировали. Чтоб я знать могла и, может, где чему подсобить…
– В чем же подсобить? – заинтересовалась Софи.
– Укрывища в тайге, в самоедских становищах, деньги, лошади, люди, – четко перечислила Вера.
– У тебя все это есть? Надежно?
– У меня есть. И от Алеши осталось. Очень надежно, поверь. Его здесь все уважали и боялись. И меня… гм-м… скажем, побаиваются.
– Замечательно! – искренне восхитилась Софи. – Ты просто потрясающая стала, Вера!
Совершенно крестьянским смущенным жестом Вера потянула книзу уголки платка и ковырнула пол носком стоптанной туфли. Софи сразу не поняла, была ли это ирония, или остатки личной истории Веры, и не стала над тем задумываться. Вера Михайлова – одна из немногих в мире людей, кому априори разрешалось посмеяться над Софи и уцелеть после этого.
– Спасибо тебе. Если понадобится, то мы воспользуемся, – сказала Софи. – Значит, слушай. Послезавтра сюда приедут Надя и Ипполит Михайлович. Как бы навестить родных. Плюс мы с Измайловым. Даем обед в «Калифорнии», вечер в собрании и прочее. То есть устраиваем такую шумную, по случаю, встречу друзей, родственников и крестников, про которую все знают, и всем все понятно. Измайлов, кстати, будет распускать слухи, что это ты вызвала его по старой памяти из Петербурга, якобы предложить работу управляющего на приисках, в связи с англичанами и предстоящим расширением дел. Это я из твоих писем придумала, и ты тому не удивляйся, и где надо, поддакивай. Если кто-то где-то все же о чем-то подозревает, то, конечно, жандармы в первую очередь будет держать в поле зрения мужчин: Измайлов и Коронин, оба – бывшие народовольцы, и вообще у охранки на учете и под надзором. Значит, Коронин с метеорологом Штольцем (его уж предупредили, и он всем болтает о своих планах) будут тут проводить какие-то климатические изыскания по подъему уровня воды в разливах, Измайлов – знакомиться с делами на приисках, а мы с Надей где-то через недельку потихоньку исчезнем… Дальше я уговариваю Гришу бежать (он тоже предупрежден, и должен нас ждать, но что-то там неопределенное, из нервов), и передаю его Наде, а сама – так же тихонько возвращаюсь в Егорьевск, как будто и не уезжала. Надя – отсутствует по медицинским делам (весенние побеги рвет и корешки в тайге копает – кто удивится?), а все остальные – налицо. Когда побег откроется, нас потрясут, конечно, но все равно доказать ничего не сумеют… Тем временем Гриша уже в России окажется, а там его товарищи подхватят и переправят за границу…
– Вроде бы все продумано… – качнула головой внимательно выслушавшая Софи Вера. – Только бы Григорий Павлович в последний момент не отчебучил чего… не воспротивился…
– Так я ж для того и приехала… – напомнила Софи. – Чтоб Гришу в случае чего смирить и направить…
– А послушай-ка, Софья Павловна, – задумчиво сказала Вера. – Может, эту придумку твою с Измайловым… может, и вправду…
– Что – вправду? – не поняла Софи.
– Может, ему и вправду управляющим ко мне пойти?
– Ну… – растерялась Софи. – Этого уж я не знаю. Поговори с ним сама, если хочешь…
– А вы, Софья Павловна, словечко-то замолвите?
– Замолвлю! – засмеялась Софи. – Тогда уж точно позабудь!.. Да он от меня, если хочешь знать, как от змеи подколодной, шарахается!
– Отчего же так?
– Да так уж сложилось… – уклончиво сказала Софи. – Ты, помню, хотела мне свои владения показать… Я, по чести, Мариинский поселок и не узнала. Тут же и не было по моей памяти ничего. Бараки какие-то, заборы покосившиеся, да контора, да лес. Волки, помню, чуть не по улице бегали. А теперь… Как бы не больше Егорьевска стал…
– Да нет, видимость, – Вера махнула рукой с наигранным пренебрежением, но видно было, что высказанные впечатления Софи важны для нее. – Но покажу, как обещалась, коли вам интересно. Матюшу сейчас кликну, и отправимся… Вы возражать не станете, если он – с нами?
– Да что ты говоришь-то! – возмущенно воскликнула Софи.
Матюшу она видела и говорила с ним коротко, но юноша уже успел произвести на Софи самое благоприятное впечатление и своим видом, и манерами, и образом речи. Видно было, что Вера вложила в сына все, что смогла, и посеянные семена упали на вполне плодородную почву. В результате выращенный в приисковом поселке, в сибирской глуши юноша производил впечатление образованного и культурного человека, да, вероятнее всего, им и являлся. Поглядев на Матвея Матвеевича лично и поговорив с ним, Софи еще утвердилась в своем намерении: непременно забрать Матюшу с собой в Петербург и выучить его там, на кого захочет.
В «детской избе» Софи не задержалась. Дружно лопающие кашу и что-то лепечущие малыши ее вовсе не умилили.
– Прости, Вера, не люблю, – тихо призналась она. – У меня лучшая подруга всегда просто с ума сходила: «ах, лапочки, детки, здоровенькие, сидят, кушают, за ушами трещит…» А мне… ну, не знаю, на каких-то личинок они похожи… Глупых, лупоглазых, прожорливых… Уж поскорее бы вылупились… Прости…
– Да не извиняйтесь вы, – усмехнулась Вера. – Я сама к тому близко…
Зато с калмычкой Хайме Софи обнялась и расцеловалась от всей души.
– Помнишь, Хаймешка, как ты гусаром в спектакле была? – хохоча, спрашивала она. – И романсы Давыдова пела?
– А то! – важно отвечала Хайме. – Все помню. И усы у меня тогда были…
На двух веселых инвалидов, которые, обнявшись, прискакали к крыльцу гостиницы, лишь прослышав про то, что прибыла хозяйка с гостьей из самого Петербурга, Софи вытаращилась с немалым удивлением.
– Здравствуйте вам! – уцепившись за приятеля, дурашливо поклонился едва ли не до земли один из них. – Вера Артемьевна! Софья Павловна! Наслышаны весьма, и вот счастье – лицезреть сподобились!
– Знакомься, Софья Павловна! – усмехнулась Вера. – Это мои предприниматели – Ерема и Типан. Начинали с мыла, а сейчас и оба завода – спиртовой и винокуренный, к рукам прибрали… С ногами-то у них, видишь, недобор…
– Эх, Софья Павловна! – тут же откликнулся Ерема. – Вы не глядите, что у нас с Типаном две ноги на двоих. Головы-то у нас, это учесть надо, – тоже две! А промышляем мы помаленьку только благодаря милости вашей несказанной, благодетельница вы наша, Вера Артемьевна!
– Подлизы! – оборачиваясь к Софи, объяснила Вера. – Думают, что даже грубая лесть любой бабе приятна. Правы… Чего прискакали-то, инвалидная команда? Глаза таращить, или дело имеете?
Ерема задумался на мгновение и тут же сощурился хитро́.
– Без дела не посмели бы и беспокоить. Ума большого требует и фантазии. К кому же, как не к вам?
– Если фантазия надобна, то это вот к ней, – кивнула на Софи Вера. – В этом Софья Павловна куда умнее меня будет…
– Да не может того быть! – словно сраженный наповал, пошатнулся Типан. Ерема поддержал его, обмахнул широкой ладонью.
– Да в чем загвоздка-то? – не удержалась Софи.
Забавные калеки-предприниматели нравились ей, но уж хотелось идти дальше. Верино хозяйство не в шутку увлекло ее. Подумать только, ее бывшая горничная – едва ль не полновластная хозяйка пусть маленького, но уж почти городка! Вот ловко-то выходит! Про себя Софи уже сочиняла письма обо всем увиденном Пете и Элен, подбирала эпитеты…
– Да вот, Софья Павловна, изобрели мы с Типаном одну штуковину, – вмиг став почти серьезным, объяснил Ерема. – Настойка винная на корешках аира и синюхи, да на ягоде можжевельника, да еще одна травка от Типановой якутской бабки, заветная… Забористая штучка получилась, и вкус, и цвет… И все, что человеку надо… Душа воспаряет… Одного покамест нету для продвижения товару на местный рынок: звучного имени. И чтоб так назвать, чтобы и простым, и благородным, и бедным, и богатым…
– Не изволите ли испробовать, чтоб наверное прицениться? – предложил Типан.
– Душа, говоришь, воспаряет? – в тон Ереме прищурилась Софи, невольно вспоминая питерских оккультистов. – Тогда все просто: алкагест!
– Изрядно, – пожевав губами, согласился Типан. – А что ж это значит-то?
– Кто из вас грамотный есть?
– Я грамотный, – гордо сказал Ерема.
Софи достала из кармана блокнот, вырвала лист, сунула Ереме вместе с карандашом.
– Пиши. Объяснение для благородных и богатых. То есть, называется – реклама. Я бы сама тебе написала, да мой почерк чужие плохо читают. Готов? Значит, так: «Алкагест – универсальный растворитель в алхимии, но в мистицизме – высшее «Я», соединение с которым превращает материю (свинец) в золото, и возвращает все составные вещи – такие как человеческое тело и его атрибуты – к их первоначальной сущности».
Ерема, прилежно шевеля толстыми губами, царапал карандашом.
– Ну, я просто упал, – признался Типан. – Алкагест! Возвращает к первоначальной сущности!
Вера хрипловато захохотала.
– Идет коза дворами,
Трясет коза рогами.
Кто не засыпает –
Того коза бодает…
Грушенька умолкла и, зажмурившись, длинно и сладко зевнула. Сквозь ресницы посмотрела на Людочку. Спит? Глазки вроде закрыты и дышит ровно. А шевельнешься – и опять захнычет. Господи, да на что ж мне такая обуза… главное – за что?!
Она уже искренне считала, что – не за что. Прежняя, петербургская жизнь уплыла в призрачные дали. Нынешняя тоже была призрачна: бесконечные дрова, бадьи с ледяной водой, терпкий дух кедровых шишек, волчьи следы у калитки, мужнины – грязные, в снежных разводах – по свежевыстиранной дорожке… Ничего, ничего, шептала она, затаскивая в печь тяжелые чугуны, – потерплю еще немножко, и будет. Осталось недолго…
Почему – недолго, она не знала и не задумывалась. Ясно было одно: скоро что-то произойдет! Эта собачья жизнь кончится. Начнется новая. Или вообще ничего не начнется – и ладно, и то лучше, чем сейчас.
Осторожно разогнувшись, она шагнула назад. Спит! И в этот миг, как нарочно (а, может, и впрямь нарочно? Стоит и подгадывает!) стукнула дверь в сенях.
– Грушенька!
Она стремительно и бесшумно вылетела в сени, зашипела, яростно глядя на мужа:
– Заткнись!.. – и осеклась, разглядев выражение его лица.
Оно было таким, как когда-то в Петербурге!
Ну, ладно: почти таким. Слишком острое и смуглое, и волосы висят по обе стороны длинного носа. Но – живое! Глаза лихорадочно блестят, и рвется поскорее рассказать ей что-то.
Ох, неужто… Она тут же представила: воля! Вот они едут в поезде – домой, в Петербург, Людочка, не переставая, хнычет, а в Петербурге рыхлая барыня – его мать – смотрит сквозь нее, недоуменно поджимая губы: как же это ее мальчика угораздило связаться с эдакой? И не догадался в Сибири оставить?.. Грушенька помотала головой, отгоняя морок.
– Скоро домой, милая, – выдохнул Гриша, улыбаясь неуверенно (отвык!), – скоро, вот увидишь…
– Тише, разбудишь ребенка, – пробормотала она машинально. – Убавили срок, да? Ради тезоименитства?
– Куда там. Это другое… Пойдем, я все объясню. Все, во всех подробностях… Господи, как она рискует! Да все они – из-за меня… Чем я заслужил? Ничем!
Он продолжал бормотать, непонятно, к кому обращаясь – все громче, Людочка, разумеется, проснулась и заплакала.
– …Ты представляешь, она сама сюда приедет! Нам придется разделиться… Но это ничего, это не страшно. Если Софи будет здесь, значит, ничего уже не страшно…
Он начал ходить по комнате – от окна к печке, потом назад. Людочка, уже и думать забыв о сне, следила за ним круглыми глазами. Грушенька тоже смотрела на него, прислонившись к косяку.
Софи, значит. Дошло, значит, письмо. Ну, правда, можно ли было в ней сомневаться! Ведь любимый братец… Вот, небось, обрадовалась бы, если б мы с Людочкой куда-нибудь исчезли и только его одного пришлось бы вытаскивать.
– Не хочу, – сказала Грушенька. Громко, чтобы Гриша обратил внимание. – Не хочу, чтобы твоя Софи меня спасала.
Он не услышал.
В которой Софи дает вечер в собрании, узнает историю давней любви, и «изгоняет людей из их оболочек»
– Поговори, прошу тебя, с Каденькой, – Надя быстро отвела глаза. – О чем найдешь или захочешь. А потом скажешь мне, как тебе показалось. Свежему человеку всегда заметней. Тем более ты ее прежде знала, такой случай… Только без всяких, по-честному… мне наверняка знать надо…
– Господи, Надя! – сочувственно вздохнула Софи. – Мне так трудно поверить, представить… Каденька, и безумна… Может быть…
– Вот я и прошу тебя взглянуть! – отрезала Надя.
– Хорошо, хорошо, конечно. Я все сделаю, как ты хочешь… Вот прямо сегодня вечером, когда все в собрании будут… А что же Левонтий Макарович? Как он Каденьку видит? Или все из латыни цитирует?
– Папа не меняется никогда. Ноги в тазике, голова – в Риме. Если б не Айшет и Аглая, забывал бы и поесть, и попить, и на службу сходить. Последние вот только недели чего-то ему Машенька Опалинская голову заморочила. Талдычит что-то про каких-то англичан… Мне все недосуг у Аглаи подробнее выспросить…
– Я знаю про англичан, – заметила Софи. – Они осенью здесь, в Егорьевске, были, обещались вернуться, и собираются тут и на Алтае то ли новые прииски открывать, то ли старые скупать. Капитал вкладывать. Вера моя этим делом весьма интересуется, да и Машенька, видать, тоже… Только причем тут Левонтий Макарович, этого я тебе сказать не могу…
– Да и Бог с ними со всеми. Папу нормальным, наверное, со стороны тоже назвать трудно, но он всегда таким был. А Каденька – другое дело. Там – процесс…
– Я понимаю, – кивнула Софи. – Сделаю все, как ты сказала.
Напитки и закуски были доставлены из «Луизианы» загодя. Аннушка-Зайчонок и калмычка Хайме распоряжались слугами и столами. Илья Самсонович, по настоянию Софи, был приглашенным гостем. Отмытое и прибранное к приходу гостей помещение собрания ежилось и как будто бы вспоминало былые, славные времена. Недавно оштукатуренные стены дышали влагой. Памятный Софи рояль смотрелся гордым и сиротливым французским клошаром. Елизавета-Лисенок, проходя мимо, каждый раз незаметно касалась его ладонью, как будто бы гладила. Софи показалось, что дай ей волю, она прицепит рояль на веревочку и заберет с собой так же, как старый следователь Кусмауль подобрал у водопойки немолодого такса.
Машенька Опалинская, подбородком опершись на трость, сидела в углу на стуле и уж давно беседовала с инженером Измайловым. Вера Михайлова кидала на них заинтересованные и нетерпеливые взгляды. Наверное, ей не терпелось предложить Андрею Андреевичу работу на своих приисках.
Саму Веру развлекал светской беседой Левонтий Макарович. Софи слышались трескучие латинские цитаты, на которые Вера периодически, чуть наклонив голову, уверенно отвечала на латыни же. Каждый раз после этого Левонтий Макарович на пару мгновений замирал в немом восхищении и буквально пожирал Веру глазами. В этом промежутке Вера облегченно вздыхала, перебрасывалась короткими многозначительными фразами с Иваном Притыковым или наблюдала за Машенькой и инженером. За самой Верой и Левонтием Макаровичем наблюдала прислуживающая у столов киргизка Айшет, и ее бездонные узкие глаза были похожи на щели в преисподнюю.
Вечер выдался на удивление теплым. Даже не накинув пальто, Софи с удовольствием вышла из жарко натопленного помещения на крыльцо. Каденька, все такая же худая, только много более высохшая, чем помнилась Софи, куталась в шаль. Горизонт не был чистым, и звезды, восходя одна за другой, рассыпали за собой по небу жемчужные следы. Откуда-то слышалось мелодичное журчание талой воды.
– Скажите, Каденька, как вы жили эти годы? Я часто вспоминала вас…
– Я – жила? Конечно! – Каденька говорила в своей прежней, рубленной манере. По ее высокой, худой шее ходил туда-сюда совершенно мужской кадык. Казалось, что каждым его движением она откалывает от колоды слова-полешки. – Кто хочешь отчается. Я – нет. Десять лет общественного безмолвия. С 1884 по 1894 год. Теперь опять начался подъем. Уже не остановить. Как поезд. К приезду цесаревича крестили в православие бурят. Всех – Николаями. Они – буддисты. Мы писали протест. Печатали в Петербурге. Даже у Мещерского в «Гражданине». «Жалобы, якобы писанные безграмотными инородцами, составлены яростными, точными словами, хорошим литературным языком, – следовательно, писали политические ссыльные». А кто ж еще? В этой варварской и раболепствующей России полностью самопроявившиеся, душевно свободные люди попросту обречены. И не в том смысле, что они не могут делать дела и быть успешными. Это – пожалуйста. Они не могут быть счастливыми, только это не позволено им…Ты знаешь по себе…
– Каденька, вы несчастны?
– Нет, отчего же. Я просто сгорела дотла. Пепел…
– Но почему? Что же… сожгло вас? Неужели несправедливое социальное устройство Российской империи?
– Нет, конечно! – Леокардия Власьевна улыбнулась и на мгновение ее странно мумифицировавшееся лицо стало почти красивым. – Это – всегда замена. Я искала везде. Бомбисты, петиции… Ты помнишь мою амбулаторию? У Нади, вот у нее действительно оказался талант, я же – лишь старалась себя занять…
– Отчего же так?
– Я любила Ивана, – просто сказала Каденька. – Всегда, сколько себя помню. Он хотел жениться на Марии, а я увидела его девчонкой и полюбила сразу и на всю жизнь. Я всегда знала, что ему нужна не такая жена, как моя старшая сестра. Ему нужна была я. Я смогла бы разделить с ним все. Но он не захотел ждать, пока я вырасту… Мария же вообще не могла быть женой, матерью. Она была призвана на землю для чего-то другого. И быстро ушла…
– А что же Иван Парфенович? – Софи не скрывала своего потрясения. Такого оборота давно знакомой истории она никак не ожидала.
– Я дразнила его, бесила, чем только могла. Все делала наперекор. Он все терпел ради памяти сестры. Не ради меня. Потом, однажды… спустя много лет я поняла, что он мог бы полюбить во мне не только сестру Марии, но и меня саму… Но было уже слишком поздно…
– Господи… – пробормотала Софи. – Как же так…
– Ничего. Ничего, Софья, – Каденька выпростала из шали иссохшую руку и ободряюще похлопала Софи по плечу. – Все правильно. Главное – не сдаваться до времени. Теперь же мне просто нечего здесь больше делать…
– Каденька! – подумав, сказала Софи. – А вот если бы у вас были внуки, вы бы согласились…
– Чего гадать! Ты же уже знаешь наше положение, – вздохнула Леокардия Власьевна. – Надя – больше десяти лет в браке и, очевидно, бесплодна. Аглая – не замужем. Про Любочку мне и вовсе ничего не известно. Но думаю, что, если бы она родила, я бы об этом узнала.
– Да, у Любочки детей нет, – согласилась Софи. Подумала еще с минуту.
Каденька молча смотрела на небо. Ее круглые, окруженные черепашьими морщинками глаза слезились, но она, казалось, не замечала этого.
– А внуки Ивана вас не устроят? – внезапно предложила Софи.
– Внуки Ивана? – удивилась Каденька. – Кого ты имеешь в виду? Шурочку? Да Машенька и на версту к нему никого не подпускала. «Звериную троицу»? Я никогда не могла их понять, да к тому же они все уже выросли…
– Нет, нет, я имею в виду не их. У Ивана Парфеновича был еще один сын – Ванечка Притыков. Он вырос без отца и отчего-то давно не поддерживает отношений с матерью. У него теперь не то пять, не то шесть детей. Младший, кажется, еще даже не родился. Родители жены Ивана Ивановича умерли. Стало быть, у этих детей вообще нет ни бабушек, ни дедушек… Вера говорила, что жене Ивана довольно тяжело с ними справляться, ведь они все – мальчики…
– Софья, как это у тебя получается? – заинтересованно усмехнулась Каденька. – Когда ты успела все узнать? Ведь ты в Егорьевске всего неделю…
– Ну, неделя – это большой срок, – протянула Софи. – Так как же с детьми Ванечки Притыкова?… Я, впрочем, вас не тороплю. Вы, Каденька, подумайте… денек-другой…
– Софи… Вот теперь я тебя узнала, девочка… Ты – вовсе не изменилась, – ничего более не говоря, Каденька спустилась с крыльца и прежним твердым шагом направилась к воротам. Софи не окликнула ее. Кинула последний взгляд на жемчужное молоко, расплескавшееся по небу, отворила дверь и вернулась в залу.
Надя тотчас же подошла к ней.
– Где Каденька?
– Не знаю, – честно ответила Софи. – Может быть, поехала домой. Может быть, еще куда-нибудь.
– Ну… как она тебе показалась?
– Надя… ты просила честно…
– Разумеется! Не тяни!
– Каденька не безумна. Она просто решила умереть.
– Господи… – прошептала Надя и спрятала лицо в ладонях. – Я так и думала. Давно. Только боялась даже себе признаться. Все искала болезнь и, соответственно, лекарство… А болезней, кажется, и вовсе нет…
– Как это – нет болезней? – удивленно воскликнула Софи. – Ну-ка, объясни подробней. Здесь все твой врачебный талант хвалят, значит, что ты скажешь – важно…
– Понимаешь, есть только симптомы и синдромы. А прочее – лишь реакция человека на окружающую его жизнь. Лечить можно установлением диагноза, можно – травами, можно – заговорами, можно – чистой водой. А кто принял решение – того уж ничем не вылечишь.
– Стало быть, и поноса нет? И чиха?
– Это как раз симптомы.
– А как же микробы? Их ведь под микроскопом видать. И они чуму и прочее вызывают. Я знаю, мне как раз недавно человек один рассказывал. Он сам на Пастеровской станции работает…
– Микробы есть везде, это правда. И когда эпидемии, там все по другому. Но гляди – вот, – Надя лизнула себе руку. – Я сейчас микробов, может быть, миллион съела. Однако я не заболею. Когда же человек умереть решил, может в речку соскочить, может под коляску броситься. А может… в народе говорят: исчахнуть, знаешь? Тут уж и микроб сгодится любой… А, кстати, знаешь, кто мне первый сказал про то, что болезней и вовсе нет?
– Кто же?
– Ты! Еще когда девчонкой здесь была. Ты сказала, что человек заболевает только тогда, когда дает согласие болеть. Я это крепко запомнила, потому что ты уж тогда пустого почти не говорила, а то – до меня касалось, как я медициной увлечена была. Потом уж я сама поняла, от чего зависит то, чем именно человек заболеет, когда согласится. И уж нынче предсказать заранее могу… За то меня многие и колдуньей считают…
– Это все чертовски интересно, то, о чем ты говоришь, – признала Софи. – Я потом непременно об этом еще подумаю… Но надо же с Каденькой что-то сейчас делать…
– Что ж тут сделаешь, если она решила? – грустно спросила Надя. – Это – каждый сам. Мы за нее перерешить не можем.
– Ну, это мы еще посмотрим! – не согласилась Софи.
Надя лишь тяжело вздохнула.
– Отчего вы грустите? – к женщинам приблизился Василий Полушкин, взглянул сверху вниз. От него пахло вином. – Или ссоритесь?
– Все в порядке, Василий Викентьевич, – сказала Надя Коронина и отошла с опрокинутым лицом.
– Вася, вы как были на колодезного журавля похожи, так и остались! – задрала голову Софи.
– Ну что ж поделать! – засмеялся Василий.
– Пойдемте сядем, если говорить хотите, – предложила Софи. – Так я себе шею сверну.
– Расскажите про Петербург, – потребовал Василий, едва усевшись. – Вы и девочкой рассказывать мастерица были, а после и вовсе, я слыхал, писательницей сделались. Всё, всё… Как там, в столице, люди думают, о чем говорят… Вы в Университете бывали? Как… там?
– Да мне как-то ни к чему… в Университет… – пробормотала Софи, вдруг смутившись оттого, что никогда не бывала в этом храме науки. – Но у меня брат там учился, на юридическом факультете… Он про своих приятелей говорил: коллеги, и еще у него такая шпага была смешная при сюртуке, но он больше в тужурке ходил, это считалось демократично… И еще так было: Гриша у нас нервный всегда был, боялся опоздать; как вместе собираемся, так он всегда всех дергал: пойдемте, пойдемте, а то припозднимся – неудобно. И вот, когда начинал учиться, осенью, приходит на лекцию по расписанию за полчаса, и стоит под дверью час. А никого нет. Уж и лекция давно должна начаться. Спрашивает у сторожа: что такое? Сторож ему: а кто читать должен? По расписанию – профессор NN. Ну, говорит сторож, NN раньше декабря лекций не начинает. И еще помню, боялся в первый год экзамен сдавать: принимает экстраординарный профессор КК. Жаловался мне: «На всю Россию знаменитые люди, написано просто – профессор. А это что ж такое?» Уж после ему Модест Алексеевич объяснил, что это означает «внештатный»…
Начав рассказывать, Софи быстро разошлась, диалоги изображала в лицах, сценки на улицах и в заведениях разыгрывала, вставая со стула и двигаясь и гримасничая соответственно с характером описываемого персонажа. Василий слушал неотрывно, с разгоревшимися глазами. Сюда же подошла Аглая, а маленькая, коренастая Стеша притащила братца Матвея «посмотреть, как тетя Софи из Петербурга показывает театр».
Наслушавшись и насмеявшись, спрашивали еще, что кому в голову придет. Неловкости как ни бывало, будто бы Софи Домогатская уезжала из Егорьевска всего на рождественские каникулы, а теперь воротилась с рассказом. Осмелев и расслабившись окончательно, Василий Полушкин прижмурил цвета свежего сена глаза и спросил: «А что, Софья Павловна, Любовь Левонтьевну Златовратскую вы там, в Петербурге, случайно, не встречали ли? Я понимаю, город большой…»
– А вот случайно и встречала! – весело сказала Софи. – Да она сама ко мне и заявилась как раз недавно. И после еще видела ее у этих, любителей мудрости, про которых сейчас рассказывала. Выглядит Любочка, кому интересно, премило. Все такая же миниатюрненькая, бровастенькая…
– А как же она… живет? – севшим голосом осведомился Василий.
Аглая с тревогой переводила взгляд с Софи на Васю, Матвей приподнял брови, Стеша, чувствуя внезапно возникшее напряжение, недоуменно крутила круглой головой. Только Софи, увлекшись собственным рассказом, ничего не заметила.
– Да вы разве не знаете?! – воскликнула она. – Вот номер! Я уж думала, хоть вам-то да, особенно, маменьке Евпраксии Александровне он сообщится. Они, помню, так близки были, как любая мать мечтать станет… Да Любочка же с вашим Николашей все годы живет! Только он там, в Петербурге под другим именем ошивается, а ее скрывает ото всех. И жениться на ней, мерзавец, не хочет. Вроде как выгоды какой-то, как всегда, ждет. А годы уходят… Она, бедняжка, переживает, конечно, ей ведь еще с детства все светского блеска хотелось, или еще чего-то такого… И мне жаловалась. Но я ей так сказала: ты что ж, Николашу раньше не знала? Он же паразит и негодяй (ты прости, Вася, конечно, но ведь так и есть, ты сам знаешь), и за выгоду отца продаст. Чего еще от него ждать-то было?
Василий вскочил, разом оказавшись едва ль не на полторы головы выше собравшихся. Схватился руками за горло так, словно его что-то душило. Стеша испуганно метнулась в сторону и присела на корточки. Матвей Печинога, напротив, качнулся вперед, как будто бы готовясь к какому-то действию.
Отодвинув юношу рукой, как досадную, но неживую помеху, Василий буквально выбежал из залы.
Софи ошеломленно проследила его движение, потом обернулась к Аглае.
– Чего это он? Вы знаете, Аглая? Это оттого, что я о брате плохо сказала? Он разве к нему так привязан? Я не думала…
– Василий делал нашей Любочке предложение. Как раз накануне того, как она в Петербург уехала, – объяснила Аглая.
– О Господи! – пробормотала Софи. – Я ж и не знала… А куда же он теперь побежал? – обратилась она почему-то к Матвею.
– Вот уж не знаю! – ответил юноша. – Может быть, догнать его?
– Да не надо, наверное… – не слишком уверенно пробормотала Софи, нервно накручивая на палец выбившийся из прически локон.
Стеша потянула брата за рукав и принялась энергично о чем-то его расспрашивать. Аглая, задумавшись, отошла.
К Софи приблизился инженер Измайлов, наконец-то закончивший свой долгий разговор с Марьей Ивановной.
– Где ж Василий? – спросил он. – Я видел, он с вами был…
– Убежал, – честно ответила Софи.
– А Леокардия Власьевна?
– Должно быть, уехала…
– Право, Софья Павловна, близкое знакомство с вами оправдывает худшие мои ожидания…
– В чем же? – надменно подняла бровь Софи.
– Только поговорив с вами, люди, до того вполне стабильные, впадают в экзальтацию и убегают, уезжают…
– Вы думаете, дело во мне?
– Ну не во мне же… – пожал плечами Измайлов.
– Андрей Андреевич, можно вас на минутку? – спросила подошедшая Вера. – Софья Павловна, вы позволите…?
– Да забирай его, Вера, хоть насовсем забирай и съешь! – с детским раздражением воскликнула Софи. – Ни капельки не жалко будет!
Измайлов, отходя, улыбался, но Софи не видела его улыбки. Зато ее прекрасно видели Вера Михайлова и Машенька Опалинская.
– Она приехала и разом все изменила. Большинству и дела до нее нет. Но все стали другими, словно переоделись в другое платье, – медленно сказала Вера, садясь и указывая Измайлову на стул рядом с собой. – Я знала ее девочкой и не могла понять. Вы умный человек, скажите: в чем ее секрет?
– Она изгоняет людей из их прежних оболочек. Но не предоставляет ничего взамен. Стоит невдалеке и смотрит с любопытством: что он теперь будет делать? Именно потому рядом с ней так свежо, больно и холодно.
– Я вам сейчас предложу то, от чего вы откажитесь. Стоит ли, Андрей Андреевич? Мне охота…
– Что ж, предложите, Вера Артемьевна…
– Предложу. Но – уговор. Вы мне после ответите на один вопрос.
– Котов в мешке не беру…
– Могу вопрос заранее задать.
– Говорите.
– Предлагала ли вам то же Марья Ивановна?
– Хитро! – засмеялся Измайлов. – Вы с Софьей Павловной – ловкая пара. Давайте ваше предложение. Потом – отвечу.
Ипполит Михайлович сидел перед полной тарелкой разнообразных закусок, и то и дело подкладывал себе еще. Ел он быстро, и не слишком опрятно. Вина не пил. Надя сидела рядом, с пустой тарелкой и бокалом вина, глядела, морщась.
– Ипполит, довольно есть, – наконец, сказала она. – Особенно маринады. Это нездорово. Тебе с твоим желудком надо режим соблюдать.
– Надя, ради всего святого, оставь меня со своей медициной. Тебе что, некого лечить? Да свистни сейчас, с крыльца очередь выстроится.
– Не в этом дело. Ты всегда ратуешь за рациональность, а сам?
– Оставь. Ты просто злишься, что твой Измайлов тебя совсем не замечает. Но, Надя… Восемь лет прошло…
– Мне нет никакого дела до Измайлова, ты же знаешь! Мы сто раз говорили об этом…
– Ты. Ты говорила. А вот мне действительно нет никакого дела…
– Ты иногда бываешь просто удивительно эмоционально туп… Учитывая всю историю…
– Господи, Надя, а чего бы ты хотела?! Чтобы мы с Измайловым, разрывая рубахи на груди, теперь, спустя восемь лет, выясняли отношения, каялись друг перед другом в грехах, рыдали, били друг другу морды из мести, ревности… или еще что-нибудь в этом духе… Но это же просто смешно и глупо. Не проще ли ничего этого не делать?
– Разумеется, проще… Но как странно…
– Я понимаю тебя… Точнее, пытаюсь понять. Это, вероятно, нереализованная, крестьянская часть твоей натуры. Звериные, троглодитовские, дарвиновские, если хочешь, страсти. Самцы дерутся из-за самки. И чтобы обязательно с мордобоем, чтобы юшка из носов текла… Мы с Измайловым, конечно, не удовлетворяем…
– Ипполит, ты говоришь ерунду! – отчеканила Надя. – Прекрати немедленно!
– Да пожалуйста, – усмехнулся Ипполит Михайлович и снова склонился над тарелкой.
Через пару минут Надя снова заговорила, но уже о другом.
– Ты знаешь, мне кажется, что Вера и Софи избегают друг друга. Даже со мной она больше общается. Отчего так? Ведь когда-то… И они, я теперь знаю, переписывались все эти годы…
– Здесь все просто, – чуть невнятно из-за непрожеванной пищи заявил Ипполит Михайлович. – И тоже по Дарвину, как бы тебя это ни злило. Или, если хочешь, закон сохранения энергии. Софи Домогатская и Вера Михайлова… Они обе выросли и сформировались в личности такого масштаба и такой истории страстей, что в одном помещении или в одном деле находиться просто энергетически не могут. Знаешь, Резерфорд еще в 1772 году опыты проводил, получал «испорченный воздух». Накрывал мышь колпаком, она тратила весь кислород и задыхалась. Вот также и они: когда остаются наедине, такой интенсивности происходит процесс, что мигом весь кислород выжигают и дышать нечем…
В которой братья Полушкины выясняют отношения, Груша сводит счеты с жизнью, а Стеша строит плотину
Евпраксия Александровна никак не могла поверить своему счастью и одновременно считала его заслуженным ею и даже – само собой разумеющимся.
Все сбылось.
Старший, любимый сын живет в Петербурге, вращается в высших кругах, пишет в газеты, признан отцом, Владимиром Павловичем Мещерским (Евпраксия Павловна уж и не помнила его лица, но Николаша показал ей портрет и, она, показалось, – вроде бы вспомнила), и уже совсем скоро будет несметно богат, как и полагается такому выдающемуся человеку, каким всегда был ее Николаша… Насчет концессии по золоту Евпраксия Александровна поняла не до конца, признаваясь себе, что наступление такого огромного счастья попросту лишает ее большей части умственных возможностей, но на обдумывание всего этого еще будет время, а пока – можно наслаждаться самим присутствием Николаши, видеть его, слышать его голос, дотрагиваться до него, когда пожелаешь…
Николаша сидел на диване, положив длинные ноги на низкую скамеечку и лениво жевал крендель. Евпраксия Александровна смотрела на Николашу и не желала себе других занятий. Иногда мать и сын перебрасывались короткими, но полными значительности фразами, и оставались вполне удовлетворены текущей беседой.
Вася ворвался на анфиладу, как степной смерч. Казалось, он, как и принято у смерчей, вращается на ходу вокруг своей оси. Вокруг него взвихривалась пыль и опасное возбуждение. Схватив старшего брата за бархатные лацканы домашней куртки, он буквально сдернул его с дивана и едва ли не поднял в воздух.
– Ты… Ты…
– Васька, ты что, обалдел, что ли?! – заорал Николаша, уворачиваясь от маячившего перед ним перекошенного лица младшего брата. – Какая муха тебя укусила?!
– Я убью тебя! – выкрикнул Василий, отшвыривая от себя брата с видом до того свирепым, словно освобождал руки лишь для того, чтобы достать пистолет.
– Василий, остановись! – Евпраксия Александровна вскочила и прижала руки к груди. Видно было, что и она испугана внезапным гневом и кровожадностью мирного и до сей минуты вполне травоядного сына. – Объясни, что случилось!
– Ты – подлец! – Вася вытянул длинную руку и едва не ткнул Николашу пальцем в глаз. – Ты опозорил Любочку, много лет использовал ее из своих интересов и даже не дал ей ни одного из твоих имен. А ведь она когда-то спасла тебя! Змей многоликий! Ненавижу!
Николаша, видя, что гнев брата не утихает, поднялся на ноги и начал потихоньку пятиться к выходу.
– Вася! Николаша! Объясните мне! – взмолилась Евпраксия Александровна. – Что за Любочка?
– Речь, маман, идет о Любови Левонтьевне Златовратской, – издевательски поклонился в сторону матери Василий. – Она когда-то спасла Николашу от полиции, и, видимо, получила от него множество обещаний взамен. Доверившись его слову, отправилась в Петербург. Но что слово его?! Ваш сын совратил ее и много лет живет с нею во грехе, держа ее фактической наложницей. При том, что Любовь Левонтьевна образованна, умна, красива и преисполнена всяческих достоинств…
– А, так это младшая дочь Златовратских! – сообразила, наконец, Евпраксия Александровна. – Та девушка, которой ты делал предложение…
– Васька! – ахнул Николаша, до которого тоже многое разом дошло. – Ты делал Любочке предложение?! Я не знал, видит Бог, не знал! Она мне ничего не сказала…
– А что это изменило бы? – холодно осведомился Василий. – Ты бы сразу раскаялся и отослал ее мне в Егорьевск наложенным платежом? Ведь для тебя любой человек, пусть даже и любящий тебя, всего лишь вещь, выгоду которой можно исчислить… И это уже испробовали на себе и наша мать, и отец, который тебя вырастил, и Любовь Левонтьевна… О себе я не говорю…
– Василий! – строго сказала Евпраксия Александровна. – Я запрещаю тебе говорить с Николашей в таком тоне. И попроси извинения за свое безобразное поведение. Что же касается этой девушки, то она знала…
– Вы, матушка, более ничего не можете мне запретить, – с ужасной улыбкой на лице сказал Василий. – А вот что касается Николаши… Я думаю, что я немедленно попрошу у Веры Михайловой принять меня и…
– Погоди, погоди, Вася… И вы, маман, погодите… – Николаша выдавил из себя улыбку. Он должен вывернуться и не дать некстати сошедшему с ума братцу все разрушить. Надо собраться. В этом он всегда был талантлив, да и двойная жизнь в Петербурге многому его научила. – Я думаю, мы сможем договориться. Поверь, Вася, я действительно ничего не знал о твоих чувствах касательно Любочки. И, следовательно, подумать не мог, что должен с тобой об этом говорить. Но теперь, чтобы тебя успокоить, скажу: мы с Любой венчаемся немедленно после моего возвращения в Петербург. Это уже решено окончательно, и осталось только дождаться завершения всех договоров с концессией и золотом. Пойми меня правильно: женившись, я должен буду официально представить моему отцу, Владимиру Павловичу Мещерскому, свою жену. Ты согласен? Согласись и с тем, что он может и не одобрить мой выбор. Любочка Златовратская, как ты правильно заметил, преисполнена всяческих достоинств для нас обоих, но не такова она для светского петербургского льва – и это тоже легко сообразить. Зачем же мне рисковать? Пусть все бумаги будут подписаны, деньги вложены, дело закрутится – тогда уже никто не в силах ничего изменить, и, если отцу не понравится моя жена – что ж, это будет всего лишь его личное дело… Что ты теперь думаешь?
– Я думаю, что ты мне врешь, и все это только сейчас, от страха придумал, – с внезапной проницательностью заметил Василий. – Но это теперь уже значения не имеет. Потому что ты действительно обвенчаешься с Любовью Левонтьевной немедленно после своего, а точнее, нашего приезда в Петербург. Независимо от всех концессий и денег. А если ты этого почему-либо не сделаешь, то я тебя, брат Николаша, просто убью…
На веснушчатом лице Василия сверкнули белые, крупные, неожиданно хищные зубы. Евпраксия Александровна видела такую улыбку на лице младшего сына второй раз в жизни, и ни за какие коврижки не хотела бы увидеть ее в третий. Казалось, Николаша разделял ее ощущения. Он стоял перед Васей, который был выше его на полголовы, и медленно и согласно кивал. Губы его мелко дрожали.
– Господи, как же я ее ненавижу! – прошептал Николаша, когда Васины шаги затихли внизу.
– Кого, Любочку Златовратскую? – спросила Евпраксия Александровна.
– Да причем тут Люба! – с досадой воскликнул Николаша. – Софи! Эта безумная Софи Домогатская! Кто, по-вашему, рассказал обо всем Ваське? Разумеется, она! Только появилась и сразу же во все мешается. И все портит. Ненавижу…
Капли воды сложным, извилистым путем сбегали по серой, мшистой поверхности камня. Софи отслеживала их глазами, трогала пальцем мягкий и влажный мох.
Огромный, расколотый посередине валун лежал на самом краю разливов. Егорьевцы называли его «Разбитым Сердцем» и имели по его поводу какую-то маловразумительную легенду о несчастной любви. Самоеды же с древности считали камень священным символом какого-то своего бога, и еще недавно, менее полувека лет назад каждый год справляли возле валуна загадочные, языческие ритуалы.
Матвей сидел на земле у основания камня, как-то по-мальчишески свернувшись и подняв колени к ушам. Стеша поодаль прилежно строила запруду в узком месте вздувшегося, сердито рокочущего ручья.
– Ты подумал о том, что я тебе сказала? – спросила Софи. – Согласен ехать?
– Я думал, Софья Павловна, – благополучный по всем статьям Матвей вдруг показался Софи до крайности несчастным. – Но я пока не могу решить. Если я уеду с вами в Петербург, и буду там много лет учиться, и еще вернусь ли назад, Бог весть, то как же Соня? Она ведь не может ехать со мной…
– Ерунда это все какая-то! – решительно возразила Софи. – Придумали для интересу жизни, и повторяете один за другим. Почему она не может ехать? В обмороки падает? Ну, попадает, попадает, и перестанет. Можно шапочку на вате носить, чтоб головой сильно не биться. А не хочет – так исполать ей. Вы обручены? У тебя есть перед ней обязательства… гм… иного рода?
– Нет… Нет… – Матвей покраснел и покачал головой.
– Ну так тогда давай из этого и исходить. Вы – два взрослых человека. Каждый принимает самостоятельное решение. Это решение определит вашу дальнейшую судьбу – твою и Сонину. И у каждого из вас судьба, как ни поверни, своя. Если допустить, что вы дороги друг другу, то каждый из вас, принимая свое решение, должен чем-то поступиться в пользу другого. Ты можешь, конечно, отказаться от получения образования и навсегда остаться в Егорьевске ради Сониных страхов. Но не наступит ли момент, когда именно Соню ты и обвинишь в том, что твоя жизнь случилась лишь на одну восьмую возможного? И не обвинит ли она тебя в том, что ты все время шел на поводу ее слабостей, тем самым лишая ее шанса бороться и стать более сильной? Ты думал об этом?
– Нет, – подумав, признался Матвей. – Так я никогда не думал. Я полагал, что, раз я мужчина, и сильнее ее, то мне и следует поступаться…
– Ну надо же! Кто бы мог предположить! Да Вера воспитала тебя просто настоящим христианином, – с долей издевательского презрения воскликнула Софи.
Матвей недоуменно шевельнул бровями. На высоких, чистых скулах под кожей заходили желваки.
– Да, я христианин, – с достоинством ответил он. – Хожу в церковь. Причащаюсь. Я знаю, что вы в Бога не веруете, но это не значит…
– Да ничего это не значит, Матвей! – с досадой перебила Софи. – Закон этого мира для всех один – для христиан, магометан, язычников, атеистов. Ты видел, чтоб солнце светило, или дождь шел, или весна наступала по вере людской? Тебе удобно думать, что этот закон дан Богом, а конкретно Христом напополам с Иеговой, – так и думай себе на здоровье. Мне же удобно думать, что все мои заслуги принадлежат мне, а не милости Божьей, а если я совершила подлость, то это моя подлость, а не происки дьявола в моей душе. Мне нравится быть хозяйкой самой себе, а не игрушкой чьей-то, пусть даже самой благостной воли. Ты осудишь меня за это?
– Кто я такой, чтоб вас судить? – смущенно пробормотал Матвей.
– Короче! – Софи надоели абстрактные рассуждения, к тому же разговор на этом месте близился к своему вполне естественному окончанию. Стеша закончила строить плотину, и теперь запруженный ручей уверенно и неумолимо растекался к низинке, в которой лежал валун «Разбитое сердце». – Ты взвесь все и решай поскорее. Будет честно, если с Соней посоветуешься. Если хочешь знать мое мнение, то она наверняка хороша, но уж слишком простенькая, чтобы из-за нее жизнь ломать. Может, это и к лучшему, что вы разъедетесь. Перестанете друг другу взор застить, может, оба подберете себе что получше…
– Софья Павловна! Я…
– Ты, если сейчас не встанешь, окажешься с мокрой задницей! – заявила Софи. – Потому что твоя сестрица нас по всем правилам инженерной науки подтопила… Вот уж кто бы ни минуты не медлил, если бы ему предложили… Эй, Стешка! Ты бы поехала в Петербург на инженера-механика учиться?
– Да я бы хоть на край света поехала! – крикнула Стеша, стоявшая по колено в воде и укреплявшая свою плотину. – Да только мама с Матюшей говорят: девчонкам на инженера нельзя учиться.
– Ну, об этом еще подумать надо… Пошли теперь, – пробормотала Софи и, подобрав уже промокший подол, быстро полезла вверх по склону.
Вопреки всем предположениям, Гриша сам кинулся к коляске, на которой ехали Софи и Надя, еще с дороги, когда и описанная местной крестьянкой изба с резными наличниками не показалась из-за поворота.
Надя сразу, без всяких описаний и представлений, узнала его. Брат с сестрой были похожи. Высокие лбы, пытливые, слегка исподлобья взгляды, тонкое, слабое, на первый прикид, телесное сложение. Его порывистые движения сопровождал тот же тревожный сквозняк и завихрения воздуха. Кожа у Гриши была значительно смуглее и волосы темнее, чем у Софи. Лицо со впалыми щеками казалось высушенным на неведомом жару, а весь облик напоминал о пригорелой в печи ржаной краюшке. Впрочем, Надя Коронина, бывшая замужем за народовольцем, прекрасно знала этот российский идеологический «жар», который превращал обычных по изначальной судьбе людей в закаленное орудие неведомой социальной силы. Увы, несмотря на все свои медицинские таланты, в этом случае Надя могла лишь поставить диагноз. Лечения сей болезни подобрать не удавалось.
– Софи, Софи! – вскричал Гриша, бросаясь едва ли не под копыта лошадей.
Возница с трудом остановил коляску. Софи соскочила прямо в объятия брата. По смуглому лицу Гриши текли слезы.
– Горе! Горе-то какое! Я! Я один во всем виноват!
– Что за горе, Гриша? – отстраняясь, строго спросила Софи. – В чем ты виноват?
– Груша! Грушенька… Я – виновен! Любой казни мало…
– Что случилось с Грушей? Скажи толком! – Софи поджала губы, и Надя еще раз уверилась в том, что между невесткой и золовкой нет и, по-видимому, никогда не было особой любви.
– Груша… жена моя… Утопилась!!! – вскричал Гриша и, пошатнувшись обхватил руками взлохмаченную голову.
Надя невольно охнула.
– В самом деле? – осведомилась между тем Софи. – Утопилась? Гм-м… Ну, коли так, то что ж поделаешь… Слезами горю не поможешь… Пошли-ка в дом, Гриша. Нечего тут устраивать бесплатное представление для всей деревни…
– Да, да, ты права, Соня… Конечно… – всхлипнул Гриша. – Пойдем… Нет мне прощения…
В избе было чистенько, но как-то на удивление затхло. На застеленной кровати отпечатался абрис лежавшего навзничь человека. Чахлая геранька на подоконнике засохла и скукожилась. Средних лет баба со свернутым на сторону носом сидела за столом и с ложки кормила девочку лет трех ячменной кашей. Девочка уворачивалась и ныла.
– Спасибо, Матрена, – сказал ей Гриша. – Иди…
– Да она не съела, почитай, ничего, – гнусаво предупредила баба. – Третий день, почитай, Григорий Павлович. Я чаю, как бы тоже не померла…
– Иди, Матрена! – зазвеневшим голосом повторил мужчина.
Баба, шаркая толстыми ногами, вышла. На лице ее отчетливо пропечаталась та же тупая укоризна, какая видна бывает у старых дворовых псов, всю жизнь просидевших на цепи.
Софи подошла к сидящей девочке, оглядела ее со всех сторон, как рассматривают экзотических зверьков в зоологическом саду. Девочка, замолчавшая было, опять заплакала и заныла:
– К ма-аме хочу!
– А кашу доесть не хочешь? – строгим «докторским» голосом спросила Надя.
– Не хочу-у! – девочка заревела еще пуще и швырнула лежащую на столе ложку на пол.
– Я сойду с ума! – простонал Гриша. – Отчего я вовремя не утопился?!
– Да, это вопрос, – согласилась Софи, подставила стул Наде и присела сама. – Но расскажи-ка мне поподробнее. Я пока ничего не понимаю… Груша знала о наших, о твоих планах?
– Знала, – получив возможность выговориться, Гриша слегка приободрился. – Я все ей рассказал, и дал прочесть оба письма: и твое, Соня, и ваше, уважаемая Надежда Левонтьевна, – он, привстав, грациозно поклонился в сторону Нади, и она внезапно, вдруг вспомнила то, что так привлекало ее когда-то в молодом Ипполите Михайловиче.
Вот эти вот почти бессознательные движения и повадки едва ли от рождения (да что там – до рождения, во многих поколениях) воспитанного человека. То, на что Ивану Гордееву, к примеру, приходилось всю жизнь ломать себя, давалось им само собой… И, к сожалению, довольно быстро уходило с годами, если они оказывались вырванными из привычной, специально приспособленной для их существования среды… Ипполит… Надя вспомнила его нынешним, склонившимся над полной тарелкой закусок; пальцы в жиру, рыжеватые блестящие волоски на них… Вот и Гриша, останься он в ссылке еще хоть лет на пять… Впрочем, есть еще и Софи… Имеет ли среда… Или люди… Или время… Или хоть вообще что-то или кто-то (!) над нею власть?! Может ли сделать ее… не собой?
– … И тогда она сказала мне, что вся ее жизнь со мною была миражом, мороком, взятом из твоих, Соня, романов…
– Ну вот, – с готовностью усмехнулась Софи. – Я отчего-то так и знала, что я в конце виноватой окажусь!
– Нет, нет, Соня, ты тут совершенно не причем! – с горячностью воскликнул Гриша. – Ты как раз всегда предупреждала меня, что Грушенька не сможет быть со мною счастлива…
– Мне казалось, что я предупреждала – наоборот: ты не сможешь быть счастлив с нею! – пробормотала Софи.
– Так и вышло! Что я смог дать ей, кроме… кроме постоянных страхов, сердечных терзаний, и вот этого убогого жилища!
– Гриша, мы теперь же уедем отсюда!
– Куда и зачем мне ехать? – с тоской спросил Гриша. – Где я смогу забыть несчастную Грушу и все, что я сделал, точнее, не сделал для нее?! Я забрал ее из вертепа и обещал сделать счастливой… А теперь… Ведь ей не было еще и тридцати лет… И эта несчастная сиротка, Люда, по моей вине оставшаяся без матери… Не уговаривай меня, Соня, я – преступник, меня надо судить за убийство. Я сдамся властям…
– Так! – Софи поднялась, прошла по комнате, и остановилась рядом с сидящим, поникшим головою Гришей. Рукою взяла его за темную, с едва заметною сединою прядь и потянула вверх, заставляя глядеть себе в глаза. Лицо Гриши сморщилось от внезапной боли. – Слушай меня! К вопросу о властях и преступниках… Я не знаю, действительно ли Лаура свела счеты с жизнью, да, если честно, и не слишком хочу это знать. Если же она и вправду утопилась, то это всего лишь значит, что в ней внезапно заговорила умолкнувшая много лет назад совесть. Груша-Лаура не только бывшая проститутка. Она – убийца. Десять лет назад она убила свою подругу, горничную Лизавету, которая грозила ей разоблачением. Она зарезала ее ножом из заведения Туманова, в котором, как ты помнишь, служила, и оставила улику на месте преступления. В убийстве обвинили Михаила, и это еще добавило камень в тот груз, который и так уже лежал на его плечах… Я случайно раскрыла это дело, мне помогла шляпница Дашка из дома Туманова и механические мопсики, которых подарил мне Михаил…
– Соня… – потрясенно прошептал Гриша. – Ты знала уже тогда? Но почему же ты не сказала мне?!
– И что было бы? Ты отказался бы от нее, если бы узнал? Или нашел бы и этому оправдание, как и ее работе в борделе? Скажи честно: тогда – отказался бы?!
Подумав, Гриша отрицательно помотал головой.
– Вот и я так решила, – кивнула Софи. – Зачем тебе было знать, что ты живешь еще и с убийцей… А Грушу я предупредила… Она ненавидела меня также, как и я ее…
– Господи, у меня просто не укладывается в голове… – пробормотал Гриша.
– А у меня так прекрасно укладывается, – заметила Софи. – Покажи-ка мне лучше записку, которую она тебе оставила.
Гриша протянул Софи лежащий на столе клочок бумаги.
«Сил моих больше нету так жить. Кончаю свою распроклятую жизнь и в смерти моей прошу никого не винить. Позаботьтесь о дочке моей, Людочке. Грешная везде – Груша Домогатская-Воробьева.»
Прочитав записку, Софи передала ее Наде.
– Ну что ж, – сказала она. – С этим понятно. А как узнали, что она именно утопилась?
– На берегу Тары урядник нашел ее одежду, – вздохнул Гриша, не в силах, после открывшегося, произнести имя умершей жены. – А мальчишки даже след от вывороченного камня отыскали, который она, видать, к себе привязала, чтобы наверняка… Потом… искали ее, но Тара – речка неспокойная, с омутами, водоворотами… Не нашли…
– И что… – обдумав услышанное, спросила Софи. – Кроме этой одежды, больше ничего из дома не пропало?
– Конечно, не пропало, Софи. Что тебе в голову пришло? Люди, когда идут топиться, ничего с собою не берут…
– Вот это и вопрос, – себе под нос пробормотала Софи. – А что ж одежда? Ты ее сжег? Выбросил?
– Да вон она лежит, на лавке, – кивнул Гриша, весь во власти тягостных дум. – Платок, юбка, кофта, ботинки… Урядник принес, а я и не знал, что делать…
– Хорошо… Гриша, нам тут задерживаться, как ты понимаешь, нельзя… У тебя вещи, твои и Людины, собраны? Или, я так понимаю, не до того…
– Собраны, – вдруг сказал Гриша. – Она собрала все, как будто бы собиралась ехать… Наверное, чтобы я не заподозрил ничего… Если бы я мог догадаться! Но я же только о себе…
– Ладно, ладно… Вещи, значит, собраны… Ну, хорошо… А где Грушин узел? Мы его с собой брать не будем, конечно. НО ты мне позволишь взглянуть?
– Взгляни… Но зачем тебе, Соня?
Софи не ответила. И лишь много позже, когда под покровом темноты собрались выходить, задала брату всего один вопрос:
– Скажи, Гриша, а у Груши сапожки были?
– Были, конечно, – удивился Гриша. – Такие, с красными голенищами… А почему ты спрашиваешь?
В повозке Гриша некоторое время плакал на пару с дочерью, а потом вместе с нею же и задремал.
Надя и Софи лежали на соломе, на расстеленном армяке, подложив под головы тюки с вещами, и смотрели на звезды.
– Господи, как это страшно все получилось… – медленно сказала Надя. – Она кого-то убила, мучилась все эти годы, и он мучился, а теперь она утопилась, оставила девочку…
– Она не утопилась, Надя, – спокойно сказала Софи. – Просто решила все начать с чистого листа. Я только надеюсь, что мои пути с нею больше не пересекутся. Иначе я за себя не отвечаю…
– Но отчего же ты знаешь?! – изумилась Надя.
– Во-первых, я немного знаю Лауру. Это все… как-то не в ее духе. Она очень живуча. Во-вторых, рассуди сама: зачем раздеваться едва ли не догола, если решил утопиться? Только для того, чтобы следы оставить, иначе не объяснить. Она написала записку, пришла на берег, переоделась в заготовленную заранее одежду, выворотила и кинула в воду камень… Вполне допускаю, что у нее был сообщник, какой-нибудь разбойник или даже крестьянин, которому она платила за содействие привычным ей способом. Само собой, Гриша не проверял ее гардероб и наверняка даже не знает, что в нем было. Денег он тоже считать никогда не умел, и она постепенно смогла что-то отложить. Мой приезд только ускорил все, да и ее письмо ко мне наверняка было уловкой хотя бы отчасти… Но осталась улика…
– Какая же?
– В это время года в деревне ходят, как ты заметила, в сапогах. Груша же по легенде пошла топиться в ботинках. Это просто объяснить. Сапоги у нее были одни, и она никак не могла оставить их на берегу. В узле с вещами, и в доме их тоже нет. Стало быть, она в них уехала…
– В голове не укладывается, – пробормотала Надя. – Девочка…
– Тащить с собой такую обузу Лаура не могла. И, зная о моем приезде, была уверена, что девочку никто не бросит, о ней позаботятся. Теперь вот ты уедешь с Гришей, а мне придется тащить ее с собой в Егорьевск, а потом – в Петербург. Не сказать, чтоб я от этого была в восторге. Тем более, что Люда – ну просто вылитая Грушенька. От Гриши там только лоб, пожалуй… Но я тебя, Надя, прошу: ради Бога, ничего не говори Грише о моих предположениях. Пусть он думает, что Груша окончательно и бесповоротно утопилась!
– А что? Ты думаешь, что после всего он стал бы ее искать?
– Не знаю… И думать об этом не хочу! – отрезала Софи. – Утопилась так утопилась! Хватит нам Людочки на память…
В которой Софи встречает бывшую попадью Фаню и вместе с ней слушает проповедь. Здесь же в избушку слабоумного Егорки Щукина заглядывает счастье
Коляска, подпрыгивая, бодро катила по насыпной дороге, посреди на удивление безрадостных пейзажей. Талая вода еще не сошла и бесшумно и неумолимо занимала огромные плоские пространства. Дальние островки высокого леса реяли миражами словно посреди разлившегося моря. Верховые болота недавно освободились от снега, а сухая трава на них уже успела сгореть. Теперь вдоль дороги, между обуглившимися кочками стояли лужицы черной воды, да кое-где желтели и мертво шуршали островки уцелевшей прошлогодней осоки и камышей. Живые, толстые, едва ли не в запястье толщиной корневища всползали на кочки и непристойно высовывали на концах огромные, бледно-зеленые почки. Казалось, что какие-то гробовые змеи из легенд и былин выползают погреться на солнышке.
Софи не спала уже как бы не трое суток и непрерывно судорожно зевала. Люда все время капризничала, звала то маму, то папу, и засыпать не хотела категорически. Не хотела она также есть, пить, играться с куклой и слушать сказку. Софи смотрела на ребенка со с трудом сдерживаемым раздражением и с благодарностью к писателю-реалисту вспоминала рассказ господина Чехова про малолетнюю няньку, придушившую надоедливого младенца.
От тоски и невозможности заснуть Софи попыталась было завести разговор с угрюмым, заросшим до глаз бородой возницей, но и тут потерпела неудачу.
– А что, есть ли теперь в Сибири разбойники или всех повывели?
– Есть, как не быть.
– И что же, по-прежнему на дорогах грабят?
– Грабят, барыня.
– И банды есть? Вроде как банда Воропаева была? Или Черного Атамана?
– И банды есть.
– А ты не боишься ездить-то? Если убить могут или ограбить?
– Боюсь, барыня.
– Так а что ж другим чем не займешься?
– Да нечем у нас.
– Ну а как ты вообще-то живешь? Расскажи…
– Да так все как-то, барыня.
И пр. и пр. в том же духе.
Отчаявшись, Софи откинулась назад и пыталась считать пролетающих над головой птиц, но писклявый, ноющий голосок Люды лез в уши и не давал отвлечься.
«Может быть, ее стукнуть надо и она успокоится? – равнодушно подумала Софи. – Кто знает, к чему она привыкла? Вполне может статься, что Грушенька ее била, и она только на это и реагировать приучена… Жаль, я у Гриши не спросила…»
….
– Вон там, на самом въезде в лес, они обнакновенно и сидят, – неожиданно подал голос возница.
– Кто сидят?! Где? – вздрогнула Софи.
– Да разбойники, – пояснил мужик. – Место для них удобственное.
Втянувшись в лес, дорога сразу стала хуже, и продвижение экипажа замедлилось. В колеях появилась вода. Из воды и грязи локтями выпирали тускло блестящие корни. Черные тени дышали прохладой. Небольшие мохнатые лошадки фыркали и как-то по собачьи принюхивались. Видно было, что в холодном и влажном лесу им нравилось куда меньше, чем на открытых, пусть и вовсе некрасивых собою пространствах. После слов возницы Софи с тревогой оглядывалась по сторонам. Даже Люда на время перестала ныть и испуганно примолкла.
Внезапно прямо из кустов, проваливаясь в грязь, с криком метнулась к коляске закутанная в плат черная фигура.
– Ой! – вскрикнула Софи.
Возница крякнул, привстал на скамье и, явно готовясь дорого продать свою жизнь, занес над головою толстое кнутовище.
– Софья Павловна! – завопила фигура, в которой уж оба седока признали дородную бабу.
– Эй, остановись! – крикнула вознице Софи. Люда истошно заревела и засучила ногами, но Софи было не до того, чтоб ее успокаивать. – Кто ты? Чего тебе надо?
Баба ухватилась руками за край возка и скинула с головы платок. На почернелом лице золотыми угольями горели отчаянные, полные слез глаза.
– Боже мой… Фаня… – прошептала Софи.
Женщина еще склонилась, уткнулась лицом в сгиб локтя и с готовностью и облегчением разрыдалась, время от времени оглушительно взвывая и хлюпая носом. Люда пыталась вторить, но явно проигрывала в громкости.
Возница удивленно оглядывался и ждал приказаний. Софи обречено сидела в коляске, выпрямившись и зажав уши, и тоже ждала.
Когда Фаня, наконец, отрыдалась, Софи молча указала ей на место рядом с собой. Взгромоздившись на скамью, Фаня сразу же заметила девочку.
– Чья же это? – шмыгнув носом, спросила она и попыталась сделать девочке «козу». Люда в ответ заплакала с новой силой. – Неужто ваша, Софья Павловна?
– Нет, не моя, – вздохнула Софи. – Это брата моего, Григория, дочка. А мать ее неделю назад утопилась…
– Господи, прости! – Фаня судорожно перекрестилась и снова потянулась к девочке. – Беда-то какая! Иди же ко мне, сиротинушка ты моя горемычная, кровинушка горькая, всеми покинутая…
– Не надо, Фаня! – поморщилась Софи. – Если с ней пытаться говорить, она еще больше реветь станет. И так уже сил моих нету. Третьи сутки не сплю…
Фаня, не слушая, распахнула свои черные монашеские одежды, притянула Люду к себе, прижала ее к своей обширной груди и что-то невразумительно и едва слышно заворковала. К невероятному изумлению Софи, девочка, которая сначала вырывалась и отчаянно брыкалась, постепенно затихла, потом несколько раз длинно и протяжно вздохнула и вскоре ритмично засопела заложенным от долгого плача носом.
– Неужели заснула?! – не веря, шепотом спросила Софи.
– Умаялась, сердечная, – ответила Фаня, баюкая Люду и одновременно устраиваясь поудобнее (коляска от ее движений скрипела и раскачивалась).
– С ума сойти, – покачала головой Софи. – Теперь уж я тебя точно никуда не отпущу, пока до места не доберемся. Иначе либо я, либо она живой не доедет… Рассказывай. Только скажи прежде: мы что с тобой, случайно посреди Сибири повстречались?
– Да какое случайно! – Фаня явно хотела махнуть рукой, но так как руки у нее были заняты, только горестно подняла брови. – Я на станции прознала, что вы человека наняли и назад поедете, и караулила вас. Ближе-то к жилью боялась. Здесь… духовные лица часто ездят… не дай Бог…
– Ладно, давай по порядку.
– Я в монастыре Ирбитском жила, в монашках. Не по своей воле случилось. Восьмой год уже, – сухо начала Фаня. – Таежный телеграф монастыри стороной не обходит. Через третьи руки дошел слух, что в Егорьевск барыня из Петербурга приехала, которая еще девочкой в наших краях бывала. Имени не принесли, но я сразу догадала, что это вы, Софья Павловна. И тогда решилась… Грех на мне великий, как я постриг приняла, но мочи моей больше не было тамочки оставаться. Либо обратно в мир, либо – в петлю. Я рассудила: чем больше перед Господом согрешу? И убежала… Матушка, небось, уже везде сообщила. Теперь мне и показаться нигде нельзя…
– Да что с тобой сделают-то? – удивилась Софи. – Подумаешь, из монастыря сбежала. Это, как я понимаю, твои личные с Богом дела… Ты ж не убила никого, не ограбила…
Фаня низко склонила голову, всхлипнула.
– Есть еще грех на мне, вам признаюсь. Деньги я из матушкиной шкатулки взяла. Семь рублей и еще полтинник. Иначе не прожить бы мне было. Кто беглую монашку в хозяйство утруждаться возьмет? А кержаки, как узнают, и побить, и убить могут…
– Ну, ладно, украла ты семь с полтиной. Это, конечно, грех, но пережить можно. Дальше-то ты что делать собираешься? Зачем меня караулила?
– Софья Павловна! Милая! Не оставьте! – истово воскликнула Фаня. Люда заворочалась во сне, но не проснулась. – В ноги упаду! («Не надо! – быстро сказала Софи. – Коляска перевернется! И ребенок…») Заберите меня отсюда! Возьмите меня с собой в Петербург, в прислуги! Или хоть в деревне у себя где поселите. Я все готова делать, в обители ко всему привыкла: убирать, мыть, готовить, за детьми, за больными, за скотиной ходить, лишь бы в миру, лишь бы среди живых людей, которые о мирском смеются, дерутся, плачут… Живут, в общем… А если вам вовсе от меня неприятно, так помогите хоть до России добраться. Я там затеряюсь где-нибудь, наймусь к кому, или еще как… Проживу, не сгину. Я ведь сильная, хоть и иссохла от тоски-то…
– Гм-м, – сказала Софи.
«Иссохшая» Аграфена оставалась раза в три дороднее самой Софи.
– В докуку вам… – закручинилась Фаня, по-своему истолковав молчание собеседницы. – Простите покорно. И чего это мне в голову взбрело… Ведь столько лет не видели вы меня, и знать не знали… Дура я как была, так и осталась… Правильно батюшка и Андрей про меня говорили… Вот доедем до почтовой станции, там я вас и освобожу, и уж пойду…
– Да погоди ты, Фаня, не голоси, – с досадой прервала бывшую попадью и бывшую монашку Софи. – Я столько времени не спала, что у меня уж в голове все мешается. Можешь ты пока за ней присмотреть, а я – хоть чуток подремлю? А потом про твои дела и подумаю, как в мозгах прояснится… Ну, можешь? – Фаня энергично закивала. – Вот и хорошо, вот и славно… Ее Люда зовут, если проснется… вон там ее кукла валяется… и бутыль с водой… – Софи несколько раз широко зевнула, едва ли не вывихивая челюсть, закрыла глаза и с облегчением откинулась на обитую кожей спинку сиденья.
Фаня вытерла черным рукавом нос и губы, заглянула в лицо лежащей у нее на руках девочки, горестно прицокнула языком, и тихонько замурлыкала колыбельную.
В подслеповатой и заброшенной избе пастуха Егорки Щукина Аграфена еще до темноты навела удивительный для этого места, какой-то сердечный порядок. Растопила треснувшую печь, поставила опару на пироги. Постирала со щелоком две Егоркины рубахи и пару подштанников. Вынула из своего узелка и разложила по комнате полудюжину вышитых салфеток. Отмыла от пыли валявшуюся под лавкой пустую бутыль и поставила на окно расцветающие ветки. Выскоблила стол и полы.
Малоумный Егорка сидел на лежанке, поджимал ноги и блаженно улыбался, никак не в силах понять, кто и за что послал ему благодать в виде этой большой, теплой и улыбчивой женщины с таким же сдобным, как она сама и ее пироги именем – Фаня…
Сестра Соня и ее (но не Егоркин!) брат Матвей (этого сложного родства Егорка уяснить до конца никогда не мог) привезли Фаню и ее вещи на Выселки в старую избу Щукиных и растолковали Егорке, что он должен во всем ей угождать, а болтать про нее, напротив, никому нельзя. Но кто будет болтать с Егоркой?
А угождать Фане пока не было нужды. Она сама ему во всем угождала и при том непрерывно напевала себе под нос что-то мелодичное и, кажется, божественное.
К вечеру Егорка, отужинав и переодевшись в чистое (перед тем Фаня заставила его натаскать воды в бочку, помыться и сама поливала ему из ковша), захватил старый полушубок и хотел было отправиться спать в сенной сарайчик (как ему велели сестра Соня и ейный брат Матвей). Но Фаня удержала его за руку и улыбнулась потаенной улыбкой. Потом усадила на чисто застеленную лежанку, присела рядом с ним, и положила его широкую натруженную ладонь на свою обширную и высокую грудь. Егорка замычал от умиления и восторга и по телячьи ткнулся губами в Фанины перси.
Спустя еще время Егорке казалось, что он уже на небесах.
– Я хочу увидеть его! – твердила Фаня. – Я увижу его и пойму…
– Да что ты поймешь?! – недоумевала Софи. Слово «понять» казалось ей вообще к Фане неприменимым. – Это же глупо, прятаться от всех и самой являться к отцу Андрею… Он, наверное, просто обязан будет доложить по вашему церковному ведомству…
– Андрей никому ничего не доложит, – твердо сказала Фаня. – Не такой он человек… Да мне и являться ему не обязательно. Просто взглянуть… Приду в собор, когда он проповедь читает, и постою в уголке…
– Час от часу не легче, – вздохнула Софи. – А если он тебя узнает? Каково ему-то будет, об этом подумала? И… слушай, Фаня… если тебе так уж надо в прошлое сунуться, может, тебе лучше с твоим бывшим любовником повидаться, этим… как его… ну, в общем, урядником?
– Нет, – грустно покачала головой Фаня. – Андрей мой венчанный муж. Мы с ним обеты давали. Я перед ним кругом виновата. А Карпуша… что ж… у него возможность была… тогда и потом… восемь лет долго текли. И… не мне, Софья Павловна, судить кого бы то ни было, но видеть я его не хочу.
Софи и Фаня пришли в собор к полудню, к окончанию литургии. Несмотря на яркий солнечный день, в соборе было полутемно, а может, так показалось по контрасту. Под темными платками лица обеих женщин можно было разглядеть с большим трудом.
Отец Андрей поздравил причастившихся (Фаня тут же начала тихо плакать – как беглянка из монастыря, она не могла идти к причастию не только в соборе, но и вообще где бы то ни было). Потом началась проповедь. Во время службы читали из четвертой главы от Иоанна об Иисусе и самарянке у колодца. О духовной воде познания Бога и Истины, которая навсегда утоляет жажду и сама делается источником, текущим в вечность, и начал говорить отец Андрей.
После вдруг от удивления учеников, что Спаситель разговаривал с женщиной, перешел к браку и любви. Прихожане, из тех, кто остался слушать, оживились. Именно за эти вот неожиданности и ценили владыку Андрея. Те, кто более всего ценил канон и стабильность, ходили в Покровскую церковь, к отцу Михаилу.
«Сказать человеку: я тебя люблю! – то же самое, что сказать ему: ты никогда не умрешь!.. И это правда по отношению к Богу, это правда по отношению к человеку. Когда мы говорим о любви, мы говорим об очень сложном чувстве и состоянии, но в конечном итоге любовь, как мы ее видим в Боге, во Христе, это то состояние души, то отношение к другому, при котором человек забывает себя до конца и помнит только любимого; состояние, при котором человек для себя, субъективно, перестает существовать, он существует только потому, что он любим и утвержден другим – человеком, Богом…
Свобода, послушание, взаимная внимательность в конечном итоге восходят к своему первоисточнику – будь то в браке, будь то в монашестве. Это способность, но это также и подвиг, когда мы сами себе говорим: Отойди от меня, сатана, сойди с пути! Я не хочу уже прислушиваться к себе, я хочу всецело вслушиваться в другого человека, всецело вслушиваться в Бога…
И слово о целомудрии… Его нельзя достичь одной сдержанностью или дисциплиной плоти. Или даже дисциплиной воображения. Можно достичь его только тогда, когда мы на другого смотрим и верой и любовью прозреваем в нем человека пусть земного и грешного, но возлюбленного Богом, сотворенного для вечной жизни, искупленного страстями Христа, которого нам Бог поручил, чтобы мы открыли ему путь вечной жизни. Это отношение не только физическое, но духовное. И вечная жизнь, о которой тут идет речь, находится не в противоречии с жизнью земной, но жизни, где все земное и тленное, через благодать, через приобщение Божественности, усилиями двоих, и при помощи Бога, получает измерение вечности…»
Проповедь закончилась. Огласили праздники и службы на следующую седмицу. По круглому лицу Фани текли прозрачные слезы. Софи, которая обычно не испытывала при посещении церкви никаких чувств, тоже ощущала себя неожиданно затронутой и впечатленной словами отца Андрея.
– Он понял… Он почувствовал… – шептала Фаня.
– Чувствительно владыка говорит, хоть и годами молод, – шамкая беззубым ртом, подтвердила стоявшая рядом и опиравшаяся на клюку ветхая старушка. – Знала б, о чем сегодня говорить будет, палкой бы внука с невесткой в собор пригнала. А то ведь собачатся меж собой круглый год, ироды, покою в дому нету… Послушали бы, как их сам Бог друг другу поручил для введения в жизнь вечную, может, и просветлело бы в них чего…
– Он простил меня, – утирая слезы, с торжеством сказала Фаня уже на дороге в Светлозерье. – Я грешница во всем, а он – простил…
– Да ты не поняла. Мне показалось, что он, наоборот, себя винит… – задумчиво сказала Софи. – Что не оценил тебя когда-то, не увидел в тебе этого вот земного, от которого в вечность дорога идет. Не тебя, себя ему прощать…
– Ему себя прощать не надо. Это – наперекрест. А у Бога – обоим прощения молить, – спокойно и уверенно сказала Фаня. – Об этом Андрей и говорил сегодня.
– Ты права, – подумав, согласилась Софи. – Я ошиблась, а ты – права. Каждый прощает не себя, а другого. И это – благо. Именно об этом.
– Правду ли говорят, что вы, Софи, ребенка на тракте подобрали?
Машенька Опалинская тяжело опиралась на трость. То ли и вправду ей было трудно стоять, то ли все – от нервов. Разговоры с Софи оставались для нее нелегкими, это просто было заметить.
– И не говорите! – сквозь зубы отозвалась Софи. – Пожалела, называется, сиротку. А она все ноет и ноет. Я уж едва с ума не сошла… Как внизу, в зале стукнет что – так она сразу просыпается и орать…
– Да и дело ли, чтобы ребенок в трактире жил? – поддакнула Мария Ивановна, отводя глаза.
– А вы никак предложить мне что-то хотите, Машенька? – с надеждой ухватилась Софи.
– Д-да… Я вот что… Пусть бы она пока у нас, у меня пожила, пока с нею решится. Маленьких детей у нас в дому нету, а я… мне и не в тягость…
– Правда? – нешуточно обрадовалась Софи. – Да вы бы меня так обязали! Давайте я ее сама к вам хоть когда привезу!
– Не надо! – поспешно сказала Мария Ивановна. – Я, как комнату для девочки подготовят, так Неонилу в «Калифорнию» пришлю…
– Отлично! – улыбнулась Софи. – Прямо камень с души. Если вам и вправду не в тягость, пусть поживет у вас до отъезда…
«Отъезда – куда? – хотела было спросить Марья Ивановна. – Неужто Софи уж решила везти ненужного и даже явно неприятного ей ребенка – в Петербург? Из каких это интересов?»
Однако, вслух Машенька ничего не спросила. А не то вдруг взбалмошная Софи передумает и не отдаст девочку?
– Документов у тебя никаких нет, но тут Надя с Ипполитом обещали помочь, – сказала Софи, с удивлением и легкой насмешкой ловя обожающие взгляды, которые молчаливый Егорка кидал на собирающую на стол Фаня. – Билет на поезд мы тебе купим, и семь с полтиной от твоего имени в монастырь матушке перешлем, чтобы, если что, лишних разговоров и сложностей не было.
– Софья Павловна, голубушка! Богу за вас молить… – Фаня прикусила язык, сообразив, что Богу, как она его понимала, вряд ли нынче угодны ее молитвы. – Я отработаю! – твердо сказала она. – Все отработаю до копейки.
– Пустое, Фаня, – поморщилась Софи. – После разберем… Путешествовать тебе лучше всего монашкой. Якобы едешь в столицу милостыню на сибирский храм собирать, или еще чего-нибудь в этом роде придумаешь. К монашкам никто не цепляется. В Петербурге пойдешь вот по этому адресу. Я тебе письмо напишу, его передашь. Там – только не удивляйся – Варвара, остяка Алеши младшая дочь. Помнишь ее?
– Да как же мне Варварушку не помнить? – обрадовано воскликнула Фаня. – Умница, красавица на их склад, такие узоры рисовала, что глаз не оторвать… Чего ж она в Петербурге-то делает? Замуж пошла?
– Варвара живет одна и замуж не хочет, – объяснила Софи. – Содержит художественный салон. Ты там первое время побудешь, и, думаю, ко двору придешься. Помню, ты и в поповнах и крестом, и золотом вышивала изрядно…
– Мое шитье – в монастыре из лучших считалось, – с гордостью сказала Фаня. – Цесаревичу, как проезжал через Ирбит, от обители в подарок антиминс слали. Христос во гробе – моя работа…
– Ну, вот видишь. Не забудь Варваре про цесаревича сказать. Она из этого рекламу сделает…
– Чего сделает?! – удивилась и даже по виду испугалась Фаня.
– Да ничего, ничего, – успокоила ее Софи. – Просто расскажи, как есть, и все… В общем, я думаю, все устроится…
– Ничего не устроится! – вдруг разрыдалась Фаня и ничком повалилась на лежанку. Егорка испуганно вскочил, подбежал к лежащей женщине и гладил ее по голове и вздрагивающим плечам. – Грешна я!
– Господи, опять? – пожала плечами Софи. – Ну не довольно ли?
– Грешна я и грех мой на потомстве моем! – на евангельский манер выла Фаня.
– Окстись! Какое потомство? – с тревогой в голосе вопросила Софи. – Я что, еще не все знаю?
– Не все, матушка-благодетельница, ох, не все…
– Тогда утри нос и рассказывай! Егорка, дай ей вон утирку… И воды поднеси…
В монастырь Фаня попала беременной. Из-за особенностей семейной жизни молодой попадьи в отцовстве никаких сомнений не возникало – отцом будущего младенца мог быть только Карп Платонович Загоруев, егорьевский урядник и возлюбленный Фани. Две предыдущих, от отца Андрея, беременности Фани оканчивались неудачно – младенцы умирали почти сразу после рождения. Этот же, плод греховной связи попадьи и урядника, появился на свет прямо в келье – здоровым и крикливым. В качестве особой милости (и за изрядную мзду, заплаченную, как не удивительно, отцом Андреем) матушка разрешила Фане кормить и держать при себе младенца почти до года. Потом его навсегда разлучили с матерью и отдали на воспитание в крестьянскую семью, в одну из дальних деревень Ирбитского уезда. Перед сим актом Фаня написала умолительное письмо к своим батюшке и матушке, просила их приютить внука. Попадья Арина Антоновна была согласна всею душой, и готова была увидеть во внучке последний смысл своей жизни, но отец Михаил воспротивился категорически, и написал в ответ, что дочери у него больше нет, а священнику растить плод греховной связи – значит множить мировые скорби.
Сказать, что Фаня была в отчаянии, потеряв не только мир, но и долгожданного сына (которого нарекла, как и следовало ожидать, Карпушей), значит не сказать ничего. Несколько раз за эти годы она всеми правдами и неправдами добиралась до глухой деревни, где жил сыночек. Сначала Карпуша радовался ей, потом перестал узнавать, а последние два раза – убегал и, видимо, наученный своими воспитателями, кричал издалека: «Шлюха! Шлюха чернорясая! Убирайся, откуда пришла!»
В хозяйстве подросшего Карпушу использовали почти как раба. Он ходил в обносках, был худ, как щепка, всегда грязен. Постоянно получал от хозяев колотушки и затрещины. Впрочем, надо признать, что родные дети в этой семье видели не намного больше добра и ласки…
Мать-настоятельница прекрасно знала про все Фанины терзания и попытки увидеть сына.
– Забудь! – сказала она Фане. – Ты была женою и дочерью священника и согрешила. Теперь твой жребий – до конца жизни замаливать свой грех. И не вздумай бежать из обители. Сына тебе никогда не отдадут – я так распорядилась. Матерью такие, как ты, быть не могут. А ему сиротой горемычным жить – тоже расплата за твои грехи.
Рассказывая все это, Фаня непрерывно плакала. Егорка, глядя на нее, тоже заревел, размазывая слезы по грязным щекам.
– Так! – подытожила Софи, выслушав всю историю до конца. – Стало быть, ребенка придется красть, да потом еще и уговаривать, что его мать – не чудовище и не исчадие ада. Замечательно! Мало мне Людочки…
– Софья Павловна, наверное, не надо Карпушу оттуда забирать… – всхлипнув еще раз, но вполне внятно сказала Фаня. – Мать-настоятельница права: ребенок мой грех искупает. Я ведь долго глядела на него, как добиралась, издалека-то…
– И что же?
– Я думаю, что у него с головкой… Ну, вот как у Егорки, к примеру… Маленьким-то он как все был. А потом… Не разумеет он, чего ему по годам-то положено. Может, ударили когда по голове, или сам упал… Куда же его в город-то везти? Что он там?
– Угу, – сказала Софи. – Еще, значит, один, головкой скорбный…
Фаня снова тихо заплакала. Егорка обнял ее, прижал голову беглой монашки к своей груди.
– Я сам без матки, без отца вырос, – неожиданно сказал он. – Дюже плохо. Но у нас хоть Манька была, а потом Соня еду и игрушки давала…
– Фаня, а ты-то как? – спросила Софи, накручивая на палец локон.
– Да у меня-то, окромя Карпуши, и нет ничего в этом мире… Другого-то мне уж не родить… Я бы с ним в деревне жила…
– У меня в Петербурге была подруга, – задумчиво сказала Софи. – А у нее был мальчик, тоже… ну, не слишком здоровый. Но она его любила, как любого другого, и он ее любил… Тебе, Фаня, сейчас все одно уезжать надо. Карпуша тебя к себе не подпустит, да и воспитатели его предупреждены. А дальше… В общем, поглядим…
Егорка вздохнул.
– Я бы мог его к себе взять, скотину пасти, – сказал он.
– Скотину пасти он и у себя в деревне может, – резонно возразила Софи. – И… мы сегодня есть будем? Мне ехать пора…
Фаня утерлась и молча вернулась к прерванному делу: подавать на стол.
В которой Софи устраивает судьбу мальчика Карпуши и беседует с заинтересованными в нем людьми
– Ты знаешь, Вера, я тебе вот что сказать хочу: мне, пожалуй, твои связи среди охотников-самоедов и прочих в тайге все же понадобятся… – Софи смотрела прямо перед собой и решительно хмурила брови.
– На что же вам? – удивилась Вера. – С Григорием Павловичем вроде бы все по порядку обошлось…
– Дело не в Грише. Надо… ребенка одного из таежной деревни украсть.
– Ребенка?! – еще более поразилась Вера. – Неужели вам детей мало? Вы ж их не любите. Скажите спасибо, что Марья Ивановна Люду у себя приютила. А не то – что б вы с ней делали-то? Куда ж вам еще дети? Да к тому же – краденые?
– Ну… я не то, чтоб вообще всех детей не люблю, – нерешительно возразила Софи. – Мне вот, например, твоя Стеша очень нравится. И Матюша тоже…
– Нашли ребятенка! – рассмеялась Вера. – Матвей! Да он вас на полголовы выше и в плечах шире вдвое…
– Ну все равно. Тот мальчик, которого надо украсть, тоже не маленький. Ему… ему лет восемь должно быть…
– Да что ж за мальчик-то, объясни толком, Софья Павловна! – не выдержала Вера.
– Фани-монашки сын. От урядника Загоруева, – отрапортовала Софи. – Зовут – Карпуша. Живет в крестьянской семье. Фаню признавать не хочет. По непроверенным данным – слабый на голову.
– Ну и зачем он вам? Или – Фане? – резонно осведомилась Вера. – Пусть себе живет, где живет, раз так сложилось…
– Но ведь у Фани других-то детей нету, – объяснила Софи.
– Д-да, – промолвила Вера и почесала огромную башку подсунувшейся к ней собаки. – Украсть-то – не задача. А дальше-то с ним что делать?
– Ну, потом я его как-нибудь… приручу… – не слишком решительно предположила Софи. – У меня с Джонни опыт есть. А после… отвезу в Петербург и Фане отдам. Или в деревне же поселю. Она его хоть навещать сможет, когда захочет… Ну, ты ведь мне поможешь?
– Знаешь, Софья Павловна, – вдруг заметила Вера. – Это очень хорошо, что тебе никогда не доводилось, ну просто в голову не приходило, в какую-нибудь веру обращать. Ну хоть кого…
– Про тебя то же можно сказать! – тут же отпарировала Софи.
– Я в Господа нашего Иисуса Христа верую! – с достоинством заметила Вера.
– Ну конечно. В Христа. Разумеется, – сказала Софи и внезапно показала Вере язык. Верина псина удивленно пошевелила светлыми треугольными бровями и тоже вывалила пятнистый язык из огромной пасти. Вера засмеялась.
– Вас ведь Карп Платонович зовут? – Софи испытующе рассматривала грузного, высокого, сохраняющего остатки былой статности мужчину в темно-зеленом мундире с оранжевым кантом. Под ее взглядом он ежился и, казалось, сдерживал желание почесаться. – А я – Софья Павловна Безбородко, или Софи Домогатская, как меня здесь знают…
– Наслышан. Премного наслышан. Очень приятно, – сказал Карп Платонович и внимательно посмотрел на свои руки, словно раздумывал над тем, куда бы их приспособить.
– Это я уж не знаю, что вы наслышаны, и что вам приятно, – отрезала Софи. – Буду с вами прямо по делу говорить. У меня теперь на руках ваш сын и тезка, Карпуша…
– Что?! – Карп Платонович вскочил, машинально запустил руку под воротник и остервенело заскреб ногтями шею. – Что вы говорите такое, Софья Павловна?!
– То и говорю, что есть. Аграфена Боголюбская была вашей любовницей, забеременела и родила от вас сына. Теперь ему около восьми лет. Что вас в этом удивляет, позвольте узнать? Обыкновенное дело, уж я-то знаю…
– Но… как же… Почему же Фаня не сказала мне…
– А как она вам, позвольте, могла об этом сказать? Если отец Андрей сначала держал ее дома взаперти, а потом – отправил в монастырь? Вы хоть раз после пытались с ней встретиться, поговорить, узнать о ее судьбе?
– Но как же я мог… Я, признаюсь вам, когда все это случилось, пил несколько месяцев, как сапожник. Чуть службу не потерял… А потом, как в себя немного пришел… Узнал, что она стала монашкой… Что же я мог? Я… я же и думать не думал, что ребенок…
– Ну, многое могли бы, если б только захотели… Но это ладно. Давайте ко дню сегодняшнему вернемся. Фаня не в силах была больше в монастыре оставаться и сбежала оттуда…
– Где же она?! – раненой птицей вскричал Карп Платонович. Софи взглянула на него с удивлением.
– Уехала. Далеко. Здесь ей жить никак нельзя было. И мальчика с собой забрать она не могла. Он… ну, как бы это сказать… дикий, что ли. Похоже, никто никогда его воспитанием, и уж тем более образованием не занимался. Фаня считала, что он слабоумный. Я к нему теперь присмотрелась, и полагаю, что это не так. Физически Карпуша вполне здоров, и нуждается в каких-то педагогических, что ли, ухищрениях. Его можно, мне кажется, приручить, а после – и развить. Если, разумеется, кто-то за это возьмется… Что скажете, Карп Платонович…
Лицо мужчины прорезала гримаса настолько мучительная, что на одно короткое мгновение Софи даже сделалось его жалко. Нос Загоруева смешно двигался, и черные волоски, торчащие из ноздрей, шевелились от шумного дыхания. На толстой шее урядника багровели красные полосы, оставшиеся от ногтей.
– Я ведь женат, Софья Павловна… Более двадцати лет с женою прожили. Вся эта история… Шила в мешке не утаишь. Пока у нас с нею после всего наладилось… Трое ребятишек у нас… Две дочки и сын… И как же я этого дикого мальчика… Куда? Как?! Никак невозможно!
– Если я вас правильно поняла, вы от своего сына отказываетесь? – Софи поднялась и тоже раздула тонкие ноздри. Рядом с нелепым, изнывающим от нервной чесотки Загоруевым она казалась удивительно породистой.
«И что Фаня в нем нашла?» – удивленно подумала Софи.
– Софья Павловна… Поймите…
– Не трудитесь объяснять! Мне знать надо было. Не могу же я ребенка при живом, здоровом и вменяемом отце… Впрочем, это все уже не ваше дело…
– Что же вы с ним… что же вы с Карпушей теперь делать собираетесь? – тихо и покорно осведомился Загоруев.
– С кашей съем! – отчеканила Софи и вышла.
Карп Платонович, оставшись один, застонал. Потом расстегнул верхние пуговицы мундира и запустил руку за пазуху. Только в кровь разодрав кожу на груди, он слегка успокоился.
– Владыка в трактире! В этом есть что-то такое, знаете, даже юмористическое… – заметила Софи, пытаясь скрыть свое смущение.
Если бы не облачение и не висящий на груди владыческий крест, отец Андрей был бы ни капельки не похож на священника. В нем вовсе не было той округлой одутловатости физиономии и прочих частей, которая почему-то присуща почти всем православным попам. На его удлиненном, с длинной и узкой бородкой лице вполне естественно смотрелись очки и выражение образованного и много думающего человека.
– Что ж, и Христос входил не только в храмы, – усмехнулся священник в ответ на слова Софи. – Стало быть и нам, ничтожным, дозволено…
– Простите, – сказала Софи. – Вы, наверное, привыкли ко всем этим ритуалам, благословение и прочее. Я же не верующая, и потому…
– Поверьте, Софья Павловна, некоторое время я вполне могу обойтись без всяких ритуалов. Господь наш, уверяю вас, тоже легко бы без них обошелся. Ритуалы нужны пастве, чтобы суметь выразить свое душевное движение навстречу к Богу…
– Очень удачно, что мы оба можем сейчас без этого обойтись, – признала Софи. – Тогда могу ли я узнать, что вас ко мне привело? Кстати, Илья ждет за дверью, и велит подать, если вы захотите чего-нибудь отведать… или испить… Тьфу ты! Еще немного и начну от смущения говорить гекзаметром! Короче: отец Андрей, вы есть или пить хотите?
– Отвечаю коротко: спасибо, не хочу! – улыбнулся священник.
Софи поднялась со своего места, приоткрыла дверь и что-то сказала в полутьму коридора. Потом вернулась и села.
Владыка молчал.
– Вы знаете, – от непонимания ситуации Софи попыталась наладить светскую беседу. – Я тут намедни случайно слышала вашу проповедь о любви и браке… И вот, она мне прямо очень понравилась. Хотя вообще-то я совсем не любительница проповедей…
Отец Андрей открыто и хорошо засмеялся. Софи, не удержавшись, вторила ему.
– Я пришел говорить с вами о Карпуше, – отсмеявшись, сказал священник.
Софи выпрямилась струной и насторожилась.
– Откуда вы знаете?
– У священников свои источники информации, – улыбнулся отец Андрей. – Нам многое ведомо… Я знаю и о Фанином побеге, и о том, что мальчик сейчас находится у вас… Он… очень нехорош? Нездоров?
– Сейчас он уже перестал драться и кусаться, когда к нему подходят и приносят еду, – честно сказала Софи. – На той неделе впервые согласился сам вымыться и переодеться. До этого приходилось делать это насильно. Соня, дочка Веры Михайловой, утверждает, что мальчик вполне разумно разговаривает… правда, не с людьми, а с их собакой, с Баньши. С людьми он пока говорить отказывается. Баньши разрешает ему себя трогать, и ложится с ним рядом, а это, по словам Веры, многого стоит. Мне кажется, что ему просто нужно время, чтобы понять, что кругом него – не враги… Но я не понимаю: что вам до него, отец Андрей? Ведь Карпуша – сын Загоруева. Или вы сомневаетесь в этом?
– Нет, к сожалению, не сомневаюсь, – печально качнул головой священник. – Но тем не менее… Я хотел бы забрать мальчика, Софья Павловна…
– Забрать Карпушу?! – изумилась Софи. – Но почему?! Куда?
– Я обеспечу ему хороший уход и, по возможности, умственное развитие. Он не мой сын по крови, но вполне может стать моим духовным сыном. Ведь это ребенок моей жены (А Фаня по-прежнему моя жена, вы ведь знаете, что православная церковь не признает развода священника)… Когда мальчик будет к этому готов, я помещу его в Ишимскую обитель. Он станет послушником и будет…
– Отец Андрей! – Софи встала, прижала руки к груди, и теперь смотрела на священника сверху вниз по физическому положению. Ее собственные ощущения в этот миг были обратными. – Вы – удивительный человек. Я всегда буду радоваться, что встретила и узнала вас… Простите меня, но Карпушу я вам сейчас не отдам. Попробуйте это понять. Он – действительно ребенок Фани. Загоруев не имеет на него никаких прав. А Фаня – она вся здесь, вся – насквозь земная. И если есть хоть один шанс, что Карпуша может как-то образоваться и прижиться в этом мире, надо его использовать. Фанин единственный сын не должен быть монахом. Слишком многое, почти все, отобрала у нее эта ваша Церковь…
– Да, я понимаю вас, – тихо сказал отец Андрей.
– Я клянусь вам! – Софи подняла правую руку. – Я знаю, что церковь запрещает клятвы, но все равно… Если окажется, что Карпуша не может жить в миру, я сама привезу его назад, в Егорьевск, и отдам под ваше и вашего Бога милостивое покровительство. Верьте мне, я никогда не нарушаю своего слова…
– Я верю вам, Софья Павловна, и… спасибо вам за Фаню… Храни вас Бог!
Отец Андрей вышел из комнаты, а Софи буквально упала в кресло и вдруг поймала себя на том, что ей впервые в жизни захотелось поцеловать руку священника и попросить у него благословения… Сердце ее бешено колотилось, но не от испуга, а от возбуждения, как бывает в те немногие разы в жизни, когда человеку доведется соприкоснуться с чем-то, неизмеримо большим его самого…
В которой Лисенок сжигает портрет Марьи Ивановны, а Софи делает предложение Аглае
– Сестра, что ты делаешь?! Почему?! – подобно героям из романов Фенимора Купера, Волчонок отличался крайней невозмутимостью, и редко выглядел растерянным, но сейчас выдался именно этот случай.
Лисенок, в самоедских штанах и куртке, сидела на корточках возле небольшого костра и ворошила в нем палкой. Синие цветы печеночницы цвели повсюду на небольшой полянке. Дикие пчелы жужжали в цветущем кустарнике, собирая свои первые взятки. От ручья, спавшего после паводка, но еще не вернувшегося окончательно в берега, пахло болотной гнилью.
Волчонок наклонился, выхватил из костра обгорелый уголок картона. На нем еще виднелся остаток рисунка: светлый локон и мочка маленького уха.
– Это рисунок Сони? Который она сделала для тебя? Портрет Марьи Ивановны? Почему ты его сожгла?
Лисенок молчала.
Даже если бы она и захотела объяснить, то вряд ли сумела бы отыскать слова. Сожгла портрет… Особенного удовольствия от своего поступка она не получила. Сонины художества ей вообще не слишком нравились, а уж Машенька на портрете получилась и вовсе неживая – глаза выпученные, губы толстые, и волосы лежат совсем не так… Вот если бы тот портрет сжечь, который в тереме на стене висит – вот тогда точно был бы толк… Какой толк? Этого Лисенок не знала. В ее странной и сумрачной душе существовало желание что-то уничтожить. Саму Марью Ивановну? Да пожалуй, нет. Лисенок лучше других знала, что желать смерти – нельзя, потому что это выжигает душу самого желающего. Не хотела она Марье Ивановне смерти никогда, даже беды особой и то – не желала. Пусть живет, пусть ходит, постукивая тростью, по мощеному лиственничными плашками двору, пусть возится на приисках, с подрядами, обихаживает противного Шурку, обжигает Лисенка с Волчонком безлюбым, словно чего-то опасающимся взглядом… Пускай… Уничтожить хотелось что-то другое, как-то непонятно с Марьей Ивановной связанное. Что-то, что все еще принадлежало ей, но по праву должно было принадлежать Лисенку, Елизавете… Что это такое? Лисенок не могла сказать. Могла бы, наверное, сыграть, но ведь здесь, в кустах, нет рояля…
– Да мне портрет не понравился, – сказала она брату. – Непохоже. Но куда ж деть? Не выбрасывать же на помойку. Еще найдет кто, неловко. Вот я и…
– Вот, значит, как… Ну ладно…
Лисенок видела, что Волчонок не поверил ни одному ее слову. Но что она могла с этим поделать?
– Аглая, ты мне только честно скажи… – Софи подступила к старшей из сестер Златовратских с такой умилительной гримасой, что Аглая успела испугаться и отчаяться, еще не услышав вопроса.
Испуг был понятен: Аглая никогда и ни с кем не откровенничала, такой у нее был характер. Отчаяние же ее происходило оттого, что еще с юности она помнила: отвязаться от Софи Домогатской, которая твердо решила что-то разузнать, нет абсолютно никакой возможности.
– Так что ты хочешь, Софи? – обречено спросила Аглая.
– Ты ведь с Ильей Самсоновичем… ну, в общем, у вас – любовная связь… Это я не спрашиваю, это и так понятно. Спрашиваю другое: ты, Аглая – тоже бесплодна? Как Надя? Или у вас это как-то иначе устроено?
– Господи, Софи, ну зачем тебе знать?
– Надо, раз спрашиваю! – отрезала Софи. – Водилось за мною когда пустое любопытство?… Вот! И теперь не водится, мне своих и чужих тайн – вот покуда! – Софи резанула себя ребром ладони по горлу. – Скажи!
– Когда мы с Ильей только сошлись, я один раз плод вытравила, – призналась Аглая. – Илья тогда чуть ума не лишился. А потом… теперь мне Надя корешки специальные оставляет, я их завариваю, и пью по тем дням, как она велела… Больше ни разу не было…
– Понятно, – удовлетворенно сказала Софи. – То есть, в принципе ты и понести, и родить можешь…
– Да ты что, Софи! – изумленно воскликнула Аглая, забыв даже возмутиться бесцеремонным вторжением Софи в свою жизнь. – О чем ты говоришь?! В мои-то годы! И в моем положении…
– Кстати, о твоем положении, – как ни в чем не бывало, продолжала Софи. – Я тут, если честно, ничего не поняла. И Надя мне объяснить не сумела. Илья, как я понимаю, теперь не женат и прежде не женился. Ты – тоже свободна. Связи вашей уже Бог знает, сколько лет. Во всяком случае, я помню, что еще в мой прошлый приезд он на тебя заглядывался, забывал орешки жевать, и слюнями исходил. Да и нынче смотрит на тебя так сладко, что его взглядом булочки помадить можно… Не могу только разобрать: отчего же ты до сих пор не замужем?
– Да мне как-то никто не предлагал, – пожала плечами Аглая и отвернулась с выражением высокомерного презрения неизвестно к кому. Это выражение ее горбоносого лица Софи помнила прекрасно. Еще много лет назад она сформулировала для себя его суть: «Аглая защищается».
– Что?!! – вскричала Софи. – Ты хочешь сказать, что за все эти годы Илья ни разу не сделал тебе предложения?! Но почему?!!
Сказать по чести, Софи с самого начала ожидала резкой отповеди, а скорее – молчаливого и отчужденного ухода Аглаи из комнаты. Аглая Златовратская – не тот человек, который позволяет кому бы то ни было влезть к себе в душу. Даже Софи Домогатской с ее наглостью и недюжинным напором. Но уж слишком она была удивлена открывшимися обстоятельствами! Толстый трактирщик Илья, который зримо боготворит Аглаю Левонтьевну на протяжении многих лет, который следы ее в пыли целовать готов, так и не собрался предложить ей стать его женой?!
Однако, по-видимому, и у Аглаи многое наболело за эти годы. С Софи, которая была ей, в сущности, почти чужой, и сама лезла на рожон, говорить оказалось много проще, чем с родными.
– Я думаю, это происходит в основном потому, что он не решается предложить мне стать хозяйкой трактира, – подумав, с учительской основательностью сформулировала Аглая. – Ему кажется, что это совершенно не подходит к моему светлому образу, который он себе много лет назад придумал. Еще, если подумать, это может быть связано с тем, что Илья – еврей…
– Да причем тут трактир?! Национальность Ильи?! – едва ли не взвизгнула Софи. – Когда речь идет о вас, о вас обоих! Ты! Ты – любишь его?! Хочешь быть с ним?!
– По-моему, это очевидно из моих поступков… – с достоинством сказала Аглая, стараясь не обращать внимания на неприличную экзальтацию Софи, но не в силах не думать о том, что крики Домогатской, возможно, слышны по всей «Калифорнии».
Софи между тем вскочила с места и выбежала из комнаты. Аглая с недоумением и некоторым разочарованием смотрела ей вслед. Впрочем, – тут же сказала она себе. – Софи всегда невозможно было понять. Слишком быстро у нее все меняется в голове. Сначала пригласила к себе для разговора, потом заставила недопустимо откровенничать, после – вообще куда-то сбежала…
Софи же между тем спустилась по лестнице и выскочила в общую залу. Народу в ней было немного: трое приисковых рабочих вечеряли гречневой кашей со шкварками, еще двое устроились в углу со штофом и немудреной закуской. Метеоролог Штольц кушал пироги и что-то обсуждал с тщедушным чиновником, судя по мундиру, из почтового ведомства. Илья Самсонович сидел на возвышении за конторкой и что-то записывал в замасленной, толстой тетради. Софи подбежала к нему и схватила за рукав:
– Илья! Пойдемте со мною! Сейчас!
– Что? Что случилось, Софья Павловна?! – испугался трактирщик.
– Ничего! Но скоро случится, коли вы теперь не пойдете! Мне вас сейчас же говорить надо!
– Но… но я не могу… у меня тут деньги, люди… Я…
– Оставьте! Деньги… водка… каша… Это чепуха все, я вам говорю! Пойдемте!
Илья Самсонович был как бы не в два раза тяжелее Софи по живому весу, но она уверенно тащила его за собой сначала из-за стойки, а потом – вверх по лестнице. Трактирщик смущенно улыбался и оглядывался по сторонам, а сидящие в зале с любопытством наблюдали за происходящим.
– Вот! – Софи за руку втащила Илью в просторную комнату, которую она занимала в «Калифорнии», и захлопнула дверь. – Вот – Аглая! Скажите, Илья, вы ее любите?
– Софья Павловна! Софи, почему вы спрашиваете? Что случилось?
– Вы ее любите?!! – рявкнула Софи.
– Да, – твердо ответил Илья.
– Вы хотите, чтобы она стала вашей женой?
– Софья Павловна, вы не должны мешаться, и ставить Аглаю Левонтьевну в такое положение… – пробормотал, краснея, Илья. – Я, ничтожный, не смею, и вам не следует насильно…
– Молчите! – Софи зажала уши руками и затрясла головой. Илья послушно замолчал и, не решаясь взглянуть на Аглаю, только все более наливался свекольным цветом. Глаза Софи сделались просто угрожающе огромными. «Как у зверька лемура из книжки Брэма», – успела подумать образованная Аглая.
– Аглая, я тебе теперь за него, за этого старого идиота еврейского делаю предложение! Скажи сейчас, ты согласна ли на все, что у него есть?! Его толстое брюхо, и лысина, и трактир, и лавки, и деньги, и еврейство, и «Шир Гаширим», на коленях для тебя читанный, и его собачья любовь к тебе на протяжении двадцати лет?!
И без того низкий и звучный, в этот миг голос Софи звучал так, что, по всей видимости, ее «предложение» слышали без исключения все, находящиеся в тот момент в «Калифорнии» и, может быть, даже кое-кто из проходящих мимо по улице. Но собравшимся в комнате не было до этого никакого дела. На глазах Ильи выступили слезы. Аглая судорожно комкала кисти платка.
– Ты согласна?!! – бешено тараща лемуровские глаза, заорала Софи.
– Да, – сказала Аглая.
Илья зажмурился и стиснул кулаки так, что ногти глубоко вонзились в пухлые ладони и потекла кровь.
– А ты, Илья?
– Я и мечтать не мог…
– Ты согласен?!
– Да! Да! Да!
– Объявляю вас мужем и женой! – тихо сказала Софи, потом не слишком уверенно сделала два шага, упала на кровать и истерически расхохоталась. Смех ее быстро перешел в какое-то подобие плача. Аглая подбежала к Софи, склонилась над ней и увидела, что женщину бьет нервная дрожь.
– Илья, дай воды! – крикнула Аглая.
– Много всего… в моей жизни… было, – сообщила Софи, лязгая зубами о край стакана. – Но вот попом… быть еще не доводилось…
По лицам склонившихся над Софи мужчины и женщины текли пробегающие над улыбками слезы.
– Убирайтесь отсюда, – велела Софи. – Идите к отцу Андрею. Договоритесь там… И, Аглая, слушай меня… чтоб никаких больше корешков… чтобы к следующей весне родили кучерявенького… Дольше Каденька не протянет…
Когда Аглая и Илья, взявшись за руки, словно дети, которые боятся потерять друг друга в темноте, вышли из комнаты, Софи Домогатская уже спала.
В которой лорд Александер изучает русские народные приметы и нанимает камердинера, а Николаша Полушкин переживает жестокое разочарование
– Представьте себе, я только что видел белую сову, – объявил лорд Александер, входя в комнату, которая всем троим служила гостиной.
Мистер Барнеби глянул на него искоса, почти не пытаясь скрыть раздражения. Он сидел за столом, перед чашкой грубого фаянса, наполненной непонятного цвета и консистенции жидкостью, которую аборигены искренне, кажется, принимали за кофе, – и страдал. Нет, он отнюдь не был неженкой. В Паталипутре, например, вполне хладнокровно воспринимал наличие в постели скорпиона. Но туда и «Таймс» приходил лишь с небольшой задержкой! А здесь нормальных газет просто не было по определению. Только – местные, со славянскими иероглифами. Воздух, даже при закрытых дверях и окнах – липкий от вони испорченной капусты, которую местные называли «квашеной» и жадно поглощали при каждом удобном случае. Отвращение к сему национальному продукту было единственным чувством, которое с ним разделял лорд Александер.
Поглядев на него сейчас, мистер Барнеби с удовлетворением подумал, что не ошибся, еще в молодости раз навсегда отдав предпочтение вигам. Вот вам – пример выродившейся аристократии: устроил себе (и партнерам!) экстремальное путешествие и веселится как дитя, вместо того, чтобы делать дело.
– Она белая, как слежавшаяся вата. Сидела вон там на ветке, – лорд Александер махнул рукой в сторону окна, – потом улетела. Их, что же, много в этой… как называется… в тайге? Или это дух умершего? Дурная примета? Кто-нибудь из нас отправится в мир иной?
Он засмеялся, на ходу подхватил со стола кофейную чашку, глотнул, даже не поморщившись.
– Точно, – лениво отозвался Майкл Сазонофф из угла, где он полулежал в кресле между двумя толстыми волосатыми пальмами, развернув перед собой газету (в отличие от мистера Барнеби, местные иероглифы он разбирал прекрасно), – конкуренты отравят. Этот Козлов, например: видали, как смотрел вчера? Из самых зубов ведь концессию выхватили…
– Так отчего ж он не поехал в Петербург и не договорился с князем? – лорд Александер пожал плечами. – Они, что, не знали, чьи это земли?
– Отчего же не знали? Сибирские, – Сазонофф неторопливо сложил газету. – Местным промышленникам, понимаете, очень непросто уяснить, что хозяином казенных земель вдруг может оказаться какой-то столичный престарелый щеголь. И что бумага, подписанная его закорючкой – и есть то самое, чего им нужно было добиваться…
– Ладно, – сварливо прервал мистер Барнеби, – как я понимаю, наши дела здесь закончены. Возвратимся ли мы домой? Или опять поедем в этот… как его – в Егорьевск? Вы по-прежнему склонны верить карте этого польского индуса?
– Разумеется, – категорическим тоном отвечал лорд Александер, допивая кофе. – Такая романтическая история не простит, если мы в нее не поверим! Как эта белая сова…
– И егорьевцы не простят, – усмехнувшись, заметил Сазонофф.
– Именно! К нам теперь обращены все их чаяния. Дадим ли мы новую жизнь их исчерпанным приискам? И чьим? О, там теперь кипят такие страсти…
Лорд Александер качнул головой, вспоминая двух женщин, которые сейчас – он знал – ревниво ожидают, с какой из них он предпочтет иметь дело. И правда – с какой?
Та, что с желтыми рысьими глазами, конечно, интереснее. Эдакая герцогиня Мальборо ишимского разлива. Наверняка спит и видит вытянуть из него деньги на переоборудование приисков, а потом обвести вокруг пальца. Интересно, порет ли она собственноручно розгами своих рабочих? Кстати, где это у них принято делать? В хлеву или в дровяном сарае…
В хромоножке, однако, тоже что-то есть. Нечто диккенсовское! Или достоевское – имеется у русских такой писатель, весьма похож на Диккенса, только там, где у старины Чарльза теплый огонь камина, у этого – завывания ветра в голых холмах. Так вот, хромоножка, похоже, поставила на кон едва ли не свою бессмертную душу. Если он выберет не ее – сломается или… может, герцогиню Мальборо пристрелит?
Лорд Александер так серьезно размышлял о том, с кем в Егорьевске иметь дело, как будто это дело и впрямь должно было состояться. Хотя – почему бы нет? Он представил, как вытянется физиономия барона Голденвейзера, когда тот узнает, что горное оборудование уже куплено – на его драгоценные денежки – и отправлено в Ишим! Конечно, воображать себе золотые россыпи под болотной тиной – это одно, и совсем другое – действительно, следуя указаниям авантюристической карты, пытаться извлечь золото оттуда, где его ни за что не может быть.
Нет уж. Не станем доводить барона до коронарных спазмов. Развлечений и так хватает с избытком.
Да уж, развлечений хватало. Об этом думал и мистер Барнеби, мрачно глядя на лорда Александера. Мало этой так называемой гостиницы, в которой, правда, нет скорпионов, но зато представлена целая коллекция других насекомых, как то: мокрицы, древесные жучки, кровососы, обитающие за обоями и в матрацах, а главное – тараканы, сонмы тараканов самых разных цветов, размеров и конфигураций! Мало сшибающего с ног ветра, о котором лорд самоуверенно заявил, что это – «баргузин» и дует с озера Байкал (то, что до этого озера добрая сотня миль – неважно, такие уж тут у них, в Сибири, масштабы). Мало злобных взглядов алтайских «промышленников», которые наверняка уже подготовили им засаду на дороге.
Нет – лорда понесло еще на экскурсию в горы. Не прощу себе, сказал, если уеду отсюда, не повидав, как тает утренняя роса на здешних альпийских лугах. Каково?!
Сазонофф, разумеется, его поддержал. Тоже любитель острых ощущений – покруче лорда. Мистер Барнеби ни в коем случае ехать не хотел… но, представив себе три дня в гостинице – лицом к лицу с тараканами и «промышленниками», – выбрал, как ему казалось, меньшее зло.
Альпийские луга были затянуты подтаявшим снегом, из-под которого кое-где вылезала колючая травка. Никаких дорог или хоть звериных тропинок, доступных глазу, не наблюдалось. Любой камень, на который ступала нога, тут же возмущенно из-под нее выворачивался. Скуластый мальчишка-проводник, чумазый до изумления, весь день тоскливо подвывал: приглашал волков на ночной пир, как решил мистер Барнеби. Сазонофф же и лорд Александер почему-то полагали, что он так поет. Обширные дали, открывавшиеся с высот, неумолимо демонстрировали, что этот Алтай раз в несколько больше Йоркшира, да, пожалуй, и Нортумберленда. Первую ночь провели под открытым небом (это в снегу-то!). Сазонофф с лордом сидели у костра и радовались жизни. Мистер Барнеби слышал, как они тихо разговаривают.
– Я много раз мечтал бросить все и начать с чистого листа, – это лорд. – Теперь мне совестно. Я швырялся драгоценностями, которым не знал цены.
– Да уж, вы такой народ, – Сазонофф – с усмешкой, – если чему-то узнали цену – все, ни за что не упустите.
– Конечно, – лорд Александер повернул голову, и рыжий отсвет костра охватил его меланхолический профиль. – Разбивать вазы эпохи Тан объявленной стоимости – это, безусловно, ваша национальная забава.
Мистер Барнеби морщился: он не любил бессмысленных бесед, ложной многозначительности, которой была наполнена эта ночь с ее мигающими звездами и сырым ветреным пространством. Отталкиваясь от скал, ветер перемешивал острую свежесть, пахнущую дымом, влажной землей и овечьим навозом. Эти запахи – не самые приятные на свете! – показались благоуханием, когда на другой день пришлось посетить войлочное жилище местного кочевника (откажись – и кочевник, того гляди, обиделся бы и объявил вендетту, известно ведь, какие у дикарей извращенные понятия о гостеприимстве!). Лорд Александер, жалобно косясь в сторону, дегустировал питье из протухшего молока, которое Сазонофф пил с откровенным удовольствием (да он и капусту эту ел и вообще был в здешних чудовищных краях вполне на месте!). Потом еще около часа двигались руслом горной речки, по щиколотку в ледяной воде, подгоняемые судорожным течением, потом едва не подверглись нападению каких-то диких копытных с устрашающими рогами… Словом, когда мистер Барнеби вернулся в гостиницу, тараканы уже казались ему почти родней. Лорд же Александер был в восторге и тут же начал строить планы новых походов.
– Ну, нет, – заявил мистер Барнеби, – в этот ваш Егорьевск я, быть может, еще и поеду. Но в горы…
Широкоплечий и коренастый гостиничный лакей, накрывавший на стол к обеду, невесть почему взглянул на говорившего с выражением дремучего смятения на бородатой физиономии, оступился и уронил прибор. Мистер Барнеби невольно подался в сторону. Мужик, пробормотав что-то невразумительное, торопливо наклонился – Сазонофф опередил его и поднял с пола столовый нож.
– Гость явится, – сообщил он, зачем-то показав нож мистеру Барнеби, – мужчина.
– О, – тут же обрадовался лорд Александер, – народная примета?
Сазонофф ответил невозмутимой усмешкой, сделавшей его лицо в шрамах еще более уродливым.
Гость и в самом деле явился – часа через два, когда невозможный русский обед, рассчитанный самое меньшее на десятерых, был по мере сил съеден и мистер Барнеби мирно задремал у окна, над справочником по континентальному праву. Майкл Сазонофф погрузился в газету, лорд Александер – в созерцание собственных ногтей и сокрушенные раздумья о том, не слишком ли опрометчиво поступил, явив милосердие и позволив камердинеру, шокированному российскими впечатлениями, остаться в Петербурге. Пожалуй, слишком! – вздохнул он; в это время дверь приоткрылась, и давешний лакей, заслонивши просвет своими широченными плечами, принялся махать рукой и стыдливо гримасничать.
– Майкл, наш Голиаф жаждет общения, – обернулся лорд Александер к компаньону. Тот, морщась, кинул на пол газету.
– Со мной?
– Ну, не со мной же. Я, конечно, знаю русский язык… Сегодня еще пополнил свой лексикон, – он щелкнул пальцами, сосредоточенно выговаривая:
– Лешак тебья раздерьи!.. Восхитительно. Но для беседы маловато.
– Раз жаждет, поговорим, – Сазонофф поднялся и сделал повелительный жест. Они с вошедшим лакеем были примерно одинаковых габаритов, но тот старался съежиться и оттого выглядел еще огромнее.
Такую беду Крошечка Влас за собой давно знал. В малую горницу и не войди: разом для воздуха места не станет. И все время думай, как бы кого ненароком не покалечить. Неловко перед людьми, право слово. К этому англичанину с порезанным лицом, сноровисто говорившему по-русски, он сразу почувствовал что-то вроде уважительной зависти: тоже – орясина, а не тушуется. Хозяин! Крошечка с любопытством приглядывался к нему и его занятным спутникам. А уж когда в их мяукающем лопотанье прозвучало: «Егорьевск»!..
Вот уж третий год Крошечка жил отдельной жизнью. Совсем тихо: сперва со старательской артелью, ковырявшейся на брошенных приисках, теперь – при проезжем дворе. Ни с кем не сходился; даже солдатка Анфиса, к которой иногда заглядывал для телесного утешения, сразу поняла, что тут никаких обещаний быть не может, и не приставала. О прежних товарищах вспоминал иногда – с острым сожалением: добрые ведь люди-то, «каменщики», и хорошего хотели, да все у них почему-то не путем вышло… Хотя жили вроде бы и ладно, общиной, никому не кланялись, вели хозяйство… Признавали старшого, брата Григория, из беглых. Вроде как был политический, за народ – ну, понятное дело! – но Крошечка увидел как-то его спину, разрисованную причудливыми татуировками, и слегка усомнился. Хотя ведь кто его знает, может, и впрямь за народ… Во всяком случае, вреда от «каменщиков», по разумению Крошечки, никто не видел. А что налогов в казну не платили, и жили по своему разумению – так то разве грех? Разве человек не свободным в этот мир приходит, разве все перед Господом не равны? Так и брат Григорий объяснял, а Крошечка Влас ему верил, да и вправду в общине все поровну было – и еда, и оружие, и прочие припасы. А уж какая красота-то вокруг, в Алтайских горах…
«Каменщики» все были, как на подбор, мужики отважные и неустрашимые, хотя и загрубелые слегка (кто-то бы даже сказал «бесчувственные», но Крошечке-то и сравнивать особо не с кем), умели метко стрелять и прекрасно ориентировались в лесу. Когда пришли казаки с винтовками, обороняли свою волю до последнего. Все и полегли. Крошечка, раненный тяжело (казаки, видать, сочли убитым), когда отлежался в пещерке и пришел, шатаясь, на место, где было селение (уж, почитай, две недели прошло, и дожди были), так там все еще кровью пахло…
Теперь же, стоя перед англичанином (да какой он англичанин. Русак, по всей повадке видно!), Крошечка пытался подобрать слова так, чтобы тот сразу все понял и много говорить не понадобилось:
– Я… это… господин хороший… в Егорьевск-то… – понял, что взялся за безнадежное дело, и затих, тяжело краснея.
Но русский англичанин, видать, в словах и не нуждался: прозревал мысли! Крошечка сразу так решил, когда, к изумлению своему, услышал:
– Хочешь с нами в Егорьевск ехать? Кто у тебя там?
Он покраснел еще гуще и брякнул:
– Невеста.
Тут же стало так совестно, хоть вон беги. Слово такое – особенное, заветное – взял и кинул спроста, как разменную деньгу! А главное – получается, что Маньку обязал. Какая она невеста? Восемь лет прошло! Небось, уж и замужем, и дети… А он явится с англичанами: невеста!
Господин Сазонов (вот и прозвание русское – понятно, что наш!) обернулся к своему длиннолицему товарищу в смешных круглых очочках, который расположился в кресле, вытянув ноги через всю горницу, и начал ему объяснять на этом их чудном языке – то ли по-кошачьи, то ли по-соловьиному. Длиннолицый расхохотался, взмахнул рукой, ответил что-то протяжно и весело. Сазонов, хмыкнув, окинул Власа с ног до головы долгим оценивающим взглядом. Снова непонятный разговор; и – по-русски, как о деле решенном:
– Пойдешь камердинером к милорду.
Крошечка попятился, моргая. Открыл было рот, чтобы спросить: как? что?.. – но Сазонов, со своей кривой усмешкой, показал ему на дверь:
– Ступай покамест. Будешь нужен – позовут.
Так ничего и не спросив и не поняв, Крошечка очутился в коридоре. Потоптался возле двери, соображая, что ж теперь делать. И услышал с лестницы:
– Так как, братец? Что там сэры? Изволят принять?
Вот ведь напасть! Стучался-то к англичанам не ради себя, а чтобы доложить о госте. И – забыл!
– Дубина, – обронил гость почти ласково, поднимаясь по скрипучим ступенькам.
Гость был прекрасно одетый господин средних лет (можно бы сказать: столичного вида, но Крошечка, никогда не бывши в столицах, такого слова не употреблял) с приятным лицом – из тех, по которым взгляд скользит, ни за что не цепляясь, как по ровной стенке.
Прежде, чем Крошечка успел что-то сказать или сделать, он дважды стукнул в дверь, тут же отворил ее и вошел.
В гостиной его, разумеется, не ждали. Мистер Барнеби продолжал сладко дремать, лорд же Александер и Майкл Сазонофф вели разговор:
– Ну, и на что вам этот зверообразный субъект? Как вы с ним объясняться станете? На пальцах?
– Вы не понимаете, – милорд казался чрезвычайно довольным, только что не мурлыкал. – Это еще один штрих… надеюсь, не завершающий, конечно. Приключение! Нет, вы не поймете. Конечно, вы испытали куда больше, чем я, но, как бы сказать: вынужденно. А я…
– А вы – от скуки, – договорил Сазонофф. Без всякого осуждения или насмешки, просто – констатировал факт. Лорд Александер кротко кивнул, соглашаясь. В этот момент и раздался стук в дверь.
Джентльмены обернулись, несколько удивленно глядя на явившегося господина. Тот сделал изящный жест рукой с зажатой в пальцах визитной карточкой:
– Великодушно прошу извинить. Э… – сообразив, что его не понимают, учтиво обратился к мистеру Сазонофф. – Вы ведь по-русски говорите?
– Кой-как кумекаем, – физиономия огромного англичанина была в высшей степени неприятна, взгляд – пристален и тяжел. На гостя, впрочем, это не произвело впечатления:
– Очень замечательно-с. Тогда позвольте представиться: Николаев Иван Федорович, подвизаюсь в газете «Восточное обозрение». Разъездным корреспондентом-с. Вот, ежели угодно, карточка…
– Только корреспондентов нам и не хватало, – усмехнулся Сазонофф; лорд Александер, вытянув длинную руку, слегка шевельнул пальцами: мол, дайте-ка. И, получив карточку, принялся изучать, вертя перед собой и недоуменно вглядываясь в славянскую вязь. – Особливо разъездных. Чем обязаны?
– Как же! Вы ж в наших палестинах эдакий фурор произвели-с. Моя первейшая обязанность разъяснить читателям… – г-н Николаев говорил плавно и даже неторопливо, но с явным намерением перехватить инициативу. Однако уже и сам понимал, что это – никак не возможно.
– Oh! Scribbler, I understand at last, – воскликнул лорд Александер, радуясь собственной догадливости. – Scribblers are everywhere.
– Not a scribbler. A spy, – кратко заметил Сазонофф. Милорд, нисколько не удивившись, кивнул:
– Certainly.
– Так ваши читатели Британскими островами интересуются? Что ж им станете разъяснять? Климат? Политическое устройство? Быт и нравы?
– Я полностью понимаю, – разъездной корреспондент, оставив жеманство, прижал ладонь к лацкану, – что ворвался не предупредив, вне правил и прочее. Но я как раз и послал к вам лакея доложить! А он, дубина… Впрочем, это теперь уж несущественно. Газета наша, позвольте заметить – самый солидный печатный орган от Томска до Благовещенска. Читатели, соответственно, тоже солидные люди. Судьба кабинетских земель им весьма даже небезразлична!
– А что кабинетские земли? – Сазонофф, с чуть более миролюбивым видом, наклонил голову. – Розданы в концессию, вот и вся новость. Да уж и не новость, поди.
– И вам в том числе?
– В том числе и нам.
– Но позвольте, – г-н Николаев сделал шаг к англичанам, по его красивому гладкому лицу пробежала быстрая рябь. – Известно, что права на предоставление концессий переданы государем некоторым доверенным лицам, без участия коих… – он запнулся.
– А кто вам сказал, что – без участия?
– Прошу меня простить, – корреспондент дернул губами. Судьба алтайских концессий очевидно принималась им уж слишком близко к сердцу. Сазонофф же, наоборот, с каждой минутой становился все добродушнее. – Судя по тому, что… о чем говорят в обществе, вы, господа, должны были получить документы от князя Мещерского, а он известен как безусловный патриот, и…
– И?.. Что ж вы замолчали? Не бойтесь, говорите прямо: милорд по-русски не понимает, а я стерплю. Жалко российские земли отдавать басурманам? Думаете, разорим?
– Ну, я бы не стал выражаться так резко…
– Господь с вами, выражайтесь как угодно.
– Да дело не в этом! В конце концов, я тоже за содружество наций… Но, господа… джентльмены: уверены ли вы, что сделка совершена? Не выдаете ли, как бы сказать, желаемое за действительное?
На сей вздорный вопрос Сазонофф не стал и отвечать. Только изобразил на лице легкое недоумение.
– Хорошо! – корреспондент махнул рукой, демонстрируя, что идет ва-банк и открывает все карты. – Можете казнить меня, как хотите… Только я считаю, что должна быть справедливость, и на том стою. Наши сибиряки – уж кто больше них достоин – не буду называть имен… Коли они сочтут, что дело сделано, и отступятся – а дело-то… Разве ж так справедливо?
– Вон что, – Сазонофф, будто только сейчас догадавшись, покивал головой. – Вы, значит, беспокоитесь, что мы княжеской подписи где надо не предъявили?.. – обернувшись, к лорду Александеру, в кратких словах разъяснил ему ситуацию. Лорд сказал:
– Exellent, – и, лениво поднявшись, удалился в соседнюю комнату.
– Небось, и сами желаете поглядеть?
Иван Федорович Николаев кивнул быстрее, чем собирался, и потому, прежде чем ответить словами, заставил себя сделать паузу.
– Хотел бы.
– Это запросто.
Больше он ничего не сказал, и корреспондент молчал тоже, напряженно глядя на дверь, закрывшуюся за лордом Александером. В окне, за зимними рамами, громко жужжала проснувшаяся муха. Мистер Барнеби, в отличие от нее, никак не просыпался, только благостно вздохнул и слегка переменил позу.
– Well, – объявил милорд, входя. В руке у него была развернутая бумага, на которой г-н Николаев еще издали разглядел ровные, писарским почерком выведенные строчки, и внизу – изящную, будто кружево, подпись и печать. Он стремительно шагнул вперед, лорд Александер столь же стремительно отступил, слегка приподнял руку с документом:
– You may look. But don’t touch!
– Трогать не надо, – перевел Сазонофф, невозмутимой скалою возвышаясь между корреспондентом и милордом.
– Д-да… да, – пробормотал Николаев. Он никак не мог оторвать глаз от кружевной подписи. Джентльмены, не изменяя британской вежливости, молча ждали, когда он насмотрится.
– …Недопустимое мальчишество!
Мистер Барнеби, сжимая обеими руками справочник по континентальному праву, переводил возмущенный взгляд с лорда Александера на мистера Сазонофф и обратно.
– Я был готов вмешаться. Нарочно притворялся спящим, чтобы сохранить элемент неожиданности. Вот эта книга, – он потряс справочником, – неплохое метательное оружие. Но у него-то вполне мог быть в кармане револьвер!
– Не мог быть, – поправил Сазонофф, – а был.
– Совершенно верно, – вздохнув, подтвердил милорд, – «Смит и Вессон», судя по очертаниям.
Мистер Барнеби расширил глаза и прижался к спинке кресла. Руки его дрогнули, тяжелая книга грохнулась на пол.
– Но тогда как же… тогда выходит, они нас отсюда не выпустят! Здесь же нет никакого правосудия! Просто догонят в пути, и…
– Я его определенно где-то видел, – пробормотал лорд Александер, задумчиво глядя в окно. Мухи уже там не было: нашла выход и улетела в форточку. – Вот где? В поезде? Где-то здесь? Или в Петербурге?.. Эдакая не запоминающаяся физиономия… но у меня хорошая память на лица. Я обязательно вспомню.
Выйдя из гостиницы, разъездной корреспондент «Восточного обозрения» Иван Федорович Николаев завернул в ближайший трактир, сел в углу за отдельный стол и, щелчком пальцев подозвав полового, спросил водки.
– Не держим-с, – осанистый, мордатый малый посмотрел на него сверху вниз, вроде как почтительно, а на самом деле – нагло.
– Какого черта! У вас трактир или что?
– Чайная-с, – самодовольно уточнил половой, – алкогольных напитков не подаем-с. Легкое вино в самом крайнем случае: рейнвейн, мозель… настоечка на алтайских травах-с…
Корреспондент собрался уже рявкнуть, но уловил в последних словах мордатого нечто многозначительное и, дергая губами, молча выложил на стол ассигнацию. В следующий миг она исчезла – как и не было.
– Для особенных клиентов-с… – мурлыкнул половой и скрылся. Спустя недолгое время г-ну Николаеву был подан вместительный фаянсовый чайник с обитым жестью носиком. Пар от чайника не шел, зато шел запах – целебных алтайских травок, настоянных на чистой сорокаградусной… Спустя, наверно, полчаса, заедая золотистую жидкость селедкой и баранками, Иван Иванович Николаев уже мог, не задыхаясь, вспоминать о том, что произошло в гостинице.
Нет, он, конечно, не успокоился. Просто убийственное разочарование сменилось злобой, которая горела ровно и не лишала рассудка. Злобой не против англичан. Что англичане – дерьмо, с ними все ясно. Вот он…
– Кинул, – бормотал корреспондент, тупо разглядывая веточки и цветочки на круглом боку чайника, – кинул, как щенка. Одно-единственное у него попросил – и то… «Езжай, милый, – передразнил, кривя губы от ненависти, – вернешься, все подпишу». А эти уж по магистрали ехали с бумагой в кармане! П-папаша. Слизняк, старый педер…
Тут он осекся, испугавшись, не слишком ли повысил голос. Поглядел по сторонам. Никто не обращал на него внимания. Сибирские валенки, рассевшись за столами, мирно пили чай (видать, обычный, без травок). Корреспондент перевел дыхание. Велел себе: забудь! Не навсегда, конечно. Придет время, сочтешься. А пока… Пока надо придумать, как действовать в изменившихся обстоятельствах.
И он начал думать, навалившись на стол и стиснув ладонями голову.
В которой Софи нелицеприятно беседует с инженером Измайловым, и вместе с Сержем Дубравиным вспоминает о прошлом и анализирует настоящее
В те редкие периоды, когда Софи Домогатской было нечего делать, она развлекалась тем, что придумывала дела для всех окружавших ее людей.
Никаких особых занятий в Егорьевске после побега Гриши у нее, понятное дело, не было. Отъезд же в Петербург задерживали два обстоятельства.
Первое: Карпуша.
С ним много занимались и разговаривали сама Софи, Соня, Вера, Стеша, Матюша, инженер Измайлов и собака Баньши. Прогресс был очевиден для всех. Под влиянием доброжелательного, спокойного общения и хорошего ухода мальчик постепенно становился все более вменяемым. Он уже больше не дрался, не кусался, не пытался убежать и не прятался под кровать, когда кто-то входил в комнату, спокойно принимал пищу и гигиенические процедуры, выражал свои просьбы простыми словами и даже иногда отвечал на элементарные вопросы. Исключая Баньши, лучше всех справлялась с ним Соня. Но поездка с ним в Тавду, а потом – на поезде в Петербург все равно представлялась все еще сомнительной.
Вторым обстоятельством были загадочные англичане.
Их грядущий приезд, намерения и дела постепенно обросли вполне легендарными слухами и подробностями. Например, рассказывали, что каждый из трех англичан, уезжая из Англии в Сибирь, поклялся привезти обратно в качестве трофея голову медведя, так как на Британских островах медведей давно извели. И теперь Петр Иванович Гордеев присматривает им места для охоты. В связи с этим несомненной опасности подвергался Хозяин – самый старый и известный медведь приишимских мест, тоже по-своему живая легенда. Про Хозяина рассказывали, что он понимает человеческий язык, умеет открывать задвижки, консервы и разряжать оставленное в зимовье ружье. Хозяин отличался любопытством к людям и их делам, и его часто видели на окраинах деревень, около зимовий и охотничьих избушек. При встрече с Хозяином в тайге следовало не бежать или, тем более, тащить ружье, а присесть на пенек и откупаться от него чем-то вкусным, а также интересной байкой. Существовало поверье, что байки Хозяин предпочитает – похабные. В конце июня, накануне предполагаемого возвращения заморских гостей, делегация рабочих ходила к Петру Ивановичу в контору и просила Хозяина на потеху англичанам не убивать. Петр Иванович визиту удивился, но категорически обещал старого медведя не трогать.
Вера Михайлова тоже как-то по-своему готовилась к приезду англичан. Софи ее особенно не расспрашивала, но видела, что бывшая горничная отчего-то нервничает. Ваня Притыков уехал на Алтай и не подавал о себе вестей. Вася Полушкин ходил темнее тучи. Машенька Опалинская зачастила к Златовратским и подолгу о чем-то беседовала с Левонтием Макаровичем, с которым до того на протяжении многих лет едва ли сказала два десятка слов. Вера, напротив, Златовратских посещать перестала, опасаясь столкнуться там с Марьей Ивановной. Златовратский страдал и разрывался между какими-то таинственными делами с Машенькой и желанием видеть Веру и говорить с ней о латыни, о римской истории и еще Бог знает о чем. Трактирщик Илья Самсонович лоснился от радости и счастья, готовился к свадьбе, но от дел, как ожидали, не отошел, и тоже как будто что-то новое в своих владениях планировал. Митя Опалинский окончательно замкнулся в себе, часто оставался ночевать в конторе или на лесной заимке с «грачами».
В общем, ситуация казалась определенно чем-то чреватой. Рабочий люд, разумеется, чувствовал волнение «хозяев», и тоже, как обычно, начинал волноваться. Кто-то даже пытался распустить слух, что англичане, дескать, все у нас купят, и своих рабочих из Англии привезут, но пустобреха тут же высмеяли свои же. Чтобы кто-то, пусть даже свой брат рабочий, из Англии в Сибирь поехал?! Да не бывать этому никогда…
Софи не слишком волновали настроения рабочих. Да и за Веру она не очень-то беспокоилась. Разберется, если ей надо. Но Софи всегда нравилось понимать, что происходит вокруг.
Сначала она попробовала говорить с Измайловым, которого последние дни и даже недели почти не видела.
– Ну, Софья Павловна, увольте! – сказал Измайлов. – Откуда я могу что-то знать или предполагать про этих англичан, если я их ни разу в глаза не видел…
– Да бросьте вы лицемерить, дамский угодник! Отчего бы и мне не угодить? Я, честное слово, дальше не передам…
– Я – дамский угодник?! – нешуточно поразился Измайлов. – Это откуда же…
– А то я не вижу! – воскликнула Софи. – Да и глаза закрыла б, добрые люди донесли… Если бы Вера и вправду вас из Петербурга к себе позвала, так она бы уж давно вам башку открутила: вы же то к ней, то к Машеньке на прииски ездите. И все с лицом таким серьезным ходите: бу-бу-бу да та-та-та… Здесь, Марья Ивановна, так бы сделать… а вот там, Вера Артемьевна, вот то целесообразно… И там, и там угодить хотите – вот вам и угодник…
– Черт бы вас побрал, Софи! – не выдержал Измайлов. – Вы же сами велели мне придерживаться вашего дурацкого плана и изображать из себя специалиста по приисковому делу…
– Ну конечно, коне-ечно… – издевательски пропела Софи. – Во-первых, не чертыхайтесь, Измайлов, это неприлично, вы сами мне намедни объясняли. А во-вторых, благодарные дамы уж наверняка поделились с вами всеми своими планами и чаяниями. Если не Вера (она-то таких, как вы, на завтрак пучками кушает), то уж несчастненькая, хроменькая Машенька-то наверняка…
– Господи, Софи, ваш цинизм бывает так утомителен!
– Это не цинизм, Измайлов, это – откровенность. Да, я не люблю несчастненьких и не скрываю этого. А она нынче из себя едва ли не мученицу корчит. Машеньке все дано было: дом, любовь – сначала отцовская, потом – Сержа (и не спорьте со мной! Вас тогда здесь не было, а я была и знаю доподлинно). Ее любовь к нему. Дело в руках. Голова от природы, характер, упорство, образование по Егорьевским меркам очень недурственное… И что ж…
– Да кто вы такая, Софи, чтоб всех судить?!
– Да никто. Я и не сужу вовсе. Просто объясняю. Да вам-то это легче понять – вы и сами к такому склонны. Пока мы с Элен вас не выдернули, сидели в своей келье по шею в карболке и дохли помаленьку…
– Почему же… в карболке? – растерянно спросил Измайлов. Сами обороты речи Софи регулярно сбивали его с толку.
– Для дезинфекции, – пояснила Софи. – Чтоб живое что не завелось. Хоть бы микробы… Вам все неловко, неудобно, как Загоруеву мундир. Терпеть не могу эту интеллигентскую привычку! Чтобы не обострять, вы на что угодно пойдете: будете близки с женщиной, с которой вас связь тяготит, или, наоборот, не ляжете с той, к которой тянет, а то и вовсе в петлю полезете, лишь бы не выяснять и не объяснять напрямик… Да, впрочем, вы и иным можете быть, особенно, когда дело не до вас, а до других касается. Вера мне рассказывала… Да я и сама о том знаю, и за то вас люблю! – Софи потянулась к инженеру и, положив тонкую кисть ему на плечо, поцеловала в заросшую рыжеватой бородой щеку. – Ой! От вас кедровыми шишками пахнет, как от Ильи-трактирщика. Приятно… С духами Элен… гм-м… что ж, по-моему, – сочетается вполне…
– Софи! Я понимаю, что вы ко мне по простому, как к литературному персонажу… – заметил вконец обескураженный Измайлов. – Но есть же какие-то границы! Какое вам, к примеру, дело до того, с кем я близок…
– Границы? – удивилась Софи. – Да я же ничего такого и не сказала, и не спросила даже. Хотя очень даже есть что… И дело мне до того есть, потому что Элен для меня куда ближе всех сестер…
– Софья Павловна, прошу вас… – Измайлов мучительно покраснел при мысли, что Элен вполне могла живописать ближайшей подруге разыгравшуюся между ней и инженером сцену. Иначе откуда бы Софи сказала про то, что он, мол, не ляжет с женщиной, к которой его тянет…
– Да ладно, ладно, не буду! – замахала рукой Софи. – Так, значит, не расскажете мне про Машенькины и Верины планы?
Измайлов решительно помотал головой. Откровенничать с Софи Домогатской о чем бы то ни было казалось ему занятием совершенно самоубийственным.
– Ну и бес с вами! – пожала плечами Софи. – Обойдемся как-нибудь…
Спустя пару дней она взяла в оборот Сержа-Дмитрия, отловив его недалеко от «Калифорнии», у здания почты.
– Дмитрий Михайлович! – окликнула она. – Вы будете со мной говорить. Но где бы нам…
– А что, выбора: говорить или не говорить, у меня нет? – усмехнулся Серж.
С каждым днем он все более узнавал прежнюю Софи, причем даже не егорьевского, а петербургского еще разлива. Упрямая, острая девочка с вишневыми губами и непокорными локонами, похожая на хрустальную подвеску к люстре, жила где-то совсем неглубоко в этой элегантной, напористой и очень живой женщине. Маша говорила, что у нее теперь есть муж и трое детей. Как он с ней живет каждый день? Может быть, просто не обращает внимания? И интересно было бы все-таки узнать: зачем она сюда приехала?
– Конечно, нет! – воскликнула Софи. – Мы ведь с вами старые приятели. Такие старые, что даже говорить о том неприлично. Я придумала: давайте пойдем в «Луизиану». Самсон и Роза будут рады, а нам никто не помешает…
Пожилые трактирщики действительно обрадовались. Софи, словно заранее подготовившись, скороговоркой рассказала неохватной Розе с десяток новостей из своей жизни, петербургских и уже егорьевских сплетен. Пообещала обязательно быть на свадьбе Ильи и Аглаи. Похвалила экзотическую красоту Лисенка и деловые качества Анны, восхитилась Розы с Самсоном неувядающей любовью… Вполне удовлетворенные беседой, трактирщики откатились.
Софи подали чаю и булок, Дмитрию Михайловичу – стопку водки и закуски.
– Ну, Серж, расскажите же мне, что эти англичане… Столько слов, и ничего не понять… Вы ведь их видели, говорили с ними? Что готовится?
– Я полагаю, Софи, что готовится большой «пшик», – спокойно сказал Серж, отпивая из рюмки с водкой так, словно в ней была налита вода.
– Да вы что! – темпераментно восхитилась Софи. – «Пшик»?! Но с чего же вы взяли? У всех здесь, получается, кроме вас, какие-то надежды…
– Софи, вы помните, кто я по изначальному расположению судьбы? До всех этих подмен и переименований?
– Помню. Мошенник, – безжалостно припечатала Софи. – Не самого высокого полета, но – с фортуной, как я понимаю.
– Правильно! – неожиданно обрадовался Серж. – Я – мошенник. Липовый прииск «Золотой лебедь». Акции. Побег в Сибирь с деньгами вкладчиков. Если бы не недоброй памяти Климентий Воропаев и его разбойнички, все могло бы и по иному обернуться…
– Ну да, да, и что же? – ностальгические воспоминания Сержа Дубравина о его мошенническом прошлом Софи ничуть не занимали.
– А то, что если у меня и были к чему-то таланты и чутье, то вот к этому самому… И вот здесь я чую тот же запах… Молодостью моей пахнет, понимаете, Софи?
– Чем пахнет?
– Аферой!
– Ах, вот что! – Софи от возбуждения даже потерла ладошки. – То есть вы, Серж, как единственный здесь, в Егорьевске, живой аферист (Гордеев с Алешей были не вам чета, но они умерли), хоть и отошедший от дел, чувствуете запах… И это значит… Это, быть может, значит, что англичане тоже хотят выпустить какие-то акции, прокрутить их где-то в Лондоне на бирже, продать, а потом… исчезнуть со всеми деньгами? Так?
– Ну, где-то так…
– Но зачем же они тогда сюда-то приехали? Зачем ведут разведку на Алтае? Или делают вид, что ведут?… Но… я все равно не понимаю…
– Вы, Софи, верно заметили, что я, по молодости лет, был мошенником… ну так себе масштабом… Здесь же, как я понял, мы имеем дело с тиграми. В учредителях этого «Алтай-Ишим-золота» или как они еще это общество назовут, будут лорды, бароны и даже член английского парламента. От этого и ставки возрастают, и возможная прибыль. И опасность разоблачения. Дело ведь идет через Кабинет. Стало быть, все совершенно в этом предприятии никак не может быть воздухом. Как раз-таки и должна быть разведка, приезжие англичане, какие-то демонстрационные действия… Судите сами: что им сдался Ишим с его болотами, если они действительно золото добывать хотят? Зачем таскают с собой этого мистера Сазонофф с его откровенно бандитской рожей?
У правительства положение тоже аховое. Инвестиции в промышленность нужны как воздух, так они за все схватятся. Вы, Софи, за делами в Сибири, конечно, не следите… Зачем вам? Я – вынужден, чтобы мозги окончательно не засохли, и не стать, как Петр Иваныч, придатком к бутылке и охотничьему ружью… Известно ль вам, что в этом именно году окончательно разорилось «Восточно-Сибирское общество чугуно-плавильных и железоделательных заводов»? Между тем, имело в аренде едва ли не половину Кузбасса. Обещалось дороги строить и прочее. Осталось два миллиона долгу. В соответствующем вестнике опубликовано письмо барона Фредерикса министру финансов Витте. Суть такова: дать возможность правлению общества найти группу капиталистов – русских или иностранных, способных осуществить заключенные с Кабинетом договора… Софи, вам аналогия понятна?
– Куда уж понятнее! – воскликнула Софи. – Но вы Машеньке-то, Марье Ивановне все это говорили?
– Говорил, – пожал плечами Серж. – Да только что ж с того? Со всяким бывает и с ней случилось: уперлась – теперь или никогда! А нынче и вовсе в раж вошла, Измайлов ваш ее, вроде, поддерживает… Инженер, как же!
В тоне Сержа прозвучало что-то вроде ревности, и Софи засмеялась.
– Измайлов не мой. И поддерживает он… я бы на это и смотреть не стала. То, что он делает, это, скорее, поддакивать называется… «Да, да, вы правы, совершенно!» Что бы ни сказали… Причем поддакивает-то он обеим…
– Да я-то знаю… Но Маше, видать, и того довольно…
– И что ж теперь?
– А то. Весь Егорьевск, как вы сами могли видеть, в ожидании англичан. Даже те, кому уж и вовсе дела нет. Приедут, не приедут? Если приедут, то с кем дело станут иметь: с Михайловой и Полушкиным или с Опалинскими-Гордеевыми? Азарт, понимаете ли, Софи, – великая вещь…
– А англичане еще может быть, ежели ваша интуиция права окажется, и вовсе липовые…
– Совершенно верно… То есть, англичане-то, конечно, если Майкла Сазонофф исключить, самые натуральные, но…
– А вы-то сами чего хотите, Серж? – вдруг спросила Софи.
Дмитрий Михайлович зажмурился. Представилась вдруг родная Инза. Тепло, небо синее-синее. Медленно течет река в берегах. Маленький, тихий городок на невысоких холмах. В садах цветут яблони, груши и шпанская вишня, пчелы жужжат в кронах. На светлой веранде с кружевными занавесками расположился рояль, и на нем играет Лисенок, босая и в белом платье. А рядом, едва доставая до клавиш, встает на цыпочки маленькая рыжая девочка и смотрит, как бегают по клавиатуре быстрые пальцы…
– Ничего, Софи. Я уже ни-че-го не хочу. Просто не имею права…
– Бросьте! – поморщилась Софи. – Бросьте вы это! Еще начните, как Машенька, про грехи нудить. Право хотеть каждый имеет. Вы, если я правильно поняла, столько и не смошенничали, сколько потом расплатиться пришлось…
– Как странно вы, Софи, говорите… – помолчав, сказал Дмитрий Михайлович. – Мы с женой… с Машей все эти годы не упоминали ни о чем… старались забыть… даже вид сделать, что ничего не было. Не получалось, конечно… А вы… Вы зовете меня Сержем, говорите свободно о том, что я был мошенником и аферистом, и… мне отчего-то легко все… даже приятно где-то… Глупость какая…
– Отчего же глупость? – удивилась Софи. – Это же все кусок вас, пусть не самый лучший, но все равно. Я вам его возвращаю, вы становитесь целый, и вам приятно… Все понятно… Я вам еще могу напомнить, как я у вас едва ли не в ногах валялась, просила взять меня с собой хоть в каком качестве… Помните? Ну что? Вам – лестно?
– Да, пожалуй, – улыбнулся Серж. – А вам… не противно вспоминать?
– Да отчего же? Это же тоже кусок меня, как и у вас…
– Наверное, вы правы, Софи… А я… а я был не прав все эти годы…
– О, Господи! Опять эти Машенькинские ноты… Бросьте! Вернуться назад нельзя, но вы ведь еще не померли. Вот и живите теперь! Скоро вот англичане приедут и… что-то будет!
– Да уж… что-то будет…
– Я… – Софи допила чай, вилкой подобрала мясную закуску с тарелки Сержа и указательным пальцем подпихнула ее себе в рот. – Не могу только сладкое есть, после на соленое всегда тянет! – объяснила она. – Я рада, что мы с вами поговорили… Я ведь всегда помню, какой вы красивый были тогда, в Петербурге… Я прямо обмирала… И весь воздух был золотой. А еще я вензелечки везде рисовала: СА – это значило «Сергей Алексеевич»… А Вера по моей просьбе шпионила за вами и влюбила в себя несчастного Никанора… Я… я потом любила еще, но он совсем некрасивый был, с вами даже близко не сравнить. А вас я тогда с античным богом (не помню уж, как его звали) сравнивала, который у Скавронских в имении в саду стоял, у грота. Весь такой белый, задумчивый и просто невероятно прекрасный… Ну, улыбнитесь, Серж, это же смешно! И главное, никто не отнимет…
– Я… тоже рад, – сказал Дмитрий Михайлович и одним глотком допил водку. – Идите, Софи. Я не буду вас провожать.
В которой разъездной корреспондент Николаев посещает исправника, Софи, как умеет, развлекает Егорьевск, а англичане являются на музыкальный вечер
Разъездной корреспондент газеты «Восточное обозрение» Иван Федорович Николаев сошел с поезда в Ишиме весь подернутый угольной пылью, с красными глазами и остервенело кривящейся нижней губой. Худо ему было так, что впору тут же, на станции, пить успокоительное – или наброситься с кулаками на кондуктора, чтобы отвести душу. От Новониколаевска пришлось ехать третьим классом, бок о бок с матерящимися, орущими, воняющими мужиками и бабами. А что сделаешь? Впереди – серьезные расходы, а денег уже, можно сказать, в обрез. Нет никакой гарантии, что хватит на все, что задумано. Корреспондент передернул плечами, с ненавистью глядя на серые бревенчатые дома под белесым небом. Пыльные облака плыли по улицам, оседали в глубоких колеях, окаменевших от долгой жары. Две облепленные репьями козы, взобравшись на бревна, наваленные под забором, торопливо хватали зубами листья с яблони. Недавно по улице прошло стадо, цепочка увесистых лепешек еще дымилась… Гнусный, постылый городишко.
Начальство в городишке тоже было гнусное и постылое. Г-н Николаев убедился в этом неделю спустя, когда, поколебавшись между жандармским и полицейским ведомствами, решил начать с последнего. Уездный исправник, умудрившийся в жару простудиться, уныло сморкался над какими-то бумагами, пожелтевшими от времени и явно выложенными на столе вот только что, дабы хоть так продемонстрировать представителю прессы горение на службе. Сбоку от бумаг исходил целебным паром чай в высокой кузнецовской кружке. Исправник с тоской косился то на кружку, то на корреспондента, даже не пытаясь взять в толк, с какой это радости солидную газету заинтересовали трудовые будни ишимской охраны порядка.
– Престранные у вас в уезде дела творятся, – наконец, отчаявшись подвести его к главному обиняками, заявил г-н Николаев. – На станции зашел в трактир перекусить, а там вовсю болтают, что, мол, какой-то ссыльный с поселения сбежал…
– Это не у нас, – чуть оживившись, отрезал исправник, наклоняя голову к кружке и пытаясь вдохнуть пар заложенным носом, – это в Каинске, с тамошних и спрос. А у нас тихо. С прошлой осени, как банду Кузоватого накрыли – ни одного эксцесса. Про это бы и написали, сударь, как вас…
– Николаев Иван Федорович, – корреспондент наконец дал волю досаде: сжал губы и вскинул голову, и гладкое лицо его вмиг отвердело, явив все признаки благородной породы, – из потомственных дворян-с.
– Неужто, – в мутноватом взгляде исправника мелькнул чуть заметный интерес. – Признаться, люблю на досуге столбовые книги полистать. Кто да откуда, да как послужил отечеству. Николаев, Николаев… Очень уж фамилия у вас, не сочтите за обиду, простоватая. Вот если б Апраксин, скажем, или Воротынский… Нет, не соображу.
Мещерский, беззвучно пробормотал г-н Николаев. За обиду он, разумеется, счел – но дело для него было все-таки важнее.
– Про банду всенепременно напишу. Но в контексте, понимаете ли, общественных настроений актуальней было бы о политике. Вот, например, визит в Егорьевск знаменитого бомбиста…
Исправник при упоминании о политике начал было старательно зевать, но слово «бомбист» заставило его проглотить зевок и в упор уставиться на корреспондента.
– Простите, это вы о чем?
– Как же, – тот с некоторой неловкостью пожал плечами. – Никоим образом не хочу вторгаться в сферы, не предназначенные… Но долг перед читателями выполнить обязан. А им, понимаете ли, – им страшно.
– Экая чушь, – буркнул исправник. Решительно взялся за кружку и сделал большой глоток. – Извольте объясниться. Какой бомбист?
– Некто Измайлов, из народовольцев. Привлекался в северной столице и в здешних краях тоже профигурировал. Давненько, правда, лет восемь назад.
– Измайлов, Измайлов… – исправник, кажется, вновь принялся мысленно листать столбовую книгу. Корреспондент продолжал терпеливо:
– Главное же, что тревожит моих читателей, заключается в следующем. Этот Измайлов прибыл из Петербурга в Егорьевск не просто так, а в качестве сопровождающего. И кого, как вы думаете, он сопровождает?
– Ну?
– Госпожу Домогатскую Софью Павловну. Вам эта фамилия ни о чем…
– Интересно, – исправник, энергично высморкавшись, откинулся на спинку своего жесткого кресла, и сделалось очевидно, что он, хоть и простуженный, и уставший от жары и докучных посетителей – начальство, да еще какое! – Откуда, позвольте спросить, у вас такие сведения?
– Сбор сведений, – с достоинством отвечал г-н Николаев, – это моя профессия.
– Душно у вас как-то, Илья Самсонович… – тем же вечером сказала Софи Илье, который пришел узнать, не надобно ли ей чем-нибудь угодить.
После «предложения», сделанного Софи от его имени и принятого Аглаей, подобные визиты вошли у Ильи в привычку и весьма раздражали Софи выражением умильной подобострастности, которое трактирщик считал нужным надевать в этих случаях на свою округлую физиономию.
– Это вам после Петербурга кажется, – Илья пошевелил толстыми плечами. – А мы так привыкли и не замечаем…
– Нет… душно… как будто дождь собирается… и никак собраться не может…
– Ну а чего же вы хотите? – Илья отложил в сторону умильную гримасу и сделался таким, каким нравился Софи – умным и ироничным. – Что бы еще могло быть, коли городом и окрестностями нынче фактически управляют две бабы – одна с уже окончившейся женской судьбой, а другая – с как бы и не начавшейся…
– О, Илья! – воскликнула Софи. – Вы, я вижу, вовсе не сторонник женского равноправия?
– Нет, я – не сторонник, – согласился Илья. – Я думаю, что Бог создал мужчину, чтобы он занимался делами, а женщину – чтобы ею можно было любоваться…
– Быт любого здешнего поселка – серьезное испытание для вашего утверждения, – заметила Софи.
– Да, конечно, – согласился Илья. – Люди так и норовят исказить в себе образ и задачи, вложенные в них Богом. Я думаю, в них действует что-то вроде азарта…
– Это интересно, – сказала Софи. – То есть, по-вашему, приисковые и прочие рабочие пьют и бьют своих жен не иначе, как состязаясь с Богом в творческих функциях? Что ж, это во всяком случае оригинально… Особенно по сравнению с экономическими теориями господ марксистов…
– Я читал, Аглая мне давала, – кивнул Илья. – Там есть много здравого, как мне показалось. Но не все.
– Аглая читала сама и давала вам читать работы Маркса? – удивилась Софи.
– Аглая – очень умная и образованная женщина, – с гордостью сказал трактирщик. – К ней даже профессор из Москвы приезжал. Она вам не рассказывала? Это – смешно.
– Нет, расскажите.
История и вправду выглядела забавной. Не имея семьи и иных увлечений, Аглая несколько лет назад начала собирать песни, потешки, скороговорки и сказки местных народов, а также материалы о том, что происходило в Сибири с фольклором переселенцев. Начало коллекции было положено подаренными ей старыми тетрадями Машеньки Гордеевой, которая после замужества и смерти отца прежние увлечения забросила совершенно. Аглая же, обладая умом систематическим и дотошным, собранные материалы не только записывала, но и тщательно классифицировала, привязывала к традиционным сюжетам, известным из мифов и сказок других народов, и постепенно пришла к достаточно интересным выводам, которыми ей захотелось поделиться со специалистами. Подумав и посоветовавшись с отцом и мужем сестры, она написала несколько взаимосвязанных между собой статей, обильных фактическим материалом, и отправила их в Петербург, подписавшись псевдонимом – Родион Аглаин. Статьи напечатали в вестнике Академии наук, в филологическом и этнографическом разделах, с очень хорошими рецензиями. Завязалась полемика, переписка. Некоторое время Аглая от имени «Родиона» переписывалась с тремя петербургскими исследователями-этнографами, написала и опубликовала еще несколько статей. В прошлом году один из столичных ученых проезжал по Транссибирской магистрали из Перми в Омск, нашел на карте Егорьевск и специально сошел с поезда в Тавде, чтобы сделать сюрприз и повидаться с сибирским коллегой, замечательным и тонким исследователем сибирского фольклора Родионом Аглаиным. Ирония ситуации заключалась в том, что пожилой ученый всю жизнь был яростным антисуфражистом и отчаянным противником женского образования. Можно себе представить его чувства, когда после некоторых недоразумений ему все-таки отыскали и представили «Родиона Аглаина»…
– Ну да, пожалуй, вы правы, Илья, – выслушав всю историю и минуту подумав, заявила Софи.
– В чем прав? – удивился Илья.
– В этой дыре не хватает развлечений.
Приняв решение, Софи никогда ничего не откладывала на потом. «Мало ли что может случиться? – рассуждала она. – Например, у меня будет провал в памяти и я все позабуду. Или придет в голову что-то еще. Или вообще расхочется. Или, к примеру, начнется война, революция и стихийное бедствие… И ничего не будет…»
Развлечения для Егорьевска Софи принялась организовывать на следующий день с утра и посвятила подготовительно-организационной работе приблизительно неделю. Единственным, кому удалось улизнуть от усилий Софи и не принять в этом участие, оказался инженер Измайлов, который, прознав про намерения Домогатской, просто переселился на прииски и перебирался с одного на другой, минуя Егорьевск. Все остальные были задействованы.
Софи не любила и не понимала музыки, но наличные музыкальные силы Егорьевска оказались к настоящему моменту таковы, что их просто невозможно было игнорировать. В результате Лисенок давала сольные концерты, Серж-Дмитрий приятным баритоном пел под аккомпанемент собственной жены, а Аглая быстренько собрала хор учеников младших классов училища, который с оглушительным успехом пел перед собравшимися родителями. Трое старших учеников Златовратского исполняли латинские гимны. В разных местах и разным (хотя и частично пересекающимся) составом, репетировали сразу три спектакля. Левонтий Макарович ставил «Антигону» и лелеял в душе надежду уговорить Веру Михайлову сыграть главную роль.
Петропавловский-Коронин с неожиданным в нем артистизмом и пафосом декламировал произведения Одоевцева и Некрасова. По вечерам метеоролог Штольц с «волшебным фонарем» нараспев рассказывал о модной естественнонаучной теории Великого оледенения. К нему собиралась молодежь и почему-то много крестьян-переселенцев, которые, сняв шапки, толпились у входа, глазели на картинки в «волшебном фонаре» и слушали «господские сказки», раскрыв рот. Надя Коронина читала открытые лекции по народной медицине. Они имели неожиданно большой успех среди женщин Мариинского поселка. Все желающие попросту не поместились в помещение конторы, Наде задавали множество вопросов и долго не отпускали. После Софи и Надя решили, что, по-видимому, умственное развитие мариинских работниц было инициировано до того нововведениями Веры Михайловой. Леокардия Власьевна публично рассказывала о гигиене и соблюдении правильного режима, но вопросы ей задавали преимущественно о правилах написания казенных писем и жалоб. В залах «Калифорнии» и «Луизианы» была открыта выставка пейзажей Сони Щукиной. В воскресенье в помещении собрания и во дворе вокруг него был организован благотворительный базар под патронажем Татьяны Потаповой. Кроме всего прочего, там продавались и имели большой успех механические игрушки Стеши Михайловой. Илья Самсонович обеспечивал бесплатный квас и булки для устроителей и покупателей базара. Аглая выставила декоративные поделки своих учеников. Скрывавшаяся на Выселках Фаня попросила Софи представить на базар ее вышитые салфетки. По удивительному совпадению три из пяти Фаниных салфеток приобрел владыка Андрей, который после службы явился благословить базар, как дело, безусловно, богоугодное. Машенька Опалинская, подумав, выставила на продажу бо́льшую часть своей коллекции тростей, оставив себе лишь три – самые удобные. Трости неожиданно быстро раскупили за приличные по егорьевским меркам деньги. Петр Иванович предложил для благотворительной продажи пятерых щенков из последнего помета Пешки-Большой, которые были моментально разобраны самоедскими охотниками. Собаки Гордеева-младшего выходили не слишком казисты статью, но на всю приишимскую тайгу славились умением самостоятельно работать по зверю. Вера Михайлова в приватной беседе сообщила Софи, что она всех этих дворянских штучек с базарами не понимает, но, не желая отставать от прочих, просто пожертвовала на благотворительность некую, весьма значительную сумму.
Вырученные во время базарной торговли средства пошли на покупку одежды и провизии для самых бедных приисковых семей, потерявших кормильца. Составлял списки и разносил благотворительные дары по домам Матвей Печинога, как всегда серьезный и доброжелательный. Его честность и пунктуальность никем не подвергались сомнению так же, как когда-то честность его отца – инженера Матвея Александровича.
Софи казалась всем довольной.
Когда ее бурная деятельность слегка утихла и вошла, так сказать, «в колею», в Егорьевск вернулся инженер Измайлов, и при первой же встрече весьма агрессивно предупредил Софи, что, как она не проси, он не будет организовывать рабочий кружок по изучению социал-демократической литературы, а также заниматься инженерным делом с одаренными егорьевскими подростками. Софи рассмеялась и оставила Андрея Андреевича в покое.
Музыкальные вечера и танцы в собрании стали уж превращаться в традицию. Софи неизменно присутствовала на них, пользуясь возможностью поговорить и что-то узнать. К самой музыке, как уже было сказано, она оставалась глубоко равнодушна. Впрочем, танцевать Софи умела и любила, но, кроме Дмитрия-Сержа, не находила себе достойных партнеров. По понятным причинам Опалинский не слишком часто приглашал ее, и вообще почти не танцевал. Наблюдая же, как Серж слушает игру Елизаветы-Лисенка, Софи уже несколько раз задавала себе вопрос, на который у нее пока не было ответа…
Машенька же, в свою очередь, заметила удивительное: среди полутора десятков романсов, которые она пела по просьбе собравшейся публики (навыки пения и игры, и удовольствие от гладких теплых клавиш под пальцами вернулись на удивление быстро), был один, который вызывал у безразличной к музыке Софи Домогатской сильную и всегда одну и ту же реакцию – стоило Машеньке его запеть, как Софи прекращала текущий разговор, напрягалась всем телом, и отворачивалась к окну или стене, словно пережидая сильную боль. Странность эту Марья Ивановна ничем объяснить не могла, но тем не менее она ее весьма занимала, так как об умении Софи прятать от людей все свои чувства Машенька помнила еще с юности. Что же такого вложено для нее в этот романс, – думала она. – что даже у Софи не хватает сил скрыть…
Вот и теперь Марья Ивановна не смогла удержаться и, исполнив «Я все еще его, безумная, люблю…» Жадовской и «Над душистою ветвью сирени…», сыграла вступление, внимательно наблюдая за реакцией Софи.
«… Не повторяй мне имя той,
Которой память – мука жизни,
Как на чужбине песнь отчизны
Изгнаннику земли родной…»
Но уж на середине куплета ее внимание отвлеклось от Софи совершенно, и голос чуть дрогнул. Рояль стоял сбоку от окон. Когда Машенька запела, все повернулись к ней, и на дверь никто не смотрел. Упомянутая же дверь между тем тихонько (явно, чтобы не мешать музицированию и пению) растворилась, и в темном проеме показались англичане. Все трое: мистер Сазонофф впереди, а за его плечами – длинные физиономии сэра Лири и мистера Барнеби с его воинственно торчащими бакенбардами.
Машенька хотела было прерваться ради важных гостей, но Сазонофф сделал какой-то едва заметный знак, который, тем не менее, истолковать неправильно было нельзя: «продолжайте, пожалуйста, я вас прошу!»
Марья Ивановна опустила глаза на клавиши и продолжила.
И неожиданно совершенно, чуть-чуть раньше, чем положено бы по мелодии, в ее пение вплелся низкий, хрипловатый голос:
«Иль нет! Сорви покров долой!..
Мне легче горя своеволье,
Чем ложное хладнокровье,
Чем мой обманчивый покой…»
Присутствовавшие на вечере начали было изумленно оборачиваться. Длинные физиономии англичан тоже выражали удивление – видимо, они до сих пор не подозревали в Майкле Сазонофф способностей к исполнению русских романсов…
Но все это произошло не до конца. Потому что еще на середине куплета посреди залы, с шумом уронив стул, вскочила Софи Домогатская, обернулась и, прижав стиснутые кулаки к груди, смотрела на мистера Сазонофф страшными, черными, невероятной для живого человека величины глазами.
Потом вскрикнула: «Михаил, ты?!!» – и повалилась замертво.
Сазонофф шагнул вперед, но разумеется, не успел. Зато Измайлов, который сидел рядом с Софи, проявил как всегда неожиданную для его мешковатой фигуры проворность, вскочил и сумел подхватить падающую женщину. В зале произошло общее смятение. Все собравшиеся интуитивно или по факту знали, что Софи Домогатская просто так в обмороки не падает. Что же произошло?! Вася Полушкин, срывая задвижки, распахнул окна. Надя Коронина, перекрикивая общий гвалт, пыталась добиться исполнения каких-то своих медицинских предписаний.
Переступая через все это, как через волнующуюся воду глубокой лужи, к Софи прошел Майкл Сазонофф, принял ее от Измайлова и поднял на руки.
Они сразу же сделались отдельной фигурой, а все остальные – просто фоном для того, что происходило между ними двоими.
Софи все еще была без сознания, а Сазонофф (или кто он там?!), склонившись, быстро и исступленно целовал ее закрытые глаза, заострившийся нос и шептал всего одно слово, которое, тем не менее, объясняло почти все:
– Сонька! Сонька! Сонька!
Марья Ивановна видела их не глазами даже, а виском и ухом – потому что смотрела на свои пальцы, лежащие на клавишах. Из-под пальцев испарялась, исчезая в горячей духоте, музыка – уже никем не слышимая, никому не нужная. Машенька с усилием втянула воздух, едва удерживаясь от крика, который, конечно, тоже был бы никем не услышан и нелеп. Что делать? Уйти отсюда? Трость далеко… пока будешь тянуться, кто-то заметит, поглядит, поймет…
Господи, да какая мне разница, старательно шевеля губами, беззвучно проговорила она. Кому там глядеть? Кому я нужна? Уйти поскорее, пока не завопила в голос! От собственной злобы ей стало страшно. Обернулась, беспомощно поискала глазами мужа. Он стоял в противоположном углу залы, смотрел, как и все – на этих двоих.
– Митя! Забери меня отсюда!
Нет, она крикнула, конечно, не вслух, – но он должен был услышать!
Однако не услышал. Грех, нельзя, торопливо прошептала Машенька, нашаривая рукой трость. Ее ухода и впрямь никто не заметил. Даже галантнейший английский джентльмен, лорд Александер; он едва не столкнулся с нею в дверях и машинально поклонился, не узнавая – был поглощен происходящим, а Машенька подумала отчаянно: что ж я ухожу, англичане-то!.. – и следом: да уж какие теперь англичане.
Теперь – она! Снова она. Как скажет, так все и выйдет: с англичанами, с золотом, с жизнью.
Под темным небом блестели лужи – разливанное море. Она обходила их осторожно, прислушиваясь – не стукнет ли за спиною дверь, не раздадутся ли шаги? Сейчас он догонит, она всхлипнет: Митя! – и, уткнувшись ему в грудь, разревется всласть. Будет причитать: что же это такое, Митя, что же она с нами сделала? А он поправит: не она. Мы сами с собой сделали. Конечно, он будет прав. Почти двадцать лет они без нее жили – и что?
Господи! Машенька остановилась, яростно затрясла головой. Куда я иду? Дура! Упаду в кресло. Чаю прикажу подать с плюшками. И опять стану мечтать. А она… Она – делать!
Липкий невидимый дождь зашуршал, оседая на молодых листьях. Где-то сонно брехнула собака. Прислушиваться к ночным звукам было бесполезно: ни стука двери, ни шагов. Да Машенька уж их и не ждала. Зажав под мышкой трость, несколько раз с силой провела по лицу ладонями. Слезы, кипевшие под веками, ушли внутрь, в горле от них защипало, как от простуды. Она повернулась лицом к собранию, постояла, морщась. Возвращаться было еще глупее, чем уходить. Но все-таки надо вернуться.
Досмотреть. Ну, и опять же: англичане…
В которой Шурочка открывает букмекерскую контору, Крошечка Влас встречается с Манькой, а Софи и Туманов беседуют между собой
Стоявший на краю огорода сарай, в котором почти девять лет назад пытался свести счеты с жизнью инженер Измайлов, после так толком и не использовался. Вроде бы никто ничего тогда не узнал (Элайджа и «звериная троица» уж что-что, а тайны хранить умели), но так… что-то нехорошее за этим сараем все-таки образовалось и тянулось… Давно бы следовало его разобрать, и либо огород расширить, либо хоть псарню для петиных собак сладить, но у Марьи Ивановны все как-то руки не доходили. Слишком много было снаружи от дома хлопот, проблем, и до своего подворья, а уж тем паче до заброшенного сарая руки не доходили.
Сарай между тем стоял себе. Крыша и стены в нем потрескались и разошлись, паклю растаскали на гнезда мыши, и теперь в солнечные дни золотые лучи наискось, красиво пересекали пыльное пустое пространство. Слежавшееся старое сено да несколько потемневших от времени лавок составляли всю обстановку. Единственным посетителем сарая все эти годы был Шурочка Опалинский. Именно здесь он хранил свои разнообразные мальчишеские сокровища, здесь, лежа на лавке, глядя на золотые лучи и спустив вниз тонкие руки и ноги, мечтал о будущем. Будущее всегда представлялось Шурочке разным. Иногда он видел себя капитаном пиратского корабля, под наводящим страх черным парусом пересекающего бурлящее море (вода в воображаемом море кипела точь в точь, как в большой чугунной кастрюле на кухне, ибо иных штормов Шурочке видеть не доводилось). Иногда он становился ловким золотодобытчиком и рудознатцем, вроде легендарного Коськи Хорька, но уж никому не позволял отнять у себя разведанные богатства, сам добывал их, пускал деньги в рост, и в конце покупал огромный дворец в самом центре Петербурга, прямо рядом с царем. Но чаще всего будущее выходило не таким бурным и красочным. По мере взросления Шурочка все яснее понимал, что настоящие страсти кипят вовсе не в диких лесах или штормовом море. Вся эта, как сказал бы блажной Матюша Печинога, романтика, – для тех, кого Господь обделил умом, но взамен (ибо Господь Наш, как известно, – справедлив и милостив безмерно) наделил по-звериному здоровым и крепким телом. Для людей же, обладающих умом и хоть маломальской смекалкой, должно быть ясно: подлинные страсти наличествуют лишь там, где вращаются большие деньги. И (Шурочка понимал это и гордился глубиной своих взглядов), в наше цивилизованное время, деньги – это вовсе не сундук с самоцветными камнями или золотыми монетами, зарытый под сосной. Деньги – это акции, ценные бумаги, недвижимость, закладные на земли… Все это богатство крутится в столицах, на биржах, а владеющие им, играющие им, как дети в мяч, люди вовсе не стоят на капитанском мостике в бурную ночь и не отдают татуированным матросам яростных команд хриплым сорванным голосом… Самые умные из них делают свои дела в сюртуках и мундирах, говорят тихо и вежливо, все время улыбаются, и могут обогатиться в несколько раз и, наоборот, разориться дотла, даже не выходя из уютного, благоустроенного дома…
Вот среди этих людей Шурочка и хотел бы оказаться, как равный среди равных. Такой была его последняя по времени и, как он теперь полагал, окончательная мечта.
Последнюю неделю старый сарай буквально зажил новой жизнью. Множество самых разнообразных по виду и достатку людей, как бы от кого-то таясь, приходили в него по тропке со стороны огорода и, не слишком задерживаясь внутри, уходили обратно, со странными улыбками на лицах. Сам Шурочка почти не покидал усадьбы. Пальцы у него все время были измазаны чернилами, а на худом миловидном лице за обедом и ужином (завтракал Шурочка у себя в комнате) блуждала рассеянная, но крайне довольная улыбка. Относительно доверенными лицами Шурочки были подружка его детских игр Неонила и ее сверстник Кирька, сын конюха Игната. По его просьбе (подкрепленной вполне звонкой монетой) они посетили Мариинский поселок, Выселки и все лавки Егорьевска. Рассказывали о чем-то как бы под большой тайной, так, чтобы слушающий склонял ухо к говорящему…
Дальше, как и предполагал Шурочка, процесс пошел сам.
– Маша, а что это за люди у нас по огороду в сарай шастают? – поинтересовался вечером у жены Дмитрий Михайлович. – Ты знаешь?
– Что? Что ты говоришь? – рассеянно переспросила Марья Ивановна, мысли которой были заняты вовсе не посетителями ее огорода. – Что – знаю?
– Я спрашиваю, что Шурочка делает в сарае? – повысил голос мужчина.
– Так отчего бы тебе у него самого и не спросить? – тут же ощетинилась Маша. – Что он, прокаженный, что ли, что ты с ним поговорить не можешь?!
Все упреки мужа в том, что Шурочка близок и откровенен с матерью, и осторожно избегает отца, Машенька выслушивала почти с гордостью. Да, так оно все и есть! Но чья же в том вина? Неужели ее? Или все-таки самого Дмитрия Михайловича, который чужим, диким и неприятным детям (ну ладно, будем справедливы, к Аннушке это, пожалуй, и не относится!) давно уж уделяет внимания едва ли не больше, чем своему собственному, родному сыну!
– Хорошо, – примирительно сказал Митя, которому, по-видимому, вовсе не хотелось ссориться. – Ложись. Я завтра поговорю с Шурой.
– И не вздумай сразу высмеивать его! – предупредила Машенька.
Шурочка и все его начинания казались ей необычайно умными и оригинальными. Умение же сына всегда оставаться вежливым и из всего извлекать хоть маленькую, но прибыль – попросту умиляло.
«Мелкий покуда хищник новой формации,» – так называл это Дмитрий Михайлович, и сравнивал Шурочку с прожорливой и неразборчивой в средствах куничкой, чем бесил Машеньку несказанно. В общем-то это было странно: то, что хищником был ее отец, Иван Парфенович Гордеев, она признавала безоговорочно. Видеть это же самое качество в сыне – отказывалась категорически. Но, впрочем, чему удивляться: парадоксы материнской любви всем известны, и в дополнительных комментариях не нуждаются…
– Я все выяснил. Пришлось, конечно, потрясти шельмеца, он от всего отпирался, но… Я пригрозил Неониле, и она раскололась. Эта дурочка, конечно, ничего толком не понимает, но я-то по паре признаков сразу обо всем догадался. Тогда уж ему и не отвертеться было… Ты знаешь, он ведь и на тебя ставки принимает, – независимо сообщил Дмитрий Михайлович жене сразу после обеда.
– Что? – вскинулась опять думавшая о своем Машенька. – Что? Ты грозил Шурочке?!
– О Господи! Маша! – вздохнул Дмитрий Михайлович. – Объясни ты мне, наконец: где ты пребываешь душою все последнее время? Все строишь козни касательно англичан? Или тебя, как и прочих егорьевских кумушек, не в шутку пленила непонятная и чудесная история чувств Майкла Сазонофф и Софи Домогатской?… Это, согласен, как-то удивительно, просто по книжному романтично… – Дмитрий Михайлович говорил с видимым удовольствием, едва ль не закатывая глаза. Машенька же, слушая его, едва справлялась с ненавистью и дикой болью, раскалывавшей виски. – После той безумной сцены они даже не касаются друг друга, во всяком случае на людях, но достаточно бросить на них беглый взгляд, чтобы понять: они – пара. Больше того, прямо первообраз какой-то: он весь в этих шрамах, неуклюжий по виду, но, полагаю, сильный невероятно, с его странной речью, манерами, весь такой русско-английский плебей, а она – аристократка, тонкого стекла, с ее локонами, глазами… Аглая говорит: глаза у Софи, как у лемура. Точно очень, а я и не подумал раньше… Ты знаешь, она как-то говорила мне, что любила одного человека, и он был весьма некрасив внешне… Я тут вдруг подумал: может это как раз Сазонофф и есть?
«Она говорила с ним о любви… – подумала Машенька. Мысли текли медленно и вязко, словно в патоку закутанные в ненависть. – Рассказывала ему о своих мужчинах, даже описывала их внешность. Когда? Почему? Что вообще между ними происходило? Говорить о таком с мужчиной можно только при очень большой доле откровенности и… близости…»
– Что… ты… сказал… относительно… Шурочки… – медленно, с трудом выталкивая звуки из горла, выговорила Машенька.
– А… Ну да! – спохватился Дмитрий Михайлович. – Надобно тебе знать, что у нас на огороде уже больше недели функционирует ни что иное, как букмекерская контора. Держатель ее – наш с тобой предприимчивый сын.
– Какая контора? Зачем это? – не поняла Машенька. От родившегося недоумения комом стоящая в горле злость куда-то отступила. Стало легче дышать.
– А… Ну как бы тебе объяснить? Понимаешь, это вроде как побиться об заклад, но в более… утонченной, что ли, форме. Причем интересно было бы узнать (я был так поражен, что забыл спросить): он сам это переоткрыл или прочитал где. Насколько я понимаю, в Егорьевске такого сроду не водилось. В общем, есть какие-то события, они могут произойти или не произойти. И вот я ставлю деньги, что Вера Михайлова, к примеру, завтра разорится. А ты, наоборот, что ничего такого с ней завтра не будет. Назавтра смотрим: если с Верой Артемьевной все в порядке, то ты получаешь и мои деньги, и свои. Если же она-таки разорилась – все деньги мои. Ну и что-то, само собой, перепадает букмекеру – держателю конторы, который принимает и учитывает ставки. Понятно?
– Понятно, – удивилась Машенька. – Довольно просто выходит. А только зачем же люди деньги-то ставят?
– Азарт, матушка, азарт, – вздохнул Дмитрий Михайлович. – Одно из вечных свойств человеческой натуры, без различия ума, возраста и социального положения. Надежда на фортуну. Ничего не делая, угадать и сразу загрести деньгу…
– И на что же Шурочка… ну… принимает эти ставки? Что у нас, в Егорьевске, может такого произойти?
– Вот тут-то самое интересное. Наш сын тонко уловил судьбоносный егорьевский момент и теперь весьма бодро на том наживается. Например, англичане. Сейчас весь город чувствительно интересует, с кем они станут иметь дело: с нами или с Верой и Васей. Пожалуйста. Шурочка принимает ставки. Кстати, по его словам, больше все-таки ставят на Веру Артемьевну… Есть еще сроки: когда англичане определятся – до Петровского поста или уж после. Для особо смышленых есть суммы и качество сделки: какие прииски станут покупать, сколько дадут, станут ли на следующий сезон свое оборудование везти, будут ли везти разведку на болотах… Не обойдены и личные дела: останется ли инженер Измайлов в Егорьевске ввиду англичан, сойдутся ли Софи и Сазонофф как любовники…
– Даже это?! – ахнула, не удержавшись, Машенька. Ей уж самой доводилось пару раз выпроваживать из усадьбы рыдающих от каких-то непонятных претензий девиц (Шурочка в это время прятался у себя в комнате), но отчего-то все не верила своим глазам и ушам – считала сына невинным ребенком.
– А что такого? – пожал плечами Дмитрий Михайлович. – Это ремесло стыда не знает…
– И что же нам теперь делать?
– Ну, я уж и не знаю… Отсюда-то их можно за раз разогнать, а сарай хоть завтра по бревну раскатать. Но ведь он, шельмец, тут же в другом каком-нибудь месте устроится. Вон, хоть Илью Самсоновича по-родственному умолит…
– То есть, ты предлагаешь оставить все, как есть?
– Делай как знаешь! – с неожиданным, вдруг раздражением заметил Дмитрий Михайлович. – Шура – полностью твое создание, ты с ним и разбирайся… Мне сообщишь о своем решении, если пожелаешь…
– А ты, как всегда – вовсе не причем?! – закричала Марья Ивановна. На глазах ее помимо воли выступили слезы. Все, все – даже любимый сын – показались вдруг чужими.
– Избавь, Маша! – поморщился Дмитрий Михайлович. – Ничего особенного не произошло. В конце концов, это даже забавно. Если у тебя с англичанами не выгорит, то хоть сынишка наживется на твоем несчастье…
– Не-на-ви-жу… – прошептала Машенька, когда муж ушел. К кому это относилось, она и сама не смогла бы сказать.
Жара стояла в Егорьевске такая, что все косточки сладко ныли, как в бане. Во дворе «Калифорнии» вдоль забора разлеглись, вздыбив перья, сытые пестрые куры. Изредка они начинали возиться, умащиваясь – пыль поднималась и плыла над двором легкими, просвеченными солнцем клубами, поскрипывала на зубах, смешиваясь с запахами навоза и птичьего помета. Крошечка Влас вдыхал ее, жмурясь, прислушиваясь с недоверчивым испугом к собственным ощущениям. Хорошо! Матерь пресвятая Богородица – и впрямь хорошо!
– Сегодня пойду, – пробормотал он беззвучно. Ясное дело, такое обещание он давал себе далеко не в первый раз. По-хорошему, пойти – вернее, побежать! – надо было сразу, как прибыли в Егорьевск. Но он не смог. Все происходящее казалось до того ненастоящим, что скулы сводило. Путешествие по железной дороге – первым классом! Их светлость не желали все время разыскивать камердинера – если уж обзавелись таковым! – по третьеклассным вагонам. Кондукторы, проверяя билеты, недоуменно водили глазами то по Крошечке, то по Крошечкиным бумагам. Что, мол, за чудо: российская орясина при английском милорде! Крошечка был с ними вполне согласен. К тому же бумаги, выправленные перед самым отъездом мистером Сазонофф, казались ему не очень-то надежными.
И сами англичане тоже: морок, видение. Дунешь, и растают! Крошечка на полном серьезе убеждал себя в том, что они – настоящие. Легче всего было с этим самым мистером Сазонофф, глядящим внутрь человека и умеющим читать мысли. Крошечка, когда ходили за документами, взял и рассказал ему о себе все. Сумел как-то! Про Черного Атамана, про каменщиков. Рассказывать было неловко: ну зачем, спрашивается, господам эта лишняя морока? – но он считал, что делает правильно. Пусть знают, с кем связались! Мистер Сазонофф (а если попросту – господин Сазонов Михаил Михайлович) выслушал молча, без вопросов и замечаний. Так, как надо. И милорд никаким образом об этом не высказался – хотя Сазонов ему рассказал, конечно! Когда укладывали вещи, предъявил Крошечке пистолеты и винтовку самой что ни на есть новейшей системы:
– Поскольку ты в оружии разбираешься, – (Сазонов переводил), – состояние этих вот игрушек будет на твоей совести.
Дитя он малое, милорд, даром что пятый десяток вот-вот разменяет. Не только оружие, вся жизнь ему – игрушка. И что такого в Сибирь-то понесло? Уж ехал бы лучше в Африку – как рассказывал, – охотиться на носорогов… Нет, Крошечка очень хорошо видел, что лорд Александер далеко не так наивен, каким иногда может показаться. Но будь он хоть самый что ни на есть мудрец и хитрец! Чего стоят эти английские ум и хитрость – здесь, в Сибири!..
– Сегодня пойду, – повторил Крошечка уже громким шепотом, морщась от звучания собственного голоса. Почему-то казалось: сказано вслух – значит, все! Обратной дороги нет. Придется идти.
А она мазнет по нему прозрачным взглядом и равнодушно пожмет острыми плечами. Да, плечи у нее остались такими же острыми, угловатыми, как восемь лет назад. Она как будто нисколько не повзрослела.
Конечно, если приглядеться… Да вот приглядываться-то у Крошечки не было никакой возможности. За все дни он видел Маньку два раза, вскользь. Сперва – на улице (шла из церкви). Вот тогда и надо было подойти! Или уж – вчера, когда возил милорда в поселок. Но не подошел. Не смог.
Он уже знал, конечно, что она по-прежнему живет у Веры Михайловой, что никакого мужа с детьми у нее нет. Ну, что – значит, так ей лучше. Жива, здорова. А смани он ее тогда за собой, на вольное житье – где б она была сейчас? Да что уж! На самом-то деле нет в Егорьевске никакой Маньки, просто – морок, такой же, как англичане! А настоящая Манька – там, на Алтае, в Вороньем логу, в земле под лаковыми брусничными листками, и на шее у нее косой красный след от казачьей шашки…
Сидя на кровати в узкой Манькиной каморке, Соня смотрела, как старшая сестра выбирает одежду. Выбор, понятно, был невелик. Да и действовала Манька как-то странно: чем обтрепанней – тем лучше. Платок выбрала самый что ни на есть старый, когда-то синий, а теперь – непонятно какого цвета. Повязалась до бровей, хмуро глянула на Соню:
– Ничего?
– Если милостыню просить, то ничего, – честно ответила та.
Манька фыркнула:
– Дурочка! Это ж он подарил. А вообще-то… вообще-то ты права. Подумает, что я все восемь лет его платок с головы не снимала, раздуется от гордости и вовсе отупеет.
Она рывком развязала и сдернула платок. И Соня вдруг с изумлением разглядела, что Манька хмурится вовсе не от злости! Просто – ей кажется, что так надо. А у самой глаза блестят, и вот-вот расхохочется.
– Мань, ты что?.. Ты… уже с ним видалась, да?
– Ну тебя, – Манька швырнула платок, – видалась, какое там. Он от своего милорда ни на шаг. Да ты что, – резко обернулась к Соне, – думала, я сомневаюсь? Да я… Он же дурак, Крошечка. Такой дурак!.. – голос у нее вдруг задрожал, она, не глядя, плюхнулась на кровать и запустила обе руки в растрепанные волосы. – Я просто поверить не могу, Сонька! Он приехал! Взял вот и при-е…
И Манька разрыдалась. Рыдала она с наслаждением, взахлеб, и от Сони не требовалось никаких утешений, надо было просто сидеть рядом и внимать.
– Я ведь уже не ждала. Год, а то и боле. Как рассказали Божьи люди-то… Помнишь? Про алтайскую-то общину, что казаки расстреляли? Да нет, ты ж не знаешь. Я тебе не сказывала…
Соня ахнула:
– Господи, почему? Ты, значит, думала, что он погиб? И никому ни словечка?!
– А толку-то? – Манька мотнула головой. – Пожалишься, он и встанет? Я, Сонь, думала, что уж кто, кто, а он самый первый на пулю нарвется… И не ждала. Вот дура!
Всхлипнув, она быстро встала, схватила первый попавшийся платок.
– Пошла я, ладно?
– Умойся, – Соня улыбнулась, остро жалея, что не умеет рыдать так, как Манька – от души, с воплями и подвываниями.
– Это обязательно! Не хватало еще, чтоб он меня… с красными глазами…
Стукнула дверь, торопливый топот босых ног растаял в глубине дома. Соня посидела еще. Долго поправляла и укладывала смятую подушку. Потом пробормотала вполголоса:
– А у меня ничего. У меня – ничего…
Крошечка сморщился, с силой потянул ноздрями воздух. Только б не задохнуться… такое с ним бывало иногда, как начнешь раздумывать да вспоминать. Когда отпустило, наклонился, расстегнул здоровенный, с ремнями и замками, чемодан. Довольно блажить, надо дело делать: проветривать милордову одежу. Камердинер, мать твою… кто слово-то такое дурацкое выдумал.
Внезапно он выпрямился и, трусливо помедлив, обернулся.
Манька стояла в воротах, держась обеими руками за приоткрытые створки. Взгляд из-под низко повязанного платка – острый, мрачный. Крошечку, еще стоявшего спиной, он обжег как пчелиный укус. Но, оказывается, она не на него вовсе глядела. Она кого-то искала во дворе. А он – вот, прямо перед ней! Что он, что столб у коновязи… Тут ее сзади толкнули – встала, мол, мешаешь! – и она, лениво огрызнувшись через плечо, вошла во двор. Теперь их разделяло шагов едва ли десять.
Может, она меня не узнала, то ли с тоской, то ли с надеждой подумал Крошечка – а сам уже выговаривал наждачными губами:
– Привет, Мань.
– Привет.
Не узнала, как же.
– Чегой-то у тебя? – глянула с равнодушным любопытством на клетчатое пальтецо с пелериной, свисавшее у него из рук.
– Да вот… англичане…
– А. И чего они? Дрыхнут?
Крошечка, опустив голову, озадаченно уставился на пальто – даже встряхнул, – честно пытаясь сообразить, чем могут в эту вот минуту заниматься англичане. Манька, подождав немножко, повернулась и неторопливо пошла обратно к воротам.
Она уходит насовсем, подумал Крошечка. Пришла вот – а я… Откуда ж ей знать, что я… Она ж вон какая гордая, Манька-то!
Насовсем. Точно! Еще минутка-другая – и ничего не поправишь, хоть всю жизнь в ногах валяйся! Крошечке сразу полегчало, потому что теперь надо было действовать немедля, а уж это он умел куда лучше, чем говорить.
В полшага догнав Маньку, он схватил ее, прижал к себе крепко, да еще прикрыл милордовым пальтецом, чтоб она уж точно не смогла вырваться. Она пыталась освободиться с такой отчаянной злостью, что в какой-то миг ему стало худо от ужаса: он, значит, все понял не так, и не к нему она пришла, не нужен он ей!
– Дурак, – сквозь зубы выдохнула Манька.
– Дурак, точно, – согласился Крошечка. Ему опять стало легко, да так, что руки задрожали от слабости. Но ее он не отпустил.
Лорд Александер, стоя у окна, с меланхолическим смирением взирал на свое пальто, которое великолепная парочка, застывшая посреди двора, самозабвенно топтала ногами. Мистер Барнеби подошел и тоже выглянул.
– Бог мой, – пробормотал, отступая, – если все русские слуги таковы, страшно представить, что ожидает Россию.
– Причем в самом скором будущем, – лорд Александер покосился на мистера Барнеби и улыбнулся. – Если верить мистеру Ачарье Дасе, то нам, британцам, это даже выгодно…
Широкий ручей, не слишком торопясь, по-летнему вальяжно втекал в разливы. Над каменистым, обмелевшим к июлю потоком охотились десятки больших стрекоз.
Софи и Майкл Сазонофф сидели в тени на берегу ручья на огромном, уже обросшем мхом и лишайниками стволе поваленной лиственницы. Расстояние, которое разделяло их, было не меньше сажени, и казалось странным.
С самого утра Софи пребывала в беспричинном вроде бы раздражении. Может быть, виною – погода, думала она.
С утра гроза ходила кругами по горизонту, ворчала, истомила всех донельзя. Много после полудня пронесся предгрозовой порыв ветра, согнул деревья, разливы покрылись тревожными мурашками. Однако, опять ничего не случилось.
Так же и между ними все казалось предопределенным, но ничего не происходило. После первой, драматической встречи в собрании они ходили врозь, разговаривали вежливо и почти всегда на людях. Причем люди эти сразу же начинали неловко ежиться и быстро куда-то исчезали. Иногда казалось, что если Софи и мистер Сазонофф приблизятся друг к другу еще хоть на вершок – полетят искры. Эту напряженность чувствовали не только они сами, но и все вокруг…
Почти сразу же узнали друг о друге основное: она, как и собиралась, – замужем за Петром Николаевичем, у нее двое… нет, теперь уже трое детей. Он – тоже женат, имеет дочь. Она – приехала в Сибирь выручать брата. Он – по концессионным делам вместе с англичанами, действительно прямиком из Лондона, где последнее время и жил. Егорьевск… ну да, не в последнюю очередь приехал сюда и связался со всей этой мальчишеской историей с картой и кладами, отмеченными тремя крестиками, потому, что захотелось самому взглянуть на места, описанные в ее давнем романе, встретиться с людьми, которые ее знали…
Все было ясно и расписано наперед. Ни один, ни другой, зрелые годами люди, не собирались творить никаких безумств на радость егорьевским обывателям, наблюдавшим за ситуацией с пристальностью заядлых театралов, перед которыми вдруг, в глуши, вышли на самодеятельную сцену артисты труппы Императорского театра.
Но наперекор всему… все казалось предопределенным. Каждый день, каждый час, когда они не видели друг друга, обоим казался попросту потерянным, досадливо выброшенным из жизни…
– Скажи, Михаил, а отчего ты стал Сазоновым? Скрывался?
– Нет. Просто «Туманов» – это же была придуманная мною самим фамилия. И… она мне после всей этой истории с Ефимом и баронессой надоела. Сазонов – такова была фамилия моего отца. Так что теперь все правильно.
– А история с твоей гибелью?
– Здесь… я хотел окончательно освободить тебя. Чтобы ты могла выйти замуж, жить, не опасаясь, что в один далеко не прекрасный момент я опять возникну на горизонте. Все так и вышло, как я задумал. Только я не мог предположить, что расследование станешь проводить не ты, а Саджун.
– Почему же?
– Я звал ее с собой, когда уезжал. Она отказалась. Саджун не из тех, кто меняет свои решения. Зачем ей было после искать меня?
– У нее была причина… – задумчиво сказала Софи.
– Какая же?
– К чему тебе знать? Ведь Саджун все равно уже нет в живых…
– Бедная Саджунечка… Мне так жаль…
– Мне тоже, – суховато заметила Софи.
– А что же… ты как-то неуверенно говорила о количестве ваших с Петром Николаевичем детей, как будто бы еще не привыкла к тому, что их трое. Последний из них недавно родился? Ты уехала спасать брата, бросив грудного малютку? Тогда от тебя должно еще пахнуть молоком… Жаль, что я не могу тебя теперь понюхать…
– Туманов, прекрати! – рявкнула Софи, но голос у нее ощутительно дрогнул. – Даже чопорная Великобритания тебя не изменила – ты все также вульгарен, как я тебя помню. Мои дети все уже довольно большие. А молока у меня, если хочешь знать, почти не было – мы сразу же брали кормилицу… И… расскажи мне лучше про свою жену… Где ты с ней повстречался?
– Это было в Египте. Вот странное место. Ты идешь по пустыне и ветер задувает твои следы. Прямо у тебя на глазах. Это так отрезвляет. От всех видов опьянения, ты понимаешь, о чем я?
Это – Александрия, Дельта. Здесь еще была какая-то библиотека. Она потом сгорела. Ты наверняка что-то знаешь об этом. Больше меня. Но я, когда там был, ты понимаешь, что я был далек от всех на свете библиотек, сгоревших и прочих. Там удивительный мир. В нем все теряется – идеи, чувства, страдания – все тонет в сырой сытости Дельты или растворяется и исчезает в пустыне. Как мираж. Александрия похожа на котел, а вся вода, которая там есть, на бульон – такой наваристый, что на берегах оседает жир и нечистая соль, похожая на пепел чьих-то надежд. Это нельзя сказать словами, потому что зрение и слух там постоянно обманывают, а ведущим чувством является запах. Описывать его нет побуждений. Я жил там проездом с юга Африки и торговал алмазы. Там очень специфический, но выгодный рынок драгоценных камней. Арабы – странные люди. Те, кто живет в городе, еще немного похожи на нас, хотя иногда мне казалось, что они просто играют на потребу европейцам, как актеры в театре, а когда публика расходится, весь их мир переворачивается легко и бесшумно, как песочные часы. У людей пустыни все черное и удивительно белые зубы. Они похожи на говорящие арбузы, их кровь течет по каким-то другим законам, может быть, в согласии с движением барханов в пустыне. Никогда нельзя уловить момент, когда араб уже проснулся и действует. Само их физическое присутствие с непривычки завораживает белых людей, эти канальи знают об этом и беззастенчиво пользуются. Сначала я не понимал этого фокуса, и постоянно проигрывал в переговорах и торговле…
– А твоя жена? Вы встретились и ты подарил ей свои алмазы?
Туманов рассмеялся легко, как будто бы встрепенулась под ветром шелковая занавеска.
– Нет, конечно! Мне это даже не пришло в голову. Встреча с тобой навсегда отбила у меня охоту дарить драгоценности. В ближайшей лавке я купил и подарил ей фигурки Юниса и Азизы. Они были сделаны из вареного сахара и обернуты в блестящую фольгу. Очень красиво.
– Кто это – Юнис и Азиза?
– Вечные юные влюбленные. Фольклор Дельты.
– Как это романтично! – улыбнулась Софи и улыбка ее была похожа на шелест крыльев мотылька, умершего и высохшего между рамами. – Расскажи еще, ты восхитительно рассказываешь, когда хочешь… Я до сих пор помню, как в игорном доме ты рассказывал мне про китов…
Мужчина послушно рассказывал еще и еще, боясь остановиться, переходя от одного к другому, хотя в глотке у него уже пересохло, и язык едва ворочался во рту.
Он видел так много всего, что ей порою казалось: на выпуклые глаза Туманова, как на маленькие глобусы, наброшена сетка параллелей и меридианов.
Это было удивительно и тревожно. И все обещало. Она отвыкла от этого чувства и не чаяла испытать его вновь.
В которой между Софи и Тумановым происходит то, что должно было произойти, Софи и Вера беседуют о сущности любви, а лорд Александер рассказывает мистеру Барнеби много интересного
Вечером, в своей комнате в «Калифорнии» Софи читала.
Туманов и англичане жили в «Луизиане». То есть, сначала они, как и в прошлый раз, остановились в «Калифорнии», а потом, по требованию мистера Майкла Сазонофф, переехали в «Луизиану». Илья загадочно улыбался. Роза еще раздулась и едва не лопнула от гордости. Аннушка сбилась с ног и даже слегка похудела, пытаясь угодить бабушке и англичанам одновременно. Вера Михайлова вместе с Матвеем приехала в Егорьевск и поселилась в «Калифорнии» же, в комнатах рядом с Софи. Когда Туманов был занят (чем это, интересно?!), переводила для англичан. Машенька пыталась подрядить для этой же цели сына, который полгода прилежно учил английский язык, но Шурочка так увлекся своей новой деятельностью, что буквально не имел и минуты свободной. Вера, когда узнала от своих осведомителей про Шурочкины начинания, одобрительно расхохоталась, бесстыдно, среди бела дня пришла на гордеевский огород и сделала свои ставки. Машенька едва не задохнулась от злости. О теме и сумме Вериных ставок Шурочка отказался говорить даже с Матвеем: тайна клиента!
Англичане тоже не говорили ничего существенного, один раз съездили на Мариинский прииск и готовились к охоте на кабана-секача. Петя весьма успешно объяснялся знаками с мистером Барнеби, который оказался страстным охотником, и спустя несколько дней уже звал его Ивлином. Мистер Барнеби называл Петю Питером и вместе с ним заглядывал в дула ружей и щупал лапы у народившихся щенков. Кроме того, мистер Барнеби, который так и не сумел оценить прелесть национальных русских закусок, вполне отдавал должное ежевичной настойке, и с удовольствием наполнял ею плоскую металлическую фляжку с монограммой, которую всегда носил с собой. Лири он объяснял, что национальный сибирский напиток позволяет ему успешно преодолевать прочие национальные особенности местного колорита. Такое внезапно обнаружившееся родство душ между Ивлином и Питером даже Марье Ивановне представлялось удивительным.
Если непонимание все же оказывалось фатальным, то приятели заглядывали к Шурочке в сарай и проясняли все с его помощью.
Кроме того, мистер Ивлин Барнеби был очарован красотою обеих Петиных дочерей и не скрывал этого. Музицирование же Лисенка произвело на обоих англичан почти ошеломительное впечатление. Оба были весьма музыкальны, могли оценить масштаб дарования девушки, не ожидали услышать ничего подобного в глуши и… от милорда Александера тут же посыпались предложения – одно другого занимательнее и авантюристичнее. Например, он предлагал пятидесятилетнему холостяку Барнеби немедленно фиктивно жениться на Елизавете, вывезти ее на Британские острова, где он, лорд Лири, устроит ей всевозможные прослушивания и уроки, а потом переправить Лисенка на континент… Единственной проблемой на пути к браку представлялось то, что мистер Барнеби вовсе не желал становиться православным, а священника, который мог бы немедленно крестить Елизавету в англиканскую веру, в Егорьевске как-то не наблюдалось… Шурочка, переводя всю эту бодрую ахинею, в какой-то момент даже пожалел о том, что не уступил в свое время матери и не выучился играть на рояле. Кто знает, может и у него обнаружился бы талант?
Туманов вошел без стука и остановился пороге, держась за притолоку обеими руками и словно придерживая трактир на весу.
Книжка, которую читала Софи, упала на коврик, подогнув страницы, как кошка – лапы.
– Прогони меня! – потребовал он.
– Нет, – просто сказала она.
– Тогда вставай и пойдем.
– Куда? – удивилась Софи. – Почему?
Ей отчего-то казалось, что все произойдет прямо здесь, возможно, даже на коврике (Туманов за прошедшие годы стал еще огромнее, и теперь ей думалось, что на кровати он может просто не поместиться).
– Ко мне. Тут Вера, Илья, Аглая, Матвей…
– Но там – твои англичане!
– Они – высший класс. В крайнем случае просто закроют глаза и заткнут уши.
Когда они вошли в его комнату, он первым делом подошел к стене, открыл крышку и остановил часы.
– Зачем ты это делаешь? – спросила она.
– Арабский обычай, – объяснил он. – Когда в дом приходит гость, останавливают часы. Время так быстротечно, пусть оно стоит, когда ты почтил нас своим присутствием. Понимаешь?
– Да, понимаю, – согласилась Софи. – Это правильно и красиво, если гость действительно желанный.
– Ты – самый желанный гость в моей жизни, – серьезно сказал Туманов.
После Софи кричала в голос, нимало не заботясь о том, кто услышит и как истолкует ее крик. Все эти годы ей думалось, что она помнит, но оказалось на деле, совершенно позабыла, что это такое – быть с Тумановым.
– Я позабыла, Мишка, – задыхаясь, сказала она, когда все кончилось. – Я позабыла, как это может быть.
– Да, – Туманов кивнул. – Ты позабыла. Но я – помнил. Всегда.
Потом он лежал с закрытыми глазами, а она, приподнявшись на локте, разглядывала его лицо. Он постарел. И раньше не был красавцем, но нынче и само время произвело на его физиономии свои опустошительные маневры. Волосы поредели, сквозь них просвечивала серая кожа. Ресницы вытерлись и торчали короткой щеточкой, отчего покрасневшие и опухшие глаза казались какими-то голыми.
– Михаил, но что же мы теперь будем делать? – она шлепнула его по груди, села на кровати и до боли знакомым жестом подтянула колени к подбородку. Выражение ее лица тоже было знакомым Туманову – серьезным и сосредоточенным. Как делал когда-то, он протянул руку между ее лодыжек и приласкал. Софи возмущенно подпрыгнула.
– Ты!..
– Я, – улыбнулся Туманов. – И ты. Что мы можем в этом изменить? Ни время, ни расстояние не сумели. Что ж – мы?… Тысяча чертей! Как же я по тебе соскучился за все эти годы! Иди ко мне.
– Софья Павловна, я расскажу тебе смешную историю, – заявила Вера, садясь на стул напротив Софи. – У нас есть время? Кажется, есть, потому что у тебя пустое лицо. Сазонофф сегодня не явится?
– А что, так заметно? – встревожилась Софи.
– Не смешите меня, и не заставляйте думать, что вы поглупели, как прочие в подобных случаях… Любому было бы достаточно увидеть, как вы валитесь снопом в этой музыкальной шкатулке…
– Вера, скажи… Может быть, это просто влечение тел? Так сказать, зов плоти? Так, как и у животных бывает? Удовольствие, сугубо эгоистическое чувство… Ведь Михаил, конечно, по сравнению с Петей…
– Я же сказала: не смешите меня! – повторила Вера. – Одно от другого проще некуда отличить. Вот я вам сейчас два кузовка дам: один с радостью, другой – с болью. Себе или ему. Только по-честному. Первый – куда денете?
– Ему, – тут же ответила Софи.
– А второй?
– Себе… – прошептала женщина.
– Ну вот, Софья Павловна, а ерунду говорите! – укоризненно промолвила Вера. – Послушайте лучше меня. «Алкагест» помните?
– Смутно, – призналась Софи. – А что с ним такое?
Вера рассказала. Веселые калеки Ерема и Типан, не теряя времени даром, изготовили этикетки с названием и разъяснением, как и велела им Софи, и запустили новый продукт на егорьевский, мариинский и степной рынки. Успех превзошел все ожидания. Приисковые ломились за «возвращением к первоначальной сущности» едва ли не с самого утра. С Выселок приезжали на подводах и увозили продукт оптом. Самоеды по какой-то неведомой ассоциации узрели в «Алкагесте» некий давно предсказанный древними шаманами сакральный дух и, как индейцы перед испанцами, упали ниц перед новоявленным зеленым змием, отдавая за вожделенные штофы любую цену. На тракте «Алкагестом» торговали с колес. В штофных лавках его попросту не было. Ерема и Типан бросили на производство нового продукта все резервы, но честная технология требовала довольно длительной выдержки.
– Еще немного и на приисках начнутся «алкагестные» бунты! – усмехаясь, рассказывала Вера.
Притом, слухи о «явлении нового духа» передавались по таежному телеграфу, и недавно, в одно прекрасное утро жители Мариинского поселка узрели нечто доселе невиданное: запряженная в оленью упряжку нарта стояла на деревянных колесах! Низкорослые, облезлые олени тяжело поводили боками и жадно щипали свежую зелень. Изможденный чукча со впалыми от усталости щеками пыхтел трубкой и невозмутимо доставал из длинного, сшитого из целой тюленьей шкуры мешка связки голубого меха полярных лис и красивые поделки из моржовой и мамонтовой кости.
– Господи! Откуда ты взялся?! – вытаращились на него мариинцы.
– Приехал, однако, – сообщил чукча. – Денег у чукчи нет, товары алкагест мало-мало менять. Давайте, однако, скорее, очень ждут меня.
Для доставки желаемого продукта у гонца в нартах имелись сплетенные из прутьев корзины, выложенные оленьими шкурами. Когда ему сказали, что адекватного привезенному на обмен количества алкагеста придется ждать не менее двух недель, чукча тоскливо, как волк зимой в тундре, завыл. Догадливый Ерема тут же поднес несчастному охотнику стопочку. После второй гость ощутимо повеселел…
Теперь мариинские ребятишки катаются на оленях и пасут их вместе с коровами, а Татьяна Потапова по Вериной просьбе пытается хоть приблизительно перевести шкурки и костяные поделки в «алкагестовый» эквивалент… Чукча же тихо лежит у Типана на сеновале, и только иногда просит еще «пообщаться с духом»…
– Что мы по-вашему здесь делаем, Александер? – спросил Барнеби, вытягивая ноги и закуривая. – И что вообще происходит? Разъясните мне ситуацию, если вас не затруднит. Я, конечно, уже почти привык ко всему, кроме тухлой капусты и пудингов с рыбьими головами, но все-таки чертовски интересно знать… Ваш Сазонофф попросту самоустранился от всего…
– Вы помните, что говорил барон о несчастном детстве и несчастной любви, как основных составляющих формирования русского характера? Вот это мы с вами сейчас и наблюдаем…
– Но, получается, у Майкла Сазонофф очень давно несчастная любовь с этой петербургской леди Софией с ее двумя непроизносимыми фамилиями… Как это может быть? Когда это было? В его несчастном детстве?
– Скорее уж, в ее… К сожалению, подробностей я не знаю, поскольку не отношусь к числу конфидентов мистера Сазонофф…
– Но как же наши дела? Что мы делаем с золотом и этой вашей картой? И почему не возвращаемся в Петербург, а потом и в милую Англию?
– Прошу вас, успокойтесь, Ивлин. Я работаю. Просто это не очень заметно, так как я не хочу пока привлекать внимание к тому, что мы знаем и делаем. Сейчас для отвода глаз нам нужно договориться с кем-нибудь из местных промышленников о покупке прииска…
– С кем же из них вы собираетесь договариваться?
– Я склоняюсь к мысли о супругах Опалинских…
– Вот как? – удивился Барнеби. – А почему же тогда вы, милорд Александер, то и дело встречаетесь с той, другой… миссис Михайловой, кажется?
– Мне интересно с ней беседовать и… видите ли, Ивлин, у нее тоже есть карта! И похоже, сделанная той же рукой…
– Да неужели?! – удивление Барнеби все нарастало. – У Веры Михайловой тоже есть карта с крестиками? Значит, в России игра в кладоискательство распространена не только среди зрелых мужчин, как у нас на островах, но и среди немолодых женщин?
– Вера Михайлова очень умный, но совершенно не игровой человек, – сообщил лорд Александер, глядя куда-то за окно комнаты, в сгущающиеся сумерки. – На ее карте гораздо больше месторождений, чем на нашей (хотя «наши» месторождения там тоже отмечены), а, главное, три или шесть из них уже разведаны, залежи подтверждены и как раз там-то и стоят сейчас функционирующие прииски – «Счастливый Хорек» и «Степной».
– Вот как… – Барнеби потянул себя за бакенбард, явно не зная, что сказать. – И… и что же мы со всем этим будем делать?… Это может изменить наши планы? Вы должны понимать, что никто из компаньонов не рассчитывал всерьез на истинность этой… пиратской истории… Мне надо было бы как-то снестись с бароном…
– Барон, как вы знаете, подразумевал чисто колониальный вариант нашего общества в самом лучшем случае и именно под это готов был вложить деньги: компания утверждается в Англии, действует на основании английского устава, правление в Англии, акции котируются на Лондонской бирже. В худшем для русских случае все это предприятие в целом носит спекулятивно-грюндерский характер, то есть фактически, кроме выпуска акций, вообще ничего не происходит…
– Зачем вы читаете мне эту лекцию, милорд? – с плохо скрываемым раздражением спросил Барнеби. – В конце концов, из нас двоих юристом являюсь как раз я…
– Просто хотел напомнить вам, что оба русских с самого начала полагали, что мы действительно хотим вкладывать деньги в подъем сибирской промышленности… и мы вполне сознательно поддерживали у них это заблуждение…
– Вольно им… – начал Барнеби, скорчив презрительную гримасу. – Не думаете же вы теперь, когда увидели здесь все своими глазами, что с ними можно иметь какие-то дела?!
– Вы угадали, Ивлин, я сейчас думаю как раз над этим. Похоже на то, что нам просто не оставили другого выхода… Нашим переводчиком и доверенным лицом и в Петербурге и здесь был Майкл Сазонофф, и мы ни разу не попытались перепроверить… Как оказалось, напрасно…
– Почему? – с тревогой вопросил Барнеби.
– Помните английскую сказку, в которой все звери – кажется, там были волк, лиса, заяц, енот и кто-то еще – по кругу обманули друг друга? Вот и у нас получилась та же история… Как только Сазонофф заподозрил, что мы вовсе не собираемся на английские деньги поднимать экономику Сибири (а заподозрил он, с его-то умом и опытом, надо думать, очень быстро), он не стал предъявлять нам никаких претензий (а я, признаюсь, ожидал именно этого хода событий и заранее к нему готовился). Вместо этого он быстро и аккуратно повернул ситуацию в свою сторону. Ему тем легче было это сделать, так как по его виду и повадкам просто невозможно было предположить, чтобы он был так богат…
– Каким же образом… Что произошло?
– Произошло то, что теперь право на разведку и добычу золота, меди и свинца в тех местах, где мы с вами только что побывали, сроком на 36 лет принадлежит вовсе не князю Мещерскому, и не компании «Ишим-золото-корпорейшн», как вы, должно быть, полагали, а Михаилу Сазонову и барону Гольденвейзеру, с учредительной конторой в Петербурге и основным капиталом 125 тыс. фунтов стерлингов (на тот момент около 1, 25 млн руб.), из которых половина принадлежит мистеру Сазонофф. Если же одна из сторон не выполняет в срок взятых на себя обязательств по разработке этих самых сибирских недр, то другая во избежании убытков имеет право привлечь дополнительные русские или английские капиталы для создания преимущественного пакета…
Некоторое время мистер Барнеби молчал, переваривая услышанное. Потом спросил:
– Откуда же вы все это узнали теперь, сэр?
– От Веры Михайловой. Она перевела мне все бумаги, которые хранит у себя Сазонофф. Как раз в то время, когда он по какой-то своей надобности ездил в Тобольск…
– Но как… Ведь еще осенью она не знала английского языка…
– Она его просто выучила, мистер Барнеби, и это, поверьте, не более и не менее удивительно, чем все остальное. Вера Михайлова родилась еще в феодальном рабстве, которое в России называлось крепостным правом. До двадцати лет была неграмотной. Теперь читает и говорит по-английски, по-французски, на латыни, немного понимает немецкий, а также знает десятка три местных наречий…
– Я так понимаю, что у вас с ней сделались… весьма короткие отношения, милорд.
– Да, – кивком подтвердил Лири. – Весьма короткие…
– Но что же скажет барон?! – вспомнил Барнеби. – Я же, в конце концов, представляю его интересы. Как мы объясним ему…
– Да уж что-то скажет… – длинное лицо лорда Александера перечеркнула весьма выразительная, похожая на лошадиный оскал усмешка.
В которой Измайлов читает письмо Петра Николаевича, а Софи знакомится с художественными дарованиями Сони Щукиной
– Тетя Софи! Тетя Софи!
– Чего тебе, Стеша? – Софи сидела на солнечном пригорке над разливами и, отгоняя веткой мух, читала книгу.
Внизу Измайлов в одних подштанниках вместе с Людой, держа ее за руку, пытался зайти в воду. Люда вырывалась, поджимала ноги и визжала от страха и восторга. Карпуша наблюдал за всем этим издалека. Потом внезапно, молча, вздымая тучу брызг, со своего места бросался в воду и сразу же выскакивал обратно. Софи понимала, что это он так показывает Люде, что вода – вовсе не страшная. Люда, к сожалению, не понимала и только еще больше пугалась.
– Тетя Софи, а почему дядя Измайлов меня Стешенсоном называет? Я же – Стеша…
– Ну… ты когда-нибудь паровоз видела?
– Нет! Меня мама и Матвей каждый год обещают в Тавду свозить и по железной дороге проехать, но каждый раз обманывают. Все какие-то дела у них, дела…
– А помнишь, ты нам свою бочку показывала, в которой уголь под кастрюлей горел и она по деревянному желобу ехала?
– Ну конечно, это я на мамином прииске машину видела. А потом подумала, что ведь она и сама ехать может, а не только другое двигать…
– Стеша, ты, конечно, талант, и что-то с этим делать надо, – задумчиво сказала Софи. – Эта твоя бочка, она вообще-то и есть паровоз. А изобрел его как раз Стефенсон. Понимаешь теперь?
– Ага, понимаю! – обрадовалась Стеша. – Стефенсон-Стешенсон – получается рифма!
– Ага. А ты что – еще и стихи пишешь?
– Нет, стихи не пишу, – вздохнула Стеша. – У меня не получается. Стихи мама сочиняет и еще – Соня.
– Да? – удивилась Софи. – Соня пишет стихи? И что – и Вера до сих пор сочиняет?
– Угу, – подтвердила Стеша. – На разных языках. Папе Леке – на остякском. Папе Матвея – на русском. А еще кому-то – Соня говорила, по-французски…
– С ума сойти! – признала Софи.
Стеша сбежала с пригорка.
– Карпуша! – закричала она. – Карпуша, иди сюда! Сломай мне сейчас вот эту ветку! У меня сил не хватает!
Софи отложила книгу и внимательно наблюдала за детьми.
Мальчик, насторожено глядя, приблизился к девочке.
– Где? – отрывисто спросил он.
– Вот здесь, – указала пальчиком Стеша. – Я ее потом вон в ту дырку на дощечке вставлю, присоединю тот рычаг и…
«Крак!» Карпуша, не по возрасту жилистый и сильный, отломил толстую, гибкую ветку. Протянул Стеше.
– Пойдем туда со мной, – поманила его пальцем девочка.
– Нет.
– Не пойдешь? – удивилась Стеша. – Как же так? Ты же мне еще понадобишься, когда соединять надо… Ну ладно… А я думала, ты уже приручился…
Стеша направилась к своей очередной замысловатой конструкции. Карпуша, понурясь, плелся следом на некотором расстоянии. Стеша, по виду, не обращала на него никакого внимания.
Зато к Стешиному механизму уже подошли Измайлов и Люда. Измайлов что-то сказал Стеше, заспорил, потом растянулся на песке рядом с нею и начал увлеченно чертить палочкой на песке. Люда тоже взяла палочку и, присев, пыталась по-своему исправить чертеж. Карпуша поодаль залез на дерево, чтобы было лучше видно, и сверху наблюдал за всем происходящим.
– Вы знаете, Измайлов, вот я на вас смотрю, и вы меня просто бесконечно раздражаете! – сказала Софи, когда Измайлов оставил детей с корзиной пирогов и бутылкой молока и присоединился к ней (Карпуша мог есть вместе с детьми, но отчего-то отказывался принимать пищу в присутствии взрослых).
– То же мог бы сказать и о себе, но все-таки вместо этого осведомлюсь: чем именно я раздражаю вас на данный момент?
– Вы так здорово возитесь со всеми детьми, какие вам только попадутся, и как будто бы удовольствие от этого получаете…
– Но я действительно получаю от этого удовольствие! Что ж вы в том плохого увидали?
– А то, что это не рационально! – воскликнула Софи. – Коли вам это в удовольствие и детям в радость, то отчего у вас своих детей нету?
– Софья Павловна! – с грустной укоризной сказал Измайлов. – Вы ж знаете, что не всегда мы сами свою судьбу по своим желаниям определяем…
– Да-а?! – не шуточно удивилась Софи. – Не сами? А кто же за нас?… Кто это за вас, Измайлов, вашу судьбу определил, а? Чего-то я никого не вижу… и даже вообразить не могу…
– Если бы все у нас складывалось так, как мы желаем…
– А вот это уже совсем другое дело! Не передергивайте! – оборвала инженера Софи. – Я давно знаю: мир посылает нам не то, чего мы желаем (это было бы слишком просто и человека недостойно!), а то – на что мы осмеливаемся. Понимаете разницу?… Конечно, понимаете, вы же умны на свою беду, чего и спрашивать. Так вот, вы – вы, Измайлов, – при всей вашей любви к детям и умении с ними обходиться, просто – не осмелились! И наверное, уж и не осмелитесь никогда, если кто-то за вас не сделает…
– Что – сделает? – удивился Измайлов. – Детей? Я не понял. Вы про Господа Бога, что ли, говорите?
– Да причем тут Бог?! – раздраженно сказала Софи. – Просто вы трусите всегда в самый момент, и я волнуюсь…
– Ничего не понимаю! Объяснитесь, Софи! За что вы волнуетесь?… Что же касается детей, то мне, быть может, и близко к ним подходить нельзя… Вспомните Волчонка с Лисенком, когда они маленькие были… Вы же все знаете…
– Вот! – вскричала Софи. – Вот это то самое! Вы сначала ввязываетесь во что-то, а потом – трусите и убегаете. Волчонок, Лисенок, Зайчонок… Вы их в мир вывели, первым из нормальных взрослых людей увидели в них не зверенышей, а – личности. Они под вашим влиянием прошли инициацию, как у дикарей, знаете? Читали? Ну вот. Они же и были дикарями, по сути. А с вами – превратились в людей, это у вас талант такой, хоть вот и на Карпушу взглянуть… А потом… Да объясните вы мне: какого черта вам понадобилось лезть в петлю едва ли не у них на глазах?! Что бы вам было в лес не уйти? Еще куда-нибудь?
– Я не знаю… Я не помню теперь… – растерянно сказал Измайлов. – Я не думал…
– Вы не помните! Думать надо было! А помните ли, чем у дикарей обряд инициации заканчивается? Тоже подзабыли? Так я вам скажу: чтобы окончательно стать мужчиной, мальчик должен пойти и убить какого-нибудь опасного зверя. А в некоторых племенах, особенно кровожадных – принести старейшинам голову врага! Ни на какие мысли это вас не наводит? «Звериная троица» не может убивать животных – у них с ними залог побратимства, о чем и имена говорят. По примеру матери они с тайгой – едины. И врагов у них никаких особых не было. Зато был – у вас. Тот, из-за которого вы, как они понимали, едва жизни не лишились. То, что вы в петлю от собственной трусости и ощущения тупика полезли, – этого им в их годы не понять было никак. Вот они, ничтоже сумняшеся, и принесли в жертву своему взрослению вашего врага, этого несчастного провокатора Гаврилова, решив тем самым сразу две задачи. А уже потом, взрослея и дальше очеловечиваясь, врастая помаленьку в теперешнюю, конца 19 века культуру, постепенно понимали, что именно они совершили… И как они теперь, внутри, сами себя чувствуют и понимают, мне об этом даже и думать-то страшно… Анна была еще слишком маленькой и, кажется, они вдвоем сумели ее как-то от всего этого ужаса охранить. У Лисенка есть ее музыка… Весь груз, как я понимаю, сейчас несет на себе Юрий, Волчонок… И чем ему можно помочь, даже вообразить не могу…
– Софи! – сдавленным голосом сказал Измайлов. – Вы во всем правы. И все правильно разложили. Я бы сам так четко не смог, наверное. Но… но зачем вы сейчас все это мне говорите? Чего вы от меня хотите теперь? Чтобы я в церкви покаялся? Пошел и утопился? Не подходил больше к Карпуше, из страха, что он тоже что-нибудь такое… Что?
– Зачем говорю… – задумчиво промолвила Софи, снова взяла на колени отложенную было книгу, раскрыла ее и достала толстый конверт, вложенный между страниц. – Вот, я письмо из Петербурга от мужа получила. Не желаете ль прочесть?
– Прочесть письмо вашего мужа? К вам?! – переспросил Измайлов. Повороты Софьиного воображения уже едва ли не привычно изумляли его. – Разумеется, нет! Не хочу!
– Зря, – сказала Софи. – Я вслух не люблю читать. А до вас касается…
– Письмо Петра Николаевича… касается до меня?
– Да прочтите вы и не кривляйтесь, как институтка! – вконец обозлилась Софи и всунула в руки Андрея Андреевича два сложенных, исписанных мелким и красивым подчерком листка.
Потом демонстративно отвернулась и раскрыла книгу. Вспомнила, как она сама читала это письмо и усмехнулась, мимолетно посочувствовав недотепистому (как она его считала) инженеру.
Июля 16 числа, 1899 г. от Р. Х., С-Петербург
Здравствуй, родная моя!
Как там у вас в Сибири? Не соскучилась ли еще по родным местам и не думаешь ли возвращаться? Как поживают твои многочисленные персонажи и главный герой Андрей Андреевич Измайлов? То, что он тебя не пристукнул еще по дороге туда, считаю твоей и своей большой удачей. Теперь, я думаю, ему на свободе полегче. Передавай ему привет, если вы еще промежду собой разговариваете.
У нас, слава Богу, все здоровы. Даже Джонни летом поздоровел, посвежел, расстался со всеми своими болячками, и теперь весьма бодро ковыляет по садам и лужайкам, предваряемый Констанцией и Эсмеральдой, с попугаем на плече и котом в арьергарде. Сия комическая композиция уже стала для всех привычной, а беззлобный и дружелюбный нрав Джонни, как ты и предсказывала, снискал ему вполне заслуженную приязнь и среди прислуги, и среди деревенских жителей. Теперь его уже вовсе не пугаются и не сторонятся, а напротив, зовут к себе на двор, угощают и его, и зверье. По твоей просьбе я предупредил крестьян, что у Джонни слабый желудок, и лучше бы его вне дома не кормить, но они, кажется, к тому не прислушались. Во всяком случае, вернувшись с прогулок, все, включая кота и попугая, обедать отказываются регулярно.
Павлуша в своем репертуаре, ворчит, читает, осваивает вместе с Марией Симеоновной какую-то новую сельскохозяйственную машину, по возможности третирует Джонни и Милочку, обвиняя их в глупости, никчемности, излишней эмоциональности и нерациональной трате драгоценного времени. Что было бы, с его точки зрения, рациональным проведением времени для Джонни я, право, даже и вообразить не могу. Впрочем, иногда, будучи в хорошем настроении, он с ним даже занимается, и недавно с обоюдной гордостью они демонстрировали мне, что Джонни выучил едва ли не две трети букв алфавита, и может теперь прочесть свое имя и сам сложить из кубиков слово «Мила». Я, разумеется, бурно радовался.
Милочка, вдохновленная твоими, по видимости, рассказами (а может быть, и понуканиями брата), организовала в усадьбе летнюю школу для крестьянских девочек, и теперь каждый вечер по два часа (целый день все, даже самые маленькие, крестьянские дети заняты в хозяйстве) обучает шестерых премилых краснощеких крошек от семи до десяти лет чтению и письму на грифельной доске. Какие у них успехи, я поинтересоваться не удосужился, но из забавного можно отметить тот факт, что эту же «вечернюю школу» прилежно посещает наша кухарка Агафья, которой вдруг отчего-то приспичило на пятом десятке обучиться читать газеты. В плату за учение она обучает всех семерых девочек плести мережки. Образцы, которые изготавливает Милочка, я видал – очень красиво, похоже на зимние узоры на окнах или осенние паутины.
Милочкиным же попечением пополнился и наш зверинец: в сточной канаве за деревней она подобрала утонувшего котенка, сделала ему искусственное дыхание и поселила на кухне; в сарае живет выпавший из гнезда вороненок (надеюсь, что его скоро отпустят на волю – Милочка и Джонни ходят с постоянно расклеванными пальцами, а я все время опасаюсь за глаза); и еще откуда-то появился непонятной породы песик на трех лапках, вполне, впрочем, ласковый, тихий и дружелюбный. Теперь «домашние» звери – Кришна, Радха и обе левретки – бдительно стерегут вход в наши покои и не пускают туда «кухонных» – котенка и трехногого песика. Слуги с интересом наблюдают за этой войной и ратуют за «своих». Джонни и Милочка пытаются всех помирить, в результате оказываются искусанными, исклеванными и исцарапанными. Павлуша советует сдать Джонни вместе с его питомцами в зверинец и обещает его там навещать и приносить гостинцы. Милочка бросается на брата с кулаками, а Джонни уже очень нешуточно интересуется тем, кто такие «троглодиты», и не был ли один из них его папой. Придется, видимо, сводить его в зверинец или в цирк и показать шимпанзе, чтобы ребенок не думал, что «троглодит» – это он сам и есть.
Об Ирен, к сожалению, никаких вестей по-прежнему нет. Костя Ряжский, если верить его словам, развил бешеную деятельность, и даже нанял каких-то платных агентов для ее розыска. Но пока все безуспешно. Я пытался через Густава Карловича задействовать-таки полицию, но старик чего-то темнит, и вообще на удивление мало бывает в своей усадьбе, так как зачастил в город. Розы завязывают бутоны и цветут без него, что, в общем-то, странно. Я, между тем, попробовал сделать такую штуку, про которую прочел в одном английском романе: дал в трех газетах объявления, из которых можно понять, что мы ищем Ирен Домогатскую, и призываем ее откликнуться через газету же. Если она отчего-то прячется и боится объявиться, то, может быть, хоть через газету узнаем, что она жива. Хотя, если честно, Софи, то мне почему-то кажется, что ее уже нет в Петербурге. Ну где, у кого и, главное, зачем она может скрываться?! Если же ее прячут насильно, то опять же – кто и зачем?
Вот новость, которая тебя наверняка позабавит: твоя сестрица Аннет написала роман. Он называется «Увядание розы» и скоро уж должен выйти в издательстве Алмазова. Я просил, умолял, льстил и унижался, но почитать рукопись мне так и не дали. Честно сказать, боюсь даже думать о содержимом. Наталья Андреевна, между тем, гордится и всем рассказывает. Так что, учти, писателей в семье прибыло.
И наконец. Откладывать далее уже нельзя. Потому сейчас соберусь с силами и напишу все как есть.
Твоя подруга Элен Головнина, минуя благословение своего духовника, подала в Святейший Синод прошение о разводе со своим мужем, Василием Головниным. В прошении, разумеется, было отказано. Когда же Элен официально спросили о причине желаемого развода… –
в этом месте Софи, когда читала письмо, испуганно зажмурилась и отложила листок. Ей было нестерпимо страшно читать дальше. Ведь она знала то, что делало ситуацию попросту кошмарной: Элен Головнина никогда не умела врать.
Софи знала также, что Элен не уверена в чувствах Измайлова, и никогда, ни в каких своих самостоятельных действиях не станет упоминать его имени и даже намека не подаст на его существование. Проще всего ей было бы сослаться на супружеские измены Васечки (тем более, что и истина от этого не очень бы пострадала), но кодекс чести Элен…
С трудом взяв себя в руки, Софи снова опустила глаза к строчкам письма.
– …о причине желаемого развода, Элен с непроницаемым лицом сообщила, что Василий не удовлетворяет ее в постели.
– Господи, спаси! – Софи вскочила, выронила листок и закрыла лицо ладонями. Это было даже еще абсурднее и страшнее, чем ей ожидалось.
– …Сказать, что после этого разразился скандал, как ты сама понимаешь, значит – не сказать ничего. Если бы речь шла о ком угодно, но не об Элен Головниной, все это было бы лишь еще одной, но крайне пикантной светской сплетней. Но Элен… Это было просто падение устоев, катастрофа, и весь «свет» именно так это и воспринял…
Я, разумеется, сразу же, как услышал, приехал в Петербург, и предложил ей свое гостеприимство в Люблино, хотя Мария Симеоновна квохтала и пузырилась по поводу всемерного и всепроникающего падения нравов почти неделю.
Элен поблагодарила и отказалась. Если я правильно понимаю, она сейчас живет в родительском имении. Мальчики, разумеется, остались с отцом. Старший публично осуждает мать. Младший – плачет и чахнет. Василий Головнин ходит гоголем, но, само собой, уничтожен свалившимся на него неожиданным несчастьем и позором. Что делается с самой Элен – не могу даже вообразить. Когда я ее видел, она была мила, пухла и привлекательна как всегда. Ни в чем очевидно не раскаивалась и ни о чем не жалела. После такого безумного кульбита я, наконец, понял, что вас связывало, и что питало вашу дружбу с Элен все эти годы. Просто в Элен это было не так заметно…
После сего безумства писать, право, больше и не о чем.
Надеюсь уже скоро тебя обнять.
Софи с любопытством смотрела на дочитавшего письмо Измайлова.
От этого откровенного любопытства его тошнило и хотелось дать ей пощечину.
– Я должен был быть там, с ней, – мертвым голосом произнес инженер.
– Вы, Измайлов, удивительный все-таки человек, – заметила Софи. – Вы за жизнь были всем, везде и фактически делали все, что только и должен делать мужчина. Но только все это – либо не на том месте, либо не в том обществе, либо не ко времени. И всегда – категорически невпопад…
Чтобы не ударить ее, Измайлов резко поднялся и пошел напрямик через лес.
Софи подняла оброненные им листки, сложила их в конверт, конверт убрала в книгу и позвала детей.
– А куда дядя Измайлов убежал? – спросила Стеша. – Ему что, плохо стало?
– Ага, – согласилась Софи. – У него живот заболел. Понимаешь?
– Понимаю, – кивнула Стеша. – Понос. У меня тоже бывает.
– Вам правда нравится, Софья Павловна? – Соня даже побледнела от волнения. Бледность шла ей, делала ее простенькое личико тоньше и интересней.
– Гм-м… Да! Вот это вот с утками очень нравится, – Софи ткнула пальцем в картинку, на которой была изображена утиная семья, выбирающаяся из пожелтелых, осенних камышей. Где-то вдали, над горизонтом скапливались тучи, но вода перед камышами была еще тихой, светлой и прозрачной. Только расходились круги от бьющей крыльями мамы-утки… – Да, именно это. Если бы ты могла мне это подарить, я бы заказала у Варвары рамку и повесила у дочери в комнате. Я уверена, она была бы просто в восторге от этой картины…
– Конечно, я подарю вам… – тихо сказала Соня. – Вы это, наверное, специально говорите, чтобы меня утешить…
– А с чего это мне тебя утешать? – с ноткой возмущения спросила Софи. – Что с тобой такого стряслось?
– Я не том смысле, что стряслось, – робко улыбнулась Соня. – В другом. Знаете, как крестьяне говорят: «мне это видеть или слышать – утешно». Вот и вы хотели, чтобы мне тоже утешно стало…
– Ага! – сказала Софи. – Ты слова слышать можешь. Это хорошо… Стеша говорила, и стихи пишешь. Так?
– Так, – кивнула Соня, и краска снова отлила от ее щек и подбородка.
– Покажи! – тут же потребовала Софи. – Меня стесняться не надо. Я сама романы пишу, ты знаешь. И муж у меня поэт, так что – насмотрелась. Потому мне стихи показать, вроде как болячки – доктору.
Соня, не поднимая головы, подошла к полке, сняла оттуда книгу, перелистнула ее, вынула сложенный вдвое листок, протянула Софи.
Подчерк у Сони был крупный, но четкий и красивый.
Любовь моя – дикая кошка,
Живет в камышах, на Разливах,
Ловит птичек, рыбешку
Ищет в мелких заливах.
Луна – цыганское солнце
Тенями отметила шкуру.
Четыре черных полоски
И пять грязновато-бурых.
Весной, когда смолкнут вопли,
Ершистых котов у разлива,
Пушистая дикая кошка
Строит гнездо терпеливо.
В беззвездные хмарные ночи
Сводит от голода брюхо,
Но колыбельную песню,
Кошка мурлычет глухо:
Четыре пушистых котенка
Уснули, прижавшись лбами
К самой надежной защите –
К своей полосатой маме.
….
А в ночь дождей метеорных
Осенью, в час печали,
Четыре подросших котенка
Шагнут к камышовым плавням.
В их жизни все будет просто,
В их жизни все будет мудро –
Четыре черных полоски
И пять грязновато бурых.
Уйдут и не оглянутся
Высохшими слезами…
Любовь моя – дикая кошка,
Их провожает глазами…
Прочитав стихотворение, Софи некоторое время молчала. Потом сказала голосом, чуть более глухим и низким, чем обычно:
– Я, видишь ли, детей не люблю. Но у меня есть подруга, аристократка из аристократок, и вкус у нее, поверь, безупречный во всех отношениях. Вся столица это признает. Так вот она над этим твоим стихом слезами не раз умоется…
– Это комплимент, я понимаю. Спасибо, – тихо сказала Соня.
– Ни черта ты не понимаешь! – крикнула Софи. Соня испуганно вздрогнула и отшатнулась. – Ты! Дикая кошка! Я знаю, – Софи понизила голос и даже подпустила в него мягкости. – Тебе теперь надо из влажного зеленого грота девичества, где спокойно и прохладно, и вода журчит, и мягкие листики, выйти на яркий безжалостный свет. И неизвестно еще, что там станет. Это нелегко, кто бы стал спорить… Но либо ты это сделаешь, либо – засохнешь, превратишься в мумию самой себя. Потом, может, тебя в той пещерке археологи найдут, плоскую такую, коричневую…
Соня нерешительно улыбнулась.
– Решай теперь! – серьезно и почти мрачно сказала Софи, глядя на девушку своими неправдоподобными глазами. – Матвей – благородный и довольно сильный юноша, но кое в чем его самого нужно поддерживать. Если почувствуешь, что не сможешь, отойди в сторону…
– Я решу сама! – в летних полутенях комнаты блеклые Сонины глазки вдруг антрацитово блеснули. – Я и Матвей…
– Правильно, – одобрила Софи. – Только не тяни, девочка. Только не тяните оба…
В которой мистер Барнеби и мистер Сазонофф поют хором, Машенька является в «Калифорнию», а лорд Александер находит свою леди
В среду у Софи началось женское недомогание. Окончательной близости между ними не было, но каждую ночь он приходил к ней, они ложились вместе и ласками доводили друг друга до исступления. Днем Софи ходила нервная и измотанная, с черными кругами вокруг глаз. Туманов сердился и даже пытался протестовать.
– Чего уж там… Давай как люди…
– Нельзя, – качала головой Софи. – Нечисто…
– Чего тут нечистого?! – ярился Туманов. – Это ж ты… Обыкновенное дело. Ну искупаемся после, раз уж тебе неймется. А коли тряпки жаль, так что у нас, монет не достанет, чтобы новые купить?
– Не в этом дело, Мишка. Нельзя… Давай лучше поговорим. Соня и Матвей… с ними надо что-то…
– Послушай, Софья! – серьезно, приподнявшись на локте, сказал Туманов. – Отчего бы тебе не уняться уже, и не дать людям самим за себя решать, а? И Соня, и Матюша, взрослые уже вроде бы люди, а? Вспомни себя, когда ты еще моложе их была. Если кто брался за тебя решать, ты…
– А вспомни Аглаю и Илью! – тут же парировала Софи (припомнив, впрочем, что почти то же самое недавно говорил ей Петя). – У них, между прочим, днями свадьба будет. А до того двадцать лет решить не могли. Одна свою гордость тешила, а другой – и вовсе не понять что…
– Соня и Матвей – это не Илья и Аглая. Они слишком близки друг к другу, – медленно сказал Туманов. – Думаю, это им и мешает в чем-то. Им нужно разойтись теперь на какое-то расстояние, чтобы по-новому увидеть друг друга, а они на то не решаются…
– Как нам? – Софи непроизвольно вздрогнула и прижалась щекой к обнаженной груди Михаила. – Ох, не надо… мы слишком далеко разошлись и надолго…
Михаил обнял Софи и погладил по волосам.
– Твоя Вера… она так странно их воспитала… Ты знаешь, это даже смешно, но они оба ужасно похожи на молодых англичан из самого высшего круга. Я имею в виду не внешне, конечно (хотя в Матвее даже и снаружи есть что-то…), – повадки, это холодно-доброжелательное обращение с низшими, манера говорить, постоянно сдерживая себя и контролируя каждое слово… Даже то, что Соня бледнеет от волнения и не выносит толпы…
– Это все от Веры идет, ты правильно заметил. Она сама, как это ни удивительно, такая. Причем, именно столько, сколько я ее знаю…
– Ну да, не случайно лорд Александер только о ней и говорит… Я думаю, как раз сочетание ее крестьянских ухваток, предприимчивости и этой вот врожденной, получается, аристократичности и сводит его с ума…
– Что?! Что ты сказал?! – Софи откинула волосы с лица и уставилась на Михаила. – Повтори! Лорд Александер, этот лошадиноликий господин с вечной иронической ухмылкой… Ты, кстати, знаешь, что он везде ходит с огромным зонтом, и никогда с ним не расстается, даже если дождя и близко не может быть?
– Ну разумеется, – улыбнулся Туманов. – Лорд Александер – бывалый путешественник. Кроме всего прочего, в ручке этого зонта спрятан стилет и, кажется, еще пузырек с ядом. А когда он входит куда бы то ни было, сразу ищет взглядом подставку для зонтов, которая есть в каждом лондонском общественном или частном месте. Самсон в «Луизиане» в конце концов поставил в сенях старое корабельное ведро, которое непонятно откуда взялось в его хозяйстве. Сэр Александер очень ему радовался. Но иногда пьяненькие мастеровые справляют в это ведро малую нужду…
Софи рассмеялась.
– Но я правильно тебя поняла? Лорд Александер Лири без ума от Веры? У них что, роман?… Но ведь Вера значительно его старше!
– Ему 38 лет. А Вере, насколько я понимаю, сорок четыре… Но кого это когда останавливало? – улыбнулся Туманов.
– Ну да… – вспомнила Софи. – Ты и Саджун…
Не желая видеть печали на ее лице, Туманов решительно и весьма откровенно приласкал ее. Он знал наверняка, что это сразу же направит ее мысли в другую сторону.
– Мишка! Я же тебя просила! – с ласковой досадой воскликнула Софи, тем не менее возвращая ласку мужчине.
Туманов коротко застонал сквозь стиснутые зубы.
– Господи, Сонька, как это глупо, что мы попусту время теряем!
– Ну да, – садясь и подтягивая колени к подбородку, сказала Софи. – Тем более, что его уж и так почти не осталось… Но ведь все сложилось так, как сложилось, Мишка, и мы с тобой теперь уже не можем ничего в этом изменить…
– Добрый день, мистер Сазонофф! Простите, что я нарушаю ваше уединение, но могу ли я с вами сейчас говорить?
– Можете во всяком случае попробовать…
Сазонофф лежал на кровати в своей комнате, рядом, на полу стоял штоф водки и миска с квашенной капустой, от одного вида (не говоря уже о запахе) которой мистера Барнеби бросило в дрожь. Штоф был наполовину пуст.
«Несчастная любовь,» – обречено подумал англичанин и, достав из кармана плоскую фляжку с ежевичной настойкой, сделал изрядный глоток.
– Я близок к отчаянию, – признался он Майклу Сазонофф время спустя.
– А в чем, собственно, дело? – осведомился мистер Сазонофф без всякого видимого интереса. – Охота не удалась?
– С охотой как раз все в порядке. Я сам застрелил огромного кабана и получил огромное удовольствие, – Барнеби сделал еще глоток. Сазонофф тоже потянулся за штофом. – Но вся ситуация в целом… Вы знаете, Майкл, что я служу барону. Мой отец служил его отцу, мой дед его деду и так далее… Вы не родились в Англии, всю жизнь, как я понял, мотаетесь по свету оторванным листом, и вам, возможно, этого не понять, но если барон после этой поездки откажется от моих услуг, это будет катастрофа…
– А почему он откажется? – красноватые, припухшие глазки мистера Сазонофф взглянули на англичанина с проблеском любопытства.
– Мне кажется, что мы уже практически провалили возложенную на нас бароном миссию.
– Ну отчего же? – лениво возразил Сазонофф. – Концессия на Алтае принадлежит нам. Разведка практически закончена. Можно завозить оборудование, нанимать рабочих и начинать разработки. Если все правильно спланировать и отыскать нужных специалистов, то на следующий же сезон уже можно получить пусть небольшую, но прибыль… Что же касается местных дел, то… наверное, следует считать все это очередной пиратской историей о кладах, которые так любят в вашей пиратской империи… сэр?
– Мистер Сазонофф! Майкл! – Барнеби сделал еще один глоток, сложенной щепотью распушил бакенбарды и решился. – Вы догадываетесь ли о том, что барона в первую очередь интересует не разработка сибирских недр, а создание акционерного общества и продажа акций на бирже?
– Ну разумеется, я это знаю, – медленно, врастяжку улыбнулся Сазонофф. – И совершенно на него не в обиде… Что ж, это, как вы, англичане, говорите, – бизнес. Каждый крутится как может. А там уж – кто кого…
Барнеби, в голове которого шумело все сильнее, обескуражено смотрел на практически опустевший штоф. Майкл Сазонофф при том вовсе не выглядел пьяным.
– Майкл! – мистер Барнеби шмыгнул крупным, с красными прожилками на крыльях, носом. – Вы всех нас надули! А лорд Александер, сын герцога Уэстонского, спит с пожилой бывшей рабыней и клопами в одной постели, в которой до него, по слухам, уже побывали местный инженер, беглый каторжник и вонючий самоед, и ест с ней из одной миски тухлую капусту. И говорит – вы только представьте себе, Майкл! – что уже давно не получал от жизни такого удовольствия. А барон, узнав обо всем, просто вышвырнет меня на улицу без всякого сожаления, невзирая на все заслуги нашего рода перед его родом, и…
– Простите, Ивлин! – Сазонофф резко встряхнулся, покачнув кровать, и сразу стало видно, что он тоже не слишком трезв. – Лорд Александер ест – что? Капусту с клопами? И самоедами? Но… позвольте…
Спустя некоторое время Анна-Зайчонок с тревогой спросила у Самсона:
– Дедушка, а чего это англичане-то?… Они ведь между собой прежде и не говорили почти, а теперь давно уж закрылись у того, большого, сначала орали друг на друга, а теперь тихо совсем и вроде стонет кто… А он же себе водки наверх взял. Боязно мне, дедушка… Ты бы глянул…
Самсон, стараясь ступать потише (что при его габаритах, естественно, было никоим образом невозможно), подошел к незапертой двери в комнату Майкла Сазонофф, аккуратно приоткрыл ее и заглянул в образовавшуюся щелочку.
Барнеби и Сазонофф, обнявшись, сидели на кровати и довольно слаженно (голос мистера Барнеби был чуть выше, и он вел мелодию) выводили:
«Не повторьяй мнье имья той, которой памьять мука жизьньи…»
– Все в порядке, – кивнул Самсон внучке. – Поют…
– Марья Ивановна! Чувствительно рад видеть вас в моем скромном заведении! Желаете побеседовать на англицкую тему? – Илья Самсонович осклабился в подобострастной улыбке и каким-то совершенно холопским движением рукавом смахнул со стола не существующую пыль. Черные глазки его при этом остро блеснули.
– Нет! – Машенька ощутила недоброжелательство и раздражение против Ильи, который ей всегда нравился, и который вот-вот с нею второй раз через кузину породнится.
«А кто меня сейчас не раздражает?» – привычно одернула себя Маша.
– Скажите, Илья, Софи… Софья Павловна сейчас у себя?
– Д-да… У вас дело к ней? – Илья чуть поколебался, прежде чем ответить, а Маша разозлилась еще больше: «ее покой охраняет, боится, что побеспокою чем-нибудь! Все, все они… Что она им, в конце-то концов?! Ведь не было же ее… А теперь… Будто бы от меня добра никто не видел! – Машенька, едва не скрипнув зубами от досады, вспомнила, как Измайлов, с его добрыми тревожными глазами большой собаки, ловил падающую Софи, как все они вокруг суетились и кричали, как держал ее на руках и бесстыдно целовал при всем народе этот уродливый, но в чем-то ужасно обаятельный Сазонофф… – Но – почему?»
– Софья Павловна сейчас у себя, отдыхает. Вы к ней подниметесь или я доложу, что вы ее здесь ждете?
– Я пойду к ней, – Машенька ладонью нашарила головку прислоненной к столешнице трости, тяжело поднялась и двинулась к лестнице.
– Мари! Здравствуйте! Проходите, садитесь, где вам удобнее… Вот здесь? С Людой что-то стряслось? Заболела? Скажите! – Софи вскочила и больше не садилась сама, передвигаясь по комнате, как зверь в зверинце, неожиданными рывками.
– Вы удивлены, – криво усмехнувшись, сказала Машенька, и в ее словах не было вопроса. – С Людой все в порядке. Она хорошо кушает, играет, всем довольна. Привязалась к Неониле. Даже отца с матерью не поминает почти. Но мы ведь с вами и не говорили толком ни разу. Сначала с вами везде Андрей Андреевич ходил, теперь – мистер Сазонофф. Вы, кстати, зовете его Тумановым. Это что, кличка?
– Что-то в этом роде, – осторожно вымолвила Софи, и Марья Ивановна поняла, что она вовсе не настроена откровенничать по поводу истории своих отношений с загадочным англичанином.
«Ну и пусть! – решила она. – А я – все равно скажу!»
И сказала.
Говорила про прииски, про золото, про англичан, про подряды, про Шурочку и его будущее. О своем, личном старалась из гордости не упоминать, но оно, кажется, все равно прорывалось. Этот парадокс помнила с юности: Софи Домогатская казалась на первый взгляд ко всем и ко всему безразличной, но слушать, если уж взялась, умела удивительно. Так и хотелось ей все рассказать, без утайки. Вот и сейчас – вслушивалась внимательно, хмурила тонкие брови, явно пыталась понять.
– Это все наверное так, Машенька, как вы и говорите, – подытожила Софи. – Но только я в приисковом и прочем горном деле – ноль без палки, и разобрать не сумела, чем я-то вам подсобить могу? Измайлова, что ли, вам для пущей сноровки оставить? Так это не в моей власти, он – сам себе хозяин…
Машенька поговорила еще. Софи опять выслушала и, в конце концов, весело рассмеялась:
– А, так вы хотите, чтоб я мистера Сазонофф уговорила с вами дело иметь? О, Машенька, мне, право, жаль, но – так не по адресу! Мишку ничего заставить нельзя, если он уж решил. Коли он меня и выслушает, так для того только, чтобы наоборот сделать…
Машеньку будто крапивой ожгло от этого фамильярно-интимного – «Мишка», а главное – от ласкового света, который в этот миг зажегся и осветил холодную глубину серых глаз Софи. А могла ли она сама хоть когда-то ласково сказать мужу: «Митька»? Или… «Сережка»? А в постороннем разговоре?
– Но, впрочем, коли вам кажется, что может помочь, и вы для того даже ко мне пришли, так я, извольте, попробую…
– Правда?! – несказанно удивилась Машенька, помня, что Софи никогда и ничего попусту не говорит. Радость и облегчение осторожной лапкой поскреблись в затворенную дверь. – Вы действительно попросите его? Даже супротив Веры вашей?
«Ну, уж этого-то она не понимать не может, и смысла нету скрывать!»
– Да Вера сама за себя постоять сумеет! – улыбнулась Софи. – Вот уж кому моя протекция без надобности! У нее же теперь лорд Александер – радетель… Не слыхали еще новую – с пылу с жару – егорьевскую сплетню?
Новый пучок свежей крапивы. Машеньке казалось, что теперь, как от крапивы, лицо, шея, грудь ее должны видимо покраснеть и воспалиться. Вот так пообещать облагодетельствовать, походя оскорбив – в этом вся Софи Домогатская. Захотелось причинить ей, красивой, улыбающейся, любящей и любимой, хоть толику такой же боли…
Но в чем же моя ошибка? Я же тоже могла бы… могла бы стать… кем? Женой? Любовницей? Нет… Соратницей, так, должно быть, будет верно. Такому человеку, как мистер Сазонофф или мой отец… Да я и была ею, но почему-то не ощущаю никакого удовлетворения внутри. Отчего же не вышло? Поставила в жизненном забеге не на ту лошадь? Чепуха! Софи прожила жизнь с этим, как его… Петром Николаевичем, поэтом, родила от него детей. Сазонофф-Туманов в ее жизни – мираж. Это важно. Что ж она, всю жизнь мучилась? Я должна спросить…
– Софи, скажите, я хочу знать. Вы были счастливы все эти годы? Без него?
– Годами счастливы лишь идиоты, Мари, – серьезно ответила Софи. – Вы, наверное, хотите спросить, не страдала ли я, потеряв Михаила, по своей загубленной жизни? Нет! Я жила, работала, писала, родила детей. Пьер – чудесный, сердечный человек, его любовь и мое уважение подарили нам множество счастливых минут. Я ответила вам?
– О да! – Машенька с трудом удерживалась от того, чтобы не разрыдаться.
Как же она позабыла! Ведь это было уже тогда. Софи не ждала счастья, она носила его с собой в ридикюле или в кармане в виде облаток, доставала по мере необходимости и приклеивала на тот предмет, который казался ей подходящим. Подходящих предметов случалось множество. Поэт Пьер был не хуже и не лучше остальных… И эта неожиданная, почти философская мудрость, ведь это тоже случалось много раньше, в шестнадцатилетней девчонке… Она и тогда говорила иногда удивительным образом, как будто была много старше и много больше того, что она на самом деле есть – красивая, цельная, но в общем-то весьма просто устроенная натура…
– Отчего так, Софи, объясните…
– Это сложно сказать словами, но я попробую… Я всегда помню, просто не могу позабыть, чем и как, за кого я живу. Отец, Эжен, Иосиф, Лизавета, Михаил, когда я считала его погибшим, да и ваш, Мария Ивановна, батюшка… Все они дарили мне куски своей жизни. Очень щедро, не жалея. Я не отказывалась никогда, во мне, кто-нибудь скажет, разборчивости, по рождению пристойной, а я скажу: снобства высокородного – не было никогда. Теперь их, кроме Михаила, нет, а я вот – живу. Вроде мозаики детской, из кусочков сложенной. Без них меня бы такой не было…
«Как странно, – подумала Маша. – И в то же время – естественно. Отчего же я никогда так не думала? Ведь не только батюшка был, еще и Митя… настоящий Митя… А она… Вот счастливое устройство натуры: даже свои потери оборачивает в находки… Жить не за одного человека, а за нескольких. Например, француз, который, как я понимаю, двадцать лет назад умер… Да ведь и Вера ее так же живет, не в одну силу: Матвей Александрович, разбойник Никанор, остяк Алеша… А не упыри ли они обе? Прости, Господи, с нами крестная сила…»
– И что же вы теперь? С Михаилом… то есть с Майклом Сазонофф будете?
– Вы рехнулись, Машенька, что ли?! – грубо одернула Машу Софи. – Что вы подумали? Михаил женат, я – замужем. У обоих – дети…
– Ну, можно же как-нибудь… – нерешительно сказала Маша, почти напуганная злым отчаянием Софи. Впрочем, где-то в глубине ее души жила и подленькая, маленькая радость. И, вдобавок, еще одно, совсем уж диковинное чувство: ей просто до щекотки хотелось посплетничать теперь с Софи – кто, кого, да как любит и любил, как все сложилось и обернулось… – Коли вы своего Пьера не любили никогда…
– Ну и что ж с того? – пожала плечами Софи. Вместе с самообладанием к ней вернулось и знакомое высокомерие. – Что это меняет теперь? Он женился на мне и дал мне свое имя и свою любовь, когда я носила чужого ребенка. После того, как я сама уронила себя в глазах всего общества ниже, чем возможно. После того, как я буквально на глазах у всех вешалась на шею человеку, который меня потом бросил. Когда у меня не было ни копейки за душой, а лучшая подруга отказала мне от дома… Скажите, Машенька, только честно: ваш муж, Серж Дубравин или уж там Дмитрий Опалинский, поступил бы так? Вот если бы вы… ну, предположим, бегали по всему Егорьевску за Николашей Полушкиным, открыто жили с ним во грехе, а после были беременны от него?…
Машенька вздрогнула всем телом, и вознесла Богу искреннюю благодарность за то, что ничего подобного истории, приключившейся с Софи Домогатской, с нею не случалось. А ее вопрос… лучше не спрашивать, ответ и так известен…
– И вы полагаете, после всего этого я могу плюнуть Пьеру в душу?
– Нет, конечно, не можете! – честно сказала Машенька.
Правда, в ее голове не очень-то укладывалось, почему при всем этом Софи может едва ли не каждую вторую ночь проводить вместе с мистером Сазонофф, но… Кто возьмется понять Софи Домогатскую и ее кодекс чести?
Лампа не горела. За печкой, словно состязаясь друг с другом, стрекотали сразу два сверчка. Звезды ласково заглядывали в комнату сквозь неплотно сдвинутые занавески. Тень от ручки зонтика причудливо изгибалась на полу. Пахло малиной. Люди, неподвижно лежащие на широкой кровати, разговаривали по-английски. У обоих был легкий шотландский акцент и оксфордская манера произнесения слов.
– Сашенька…
– Что, маленькая?…
– Как странно ты меня называешь. Меня никто и никогда не называл «маленькой». Никому даже в голову не приходило. Я ведь большая… Но ты не думай, мне очень нравится…
– Я выше тебя на четыре дюйма. А моя худоба… Ну, ты же знаешь, что я – очень сильный! И ты тоже странно меня называешь…
– Много-много лет назад, еще до Матвея, у меня был сынок. Потом он умер. Его тоже звали Александром, по-русски ласково – Сашенька…
– Мне тоже нравится. Но… ты, получается, усыновила меня?
– Ты очень возражаешь?
– Нет, но… Мне хотелось бы еще…
– Разве я тебе в этом отказываю, Сашенька?
– Это все безумно странно, то, что между нами происходит… И не происходит… Иногда я попросту теряюсь… То, что между нами далеко не всегда бывает… ну, это самое… Но я… Черт побери все на свете, но мне и тогда хорошо с тобой! Мне никогда не приходило в голову, что можно вот так лежать в постели с женщиной и… разговаривать, и испытывать то, что я сейчас испытываю…
– Что же это, Сашенька?
– Сам не знаю, маленькая. Наверное, в нашем языке нет для этого слов…
– Может быть, «нежность»?
– «Нежность»? Не знаю… Мне хотелось бы выучить русский язык, но я далеко не так талантлив к языкам, как ты…
– Я обучила бы тебя, Сашенька, если бы у нас было больше времени… Аглая по Соне и Матвею говорила, что у меня неплохо получается. А Софи…
– Эта петербургская леди… кто она тебе? Что вас связывает?
– Она – моя бывшая хозяйка. Теперь, наверное, можно сказать – подруга… Я училась у нее…
– Ты? У нее? Не верю. Поверил бы наоборот.
– В ней есть честность перед собой и примиренность с миром. Я очень долго не могла этого достичь.
– Примиренность с миром?! – удивился мужчина. – Все, что я про нее слышал, говорит за то, что леди Софи – одна из самых мятежных натур, которые только можно себе вообразить.
– Это совсем не очевидно, Сашенька, но, может быть, ты потом поймешь… Скажи, там, в Англии, на родине, у тебя есть семья?
– Да, я женат уже тринадцать лет. Мою жену зовут Эмили. У нас двое детей. Мы были помолвлены с детства и поженились по сговору между семьями. Первое время после свадьбы в своей собственной спальне я чувствовал себя исследователем полярных льдов. Потом мне это надоело. Что нас связывает теперь? Иногда мне кажется, что Эмили тоже порою задает себе этот вопрос… Мой Бог! О чем я с тобой говорю?! Это просто чертовское нарушение правил хорошего тона!
– Не забывай, – Вера блеснула в темноте желтыми, змеиными глазами. – Я не аристократка, а бывшая рабыня. Ты связался с русской крестьянкой, Сашенька. Твой английский друг в шоке и ужасе. Я просто вижу, как его бакенбарды возмущенно топорщатся каждый раз, когда его взгляд падает на меня. Мне можно говорить все, что угодно, и… со мною тебе не нужно исследовать полярные льды…
– Да, да! – с благодарностью прошептал он. – Мне плевать, кто ты по происхождению! Мне плевать на напыщенного дурака Барнеби! А Майкл Сазонофф…
– Ну, уж он-то может нас понять! – усмехнулась Вера. – У него та же история, только наоборот: Софи, моя бывшая хозяйка – из старой русской аристократии, а его отец был ломовым извозчиком…
– …Плевать на Майкла Сазонофф и его неравную любовь! – почти темпераментно продолжил англичанин. – Ты… Ты – моя леди! Леди Вера… Это очень красиво звучит…
В темноте мужчине было не видно, что Вера покраснела от удовольствия и смущения. Он повернулся набок и обнял ее. Она потерлась щекой об его острое плечо.
– Сашенька…
В близости они были одинаково медлительны. Он прижимался к ее телу осторожно, как к незакрывшейся ране. Она почти не открывала глаз, на ощупь лаская его худое, длинное тело, и на сомкнутых ресницах ее висели слезы.
– Не плачь, маленькая! – дрожащим от нежности голосом шептал он и слизывал их языком.
В которой Софи пытается устроить дела Машеньки Опалинской, Николаша – свои собственные, а Шурочка, не без пользы для себя, демонстрирует образец дедукции
Сделает или нет? Зря ходила или не зря? Марья Ивановна кусала губы, чувствуя, как от нервного озноба разбаливается голова. Стыд, остатки злости и жалкого злорадства, а главное – мучительная нелюбовь к самой себе… Господи, да можно ли так жить! Наклонившись вперед, несильно ткнула тростью в спину старого кучера Мефодия:
– К церкви повороти.
Тот кивнул, подбирая вожжи. Маша подумала: вот ведь и он меня как облупленную знает. А как относится? Презирает? Жалеет? Важно ли это?.. Да, наверно, важно. Только она никогда определять не умела. То казалось: все хорошие, любят ее, глядят с улыбкой. И она среди людей – эдакая бабочка с тонкими крылышками. Так было в юности. И перед Митей она порхала бабочкой, обмирая: ах, может ли он хромоножку полюбить! – а в глубине души нисколько не сомневаясь, что – конечно, может, как же иначе-то.
Потом пришли другие времена. Как-то незаметно она привыкла смотреть на себя усталыми и раздраженными глазами мужа, Дмитрия Михайловича Опалинского. Да: ничего не получилось! Некрасива, неуклюжа, неумна. За что ни возьмется – надрыв и суета, а толку чуть. И все-то о себе, все о себе. Племянники неучами растут, рабочие с приисков разбегаются, родной сын и тот, чуть что, рукой машет: отстань!
Может, она просто родилась не тогда и не там? Ее место – в бальной зале какого-нибудь Тюильри. Огни, ароматы, бездумное круженье… Вот бы Софи-то посмеялась, подумала она, тяжело выбираясь из дрожек. И мне бы надо… Кто-то сказал (то ли мудрец античный, то ли егорьевский знакомый), что главное в жизни – уметь посмеяться над собой. Маша, в общем, была с этим согласна и честно старалась, но мешало недоумение: с чего смеяться-то?! Слезы одни! Вот и сейчас тоже: вспомнишь, как злобилась, на Софи глядя, как выспрашивала ее с жадным, стыдным любопытством – и так совестно…
Она поднялась на паперть, привычно оделяя нищих, не глядя на них и не вслушиваясь в их благодарственное бормотанье. Вошла в храм. Там в этот час было тихо и почти пусто. Матушка Арина Антоновна, сложив руки на коленях, сидела возле короба со свечами. Маша, подойдя, заказала обедню во здравие рабы Божией Людмилы.
– Не спит ночами и не спит, – пожаловалась, в ответ на озабоченный матушкин вопрос. – Нервная очень. Так ведь и понятно…
– Настойки моей надо, на шишечках, – живо предложила Арина Антоновна, – она, ты знаешь, от всего. От живота, от суставов… Я тебе к вечеру Павушку-то с ней подошлю.
Маша наклонила голову: спаси Бог!.. Они с матушкой в последнее время – после долгого бестолкового перерыва – опять задружились. Обеим было ясно – почему; и обе молчали, не решаясь даже словом коснуться запретной темы.
Опять ведь она, с острой ревностью подумала Маша. Я все о Фаниной судьбе сокрушалась, а она не успела приехать – и все решила вроде как мимолетом, каким-то таинственным способом, так что и не узнаешь ничего напрямую, остается слухами питаться.
Я, что – не смогла бы так-то? Ох, да куда мне…
Она остановилась перед иконой Покрова Богородицы. Икона была новая, привезена в церковь на Машиной памяти – лет двадцать назад. Она теперь часто вспоминала, как смотрела когда-то на яркие краски – киноварь, золото, лазурь, – жмурясь от восторга. Она тогда еще не знала ни Софи, ни Мити. Все было впереди…
Краски за двадцать лет почти не потускнели. Огоньки свечек отражались в цветной поверхности и серебре оклада текучей мозаикой. Высокая, тонкая, ломкая фигура Богородицы будто таяла в этих огнях, и белый плат в ее руках, как первый снег, стелился над крошечными домиками, деревьями, речкой…
– «…И молвила леди Изольда: «Сэр, не должно более мне с вами видеться, ибо наши чувства преступны, как мой супруг есть ваш благодетель». – «Воистину так», – ответствовал Тристан. И залились оба горючими слезами…».
Неонила и Людочка сидели на скамейке под сливами, обнявшись и уткнув носы в развернутую книгу. Вернее, в книгу глядела Неонила, а Людочка – на нее, вывернув голову и раскрыв рот, завороженная течением причудливой речи.
– Давай, давай! – заторопила, дергая за подол.
– Уж больно что понимаешь, – буркнула Неонила, весьма, впрочем, польщенная. И продолжала, удвоив энтузиазм:
– «Руки их меж тем переплелись сами собою»…
Шурочка, остановившись за смородинными кустами, радостно заметил:
– Обалдеть.
Марья Ивановна шагнула вперед, с твердым намерением взять Неонилу за ухо да отругать примерно: нашла тоже сказку для трехлетнего дитяти! Но остановилась. Загляделась на Людочку.
Ну, вот что особенного? Дитя как дитя. Сидит, болтает тощенькими ножками, русые волосы над слишком высоким лбом кое-как прихвачены лентой (Неонила, вместо этих дурацких книжек, лучше причесала бы ребенка!), розовые оттопыренные уши – прозрачные, как лепестки… До сих пор Маша не то, что не любила маленьких детей – просто не знала, как с ними обращаться. Сюсюканье и кудахтанье, так натурально выходившее у всех егорьевских женщин, ей не давалось. Попробовала когда-то с племянниками… те как зашипят: не подходи! – она и отступилась. С тех пор, стоило поглядеть на троих зверенышей, сразу вспоминала, как стояла перед ними неловкой дурой. Может, оттого и эта брезгливая неприязнь, которую в последние годы так трудно стало скрывать.
Да и зачем они ей, дети? У нее – Шурочка, один за всех; более чем достаточно. И то, что при одном звуке Людочкиного голоска в ней что-то больно сжимается и хочется схватить девочку на руки, спрятать, уберечь от неведомых и страшных напастей – все это ровным счетом ничего не значит.
– Слушай, мам, а ты попроси Софью Павловну: может, она тебе ее насовсем отдаст?
Маша изумленно обернулась к сыну – он смотрел на нее, безмятежно моргая, закусив зубами травяной стебелек. Хотела что-то сказать, но не нашла слов. Шурочка объяснил с легким вздохом:
– Ну, не слепой же я, вижу. Тебе как раз такую надо. Может, и внучка бы сошла… Но я, ты ж понимаешь, в обозримом будущем жениться не собираюсь.
– Шурочка!.. – сумела таки выдавить Маша.
Он засмеялся. Неонила испуганно ойкнула, книга шлепнулась в траву. Людочка протянула:
– Тетя Маша! – и заулыбалась во весь рот.
– Молоко пить! – строго сказала Маша, едва удерживаясь, чтобы тоже не расплыться в такой же бессмысленной младенческой улыбке.
– Скажи, Мишка, только честно, а ты, после всего… Ну, я знаю, что ты тогда в Петербурге сумел почти все превратить в деньги, и эти твои алмазы, и Англия… Ты теперь очень богат?
– Сонька! Тебе нужны деньги? – глаза Туманова радостно и предвкушающе блеснули. Софи поморщилась, вспомнив, как когда-то он пытался удержать ее, покупая ей все подряд. По всей видимости, с тех пор он не особенно изменился. – Я тебе дам! Что ты собираешься?… Впрочем, нет, не говори, мне все равно. Скажи только: сколько?
– Да не нужны мне твои деньги! – фыркнула Софи. – Я все эти годы тоже сложа руки не сидела, у меня теперь свои есть… Я хотела тебя попросить вот что: ты, если не разоришься от этого, то купи у Машеньки Гордеевой прииск, или продай ей, или деньги вложи, или что она там вообще от тебя хочет… Пусть там прибыль небольшая выйдет, или вовсе никакой…
– Опять о других печешься… – некрасиво усмехнулся Туманов. – Не надоело еще? Машенька-то Гордеева как на тебя глянет, так едва от злобы не задыхается, а ты…
– Ну и что ж с того? – Софи намотала на палец локон. – Надо же всю эту злобу как-то разгребать, что ли… Если можно что-то деньгами наладить, так это еще очень просто и легко выходит. Обычно-то не так… Мы как раз с Измайловым намедни на эту тему говорили…
– А ты слышала историю о том, как сын Марьи Ивановны ставки принимал? В том числе и на то, станем ли мы с тобой любовниками?
– Слышала, конечно. От Веры. Вера за нас пять рублей выиграла. Очень смешно. Мне Шурочка даже нравится, честно. У него мозги по оригинальной мерке сшиты, а это дорогого стоит. Я тут даже посоветоваться с ним думала… Хотя, конечно, скорее всего, мошенник из него выйдет, а более – ничего… Так что ж? Ты мне зубы не заговаривай! Сделаешь по моей просьбе то, на что там Машенькины чаяния направлены?
– А если откажусь?
– Я тебе сегодня вечером не отдамся! – темпераментно воскликнула Софи.
– И что: разве у меня теперь есть-таки какой-нибудь еще выход? – дурачась и подражая еврейскому местечковому акценту трактирщицы Розы, спросил Туманов, подхватил Софи на руки и закружил по комнате.
Она закрыла глаза от счастья и прижалась лицом к его теплой и сильной шее.
…В этом зимовье, слепленном из лиственничных бревен самоедами, однажды на святки – четверть века назад – они с Петрушей Гордеевым напились вусмерть и спали двое суток. Дрова в печке прогорели, мороз был, само собой, крещенский… Как не замерзли? Ни до, ни после он так не пил. Да и тогда – не в охотку, а для какого-то дела понадобилось. Николаша долго разглядывал бревенчатую стену с торчащим мхом и паклей, тупо вспоминая, какое же у него тогда было к Петеньке дело. Так и не вспомнил. В голову лезла ерунда: как дышали смолой сосновые поленья и рубиново переливалась моченая брусника в туеске, как деловито сновала, устраивая себе лежбище, Петина Пешка (первая? Или уже вторая?)… мокрой псиной от нее пахло, конечно, и он брезгливо морщился… Да, сейчас бы тогдашнюю-то грязь!
Сейчас в зимовье пахло не псиной, а плесенью и дерьмом. И ногами, не мытыми отродясь. Сгорбившийся на лавке Кныш источал эти ароматы, как какая-нибудь сандаловая свечка в гостиной у петербургских теософов. Кныша приходилось не только нюхать – с ним надо было еще и разговаривать.
– Совсем вы, разбойнички, шерстью заросли.
– Да ладно, барин, – Кныш дернул головой, по его ленивой интонации было очевидно: болтай что хочешь, да только и мы тебе не разбойнички, и ты нам не барин. Память у Кныша была отменная, и Николашу он узнал сразу. – Сказывай, что делать, а то зря сидим.
– Повтори еще раз, где эта Атаманова заимка?
– Да на Черном озере, на самом. Там страннички-богомольцы понарыли землянок. Голытьба, кресты нательные и те – на копейку десяток. Ихнему-то благородию Карпу Платоновичу когда еще говорили: разберись! Сколько там, в скитах этих, супостатов…
– Этот Карп Платонович – он уже знает?
– Все знает.
– И что?
– Да что. Сидит, репу чешет. Решается, – Кныш раздвинул губы в медленной ухмылке. Из-под длинной верхней губы зубов не было видно, казалось, их нет вовсе. – Вы не сомневайтесь, барин. Решится. Эта барынька, она и ему тоже… как-то эдак…
Он замолчал, а Николаша отвернулся, с силой потер ладонью лоб – боролся с нервным смехом. Нет, представьте, какова барынька! Всем ухитрилась наступить на хвост, даже Загоруеву. Кто на нее молится, кто проклинает. А кто – сразу и то, и другое.
Господин барон Шталь, пожалуй.
– А долго будет решаться – свистнем в Большое Сорокино, казачки и без него дорогу найдут.
– Главное, знать, что свистеть.
– Как же, барин. Мы, может, и не сильно грамотные, но соображаем. Домогатский Григорий Павлович с сестрицей и сообщниками. Все эти не наши фамилии, они, знаете, сами в голову лезут. Был бы Иванов-Петров, может, я б и не запомнил.
– Хорошо. Это дело уже пусть идет как идет. Теперь о другом.
Николаша, стараясь держать себя в руках и не торопиться, полез в карман за бумажником, вынул пачку денег, начал пересчитывать.
– Вот, – он бумажником подвинул горку банкнот по неровной поверхности стола – к Кнышу. – Это за англичанина. Сделаешь – будет еще столько же.
Кныш насупился. Сумма предлагалась как раз достаточная для того, чтобы оставить при себе всякие сомнения. Да к тому же – что особенного делать-то? Ну, взять мистера за жабры. Ножиком перед ним помахать: подпиши документ! Подпишет, куда денется. Эти европейские господа, они только на вид матерые…
– Шурочка, проходи сюда. Я вот хотела с тобой посоветоваться…
– Всегда к вашим услугам, Софья Павловна! – обманчиво наивные глаза паренька просто-таки лучились от любопытства.
Софи поискала в Шурочкиной внешности сходства с молодым Сержем Дубравиным. Ничего не нашла. Зато сходство с Машенькой просматривалось весьма отчетливо.
– Садись. Я сейчас расскажу тебе довольно длинную историю, а ты мне потом скажешь, что ты по этому поводу думаешь. Хорошо?
– Конечно, как вы пожелаете, – кивнул Шурочка. – А только что же…
– История эта произошла в Петербурге и к Егорьевску вообще никакого отношения не имеет. Мне просто в голову взбрело, чтобы ее свежий человек услышал. Решила, что ты по смышлености и пройдошистости подходишь как раз…
– Благодарствуйте на добром слове! – привстав, с улыбкой поклонился Шурочка.
– Цыц, шельма! – смеясь, прикрикнула Софи. – Сиди и слушай!
После она в подробностях, разумеется, не упоминая никаких имен, рассказала Шурочке об убийстве Ксении и исчезновении Ирен. Приступая к рассказу, полагала, что встретит серьезные трудности, объясняя подростку необычные способности Ирен и деятельность теософского кружка. Однако, сосредоточенно слушавший Шурочка почти сразу прервал ее размахивания руками по этому поводу, сказав: «Девушка-шаманка. И еще целый кружок. Я понял. Говорите дальше, Софья Павловна.»
По окончании Шурочка, подумав, спросил:
– Вам знать надобно, кто убил?
– Да. И еще, куда девушка подевалась.
– У вас мелкие деньги есть? – с цыганской деловитостью осведомился Шурочка.
Софи, ничего не спрашивая, достала из ридикюля кошелечек с серебряными защелками, открыла его и вывернула на стол. Шурочка аккуратно собрал раскатившиеся монетки и, нагнувшись, достал из-под стола упавший двухгривеный. Потом взял на столе лист бумаги, порвал его на небольшие, с четверть конверта кусочки и написал на них какие-то буквы. Софи с интересом наблюдала за его приготовлениями.
– Значит, так, – сказал Шурочка, разложив листочки в каком-то одному ему ведомом порядке. – Если бы вы спросили меня, то я сделал бы вот так! – он собрал со стола монетки и неравномерно, но быстро и ловко разбросал их по бумажкам.
– И что же это значит? – спросила Софи.
– Вот! – охотно объяснил Шурочка. – Это буква «К» – князь, на него мы ставим всего две копейки, потому что ему убивать собственную племянницу, а потом нанимать немца расследовать ее смерть вроде бы незачем.
– Но зачем же ставим? – удивилась Софи.
– На всякий случай. Мало ли что может быть? – философски заметил Шурочка. – Вдруг он просто всем глаза отводит…
– Теперь «ДШ» – девушка-шаманка. Она могла убить «П» – покойницу, а потом от страха и сбежать. Или вообще от раскаяния повесилась, как Иуда на осине. Но это вряд ли, потому что тогда ее давно бы нашли. Значит, на нее – гривенник.
– Отчего же так мало? Разве то, что она исчезла почти сразу вслед за смертью «П» – не улика?
– Потому что настоящие шаманы руками или оружием не убивают. У них, если задумали человека извести, другие способы есть. Девушка – настоящая шаманка?
– Да пожалуй что – да! – качнула головой Софи.
– Ну вот. Теперь «Ж» – жених шаманки. На него ставим полтинник.
– Господи, да зачем же ему убивать эту… ну, которая «П»?!
– Для себя – непонятно. Но, глядите: с одной стороны – его знакомую убивают, а с другой – невеста исчезает. А он – посередине. Оч-чень подозрительно. Я бы, пожалуй, еще двугривенный ему добавил… Вот так! Если он и не убивал, то уж насчет исчезнувшей девушки…
– Дальше у нас идет «У» – ублюдок князя. Вот ему, не колеблясь, кладем рупь.
– В чем для него смысл?
– Не знаю. Но уж очень густо он в эту кашу замешан. И положение его более чем двусмысленное. Из таких положений с чистыми руками не вылезают. Проще всего, конечно, предположить какие-то махинации с наследством… Далее у нас… далее у нас идет «Л» – любовница ублюдка. На нее – тоже рупь.
– Да отчего же так?! – возмутилась нешуточно захваченная игрой Софи. – Ну ладно, Ни… то есть, Ублюдок имеет мотив и возможность. Но его любовница! Она же женщина и вообще почти все время дома сидит… Почему на них одинаково ставим?
– Она вполне могла работать по его наводке. Например, он сказал: вот уберем с дороги «П» и сразу поженимся… Дальше у нас идет «С» – служанка покойницы. На нее – полтинник.
– Много! Служанка только проиграла от смерти хозяйки…
– Это если она под шумок не припрятала какие-нибудь, например, драгоценности… Которых ей вполне хватит безбедно прожить остаток жизни.
– А ты знаешь, Шурочка, это не так уж глупо… Служанка действительно вела себя как-то не очень естественно… Сразу пустила меня в квартиру, отдала собак, даже не спросила мой адрес… Кто у нас теперь?
– Теперь «ГШ» – главный шаман. Ему, по уже известной причине, больше гривенника по убийству не положено. А вот на причастность к исчезновению девушки я бы его еще проверил… Теперь «ПШ» – приспешники шамана. Им всем – по двухгривенному. Каждый из них мог иметь с «П» какое-то дело, про которое мы ничего не знаем. И среди них-то, как я понимаю, настоящих шаманов – раз, два и обчелся. Вот они, стало быть, вполне могли убить…
– Слушай, Шура, а вот здесь ты что, случайно, ошибся? Почему у тебя на «покойнице» рубль лежит?
– Ничего я не ошибся.
– Так что же она, по-твоему, сама себя придушила?!
– Нет, но она могла вынудить кого-то себя убить. Ну, например, вообразила себя о-очень большим шаманом и решила отправиться в их Верхний мир. И попросила кого-то слегка ей помочь… Или еще что-нибудь в этом духе. Вот здесь как раз легко объясняется, куда и почему подевалась девушка. Только представьте, что она не убивала напрямую, но считает виновной – себя…
– Здорово!.. – восхитилась было Софи, но потом здравый смысл снова возобладал в ней. – Ну, а душил-то – кто? Я, помнится, уже от кого-то такое слышала – духи, астральные сущности… Черт с ними! Удавку-то кто накинул?
– Да мало ли чего в столице можно придумать… – пожал плечами Шурочка. – Да хоть бы и та же служанка. За фамильный алмазный гарнитур взяла грех на душу и помогла жаждущей хозяйке в Верхний мир перебраться…
– Гм-м… – Софи задумалась.
Все вместе получалось не так уж и глупо. Особенно если представить, что именно беседы в кружке с «настоящей шаманкой» Ирен способствовали окончательному помешательству Ксении Мещерской. А уже после ее отбытия в «Верхний мир» Ирен могла догадаться о своем невольном участии в этом деле и… и что сделать?
– А где же теперь девушка, как ты думаешь? Ведь если бы она от угрызений совести наложила на себя руки, ее тело, как ты справедливо заметил, давно бы нашли…
– Я думаю, что, скорее всего, ее в невменяемом состоянии подобрал один из двоих: либо шаман, либо жених. Ублюдка и князя я бы исключил. А вот немца исключать не стал бы. Возможно, он держит ее у себя, и надеется на то, что, когда она придет в память, ее можно будет использовать в качестве свидетеля…
– Но этого не может быть! – воскликнула Софи. – Немец – наш сосед! Он знает, как мы волнуемся, и…
– Возможно, он охраняет девушку. Например, он связан с полицией и знает, что есть улики, вроде бы подтверждающие, что убийца – именно она. И, если девушка где-то в любом состоянии появится, ее сразу же арестуют…
– Н-да… – Софи накрутила на указательные пальцы сразу два локона. – Спасибо тебе, Шурочка. Ты действительно мне очень помог… Эти твои бумажки… Мне даже в голову не пришло бы все так разложить… Теперь я буду думать… Спасибо…
– Мне тоже интересно было… Так я пойду, Софья Павловна? – Шурочка поднялся. – А… Можно мне инвентарь на память взять? – юноша стыдливо кивнул на стол с рассыпанными по нему монетами. – Гляну, понимаете ли, и вспомню, как мы с вами злодея искали…
– Да забирай, шельма, забирай! – ухмыльнулась Софи.
Шурочка быстро сгреб монеты вместе с бумажками и вышел.
Софи невидящим взором глядела ему вслед.
В которой Софи устраивает маскарад, Туманов крушит интерьеры, а Марья Ивановна беседует с урядником Загоруевым и узнает много для себя интересного
В канун Успенского поста Софи устроила в собрании маскарад. Вообще-то праздник задумывался для детей и молодежи, но под влиянием приезда неугомонной Софи многие вполне зрелые годами егорьевцы как бы перенеслись на 18 лет назад и вновь почувствовали себя молодыми.
К разочарованию Марьи Ивановны, инженер Измайлов от маскарада отговорился и ускользнул, как и от прочих мероприятий Софи. Мистер Барнеби оделся в костюм охотника 18 века. Сазонофф нарядился пиратом. Ипполит Коронин изображал самоедского шамана, а Шурочка – англичанина в котелке, в клетчатой накидке и с зонтиком. «Звериная троица», не мудрствуя лукаво, нарядилась в соответствии с кличками. Сэр Александер вымазал физиономию углем, оделся в черный плащ, прицепил себе хвост и рога, сел в уголке, положив ногу на ногу, и сидел там с весьма надменным видом.
– Что это вы делаете? – спросила его Машенька (Шурочка охотно перевел).
– Вот, – не менее охотно объяснил англичанин. – Надел костюм Мефистофеля и жду, когда народ побежит продавать мне свои души. Вы, как я понимаю, первая? На чем сторгуемся?
Потолковав еще немного в том же духе, Машенька с удивлением обнаружила, что Софи Домогатская, по-видимому, каким-то непонятным образом все-таки выполнила свое обещание, уговорив сотрудничать с Опалинскими не только «Мишку», но и лорда Александера…
Софи между тем в противоположном углу в лицах рассказывала Васе Полушкину, Каденьке и Аглае Златовратским о проделках своих многочисленных зверей.
– И вот, представьте, ливретки спокойно дрыхнут на кровати, но тут приходит Джонни со своей попугаихой и…
– Софи! Вашего сына зовут Джонни? – удивленно спросил незаметно подошедший Сазонофф. – Почему так? Это же английское имя…
– Это… ну… – Софи не нашлась сразу, и тут же поняла, что выкрутиться не удастся. Туманов уже взял след.
– Пойдемте со мной, Софи. Мне надо с вами поговорить…
Софи послушно пошла вслед за Михаилом, который буквально волок ее за руку.
– Объясни!
Софи покорно вздохнула.
– Джонни – не мой сын. Он сын Саджун. Когда она умерла, я взяла его к себе. Он слабоумный, но кое-что понимает и вообще довольно мил и забавен. У нас в имении к нему все уже привыкли…
– У Саджун был сын?! – поразился Туманов. – Но… она же никогда не беременела… И вообще… Сколько ему лет?
Софи опустила голову и молчала. Ей было жаль Михаила, но помочь она ему ничем не могла.
– Софья, сколько ему лет?!
– Прекрати орать! – зашипела Софи. – На нас люди смотрят…
– К черту этот дурацкий карнавал! – сказал Туманов, срывая с глаза пиратскую повязку. – Пойдем ко мне сейчас же, поговорим толком… Иначе я…
– Господи, я уже забыла, как от тебя можно устать! – вздохнула Софи.
В прохладной гостиничной комнате Туманов схватил Софи за плечи и встряхнул ее так, что лязгнули зубы.
– Я спросил тебя, сколько лет Джонни!
– Джонни десять лет. Он – твой сын, Михаил, – сказала Софи. – Твой и Саджун. Прощальный подарок дхармы, как она мне это объяснила. И отпусти меня, пожалуйста. Если ты будешь меня трясти, от этого ведь ничего не изменится…
– Господи! Значит, я сбежал, а она… Да еще и ребенок получился больной. Она же всю жизнь мечтала и отчаялась давно… Бедная Саджун!
Софи отвернулась к окну и молчала.
– Софья! Прости меня, негодяя! – Туманов подошел сзади и обхватил ее руками. – Я должен пальцы тебе лизать, что ты Джонни не бросила. Что он тебе?… Теперь, когда мы в Петербург вернемся, я, конечно, заберу его к себе, но…
– Нет.
– Что?!
– Видишь ли, Михаил, дело заключается в том, что я не отдам тебе Джонни, а никаких прав на него у тебя нет.
– Что за чепуха, Софья?! – вскричал Туманов, отшатываясь от Софи. – Зачем тебе слабоумный ребенок Саджун? Что ты хочешь доказать или показать мне?
– Я никому ничего не хочу доказать, – устало сказала Софи. – Просто Джонни буквально с рождения боится мужчин. Особенно больших ростом и бородатых. И никогда даже не приблизится к тебе. К тому же у него больное сердце. Он потерял мать, дом, привычный круг и только-только привык к новым людям, полюбил их. Еще одного переворота судьбы он может попросту не пережить. Ты хочешь убить его?
– Конечно, нет! – смятенно пробормотал Туманов. – Но – почему? Почему он боится мужчин? Что за странная причуда?
– Вовсе нет, – возразила Софи. – Это было сделано Саджун из соображений безопасности. Ты, может быть, позабыл… и ты, разумеется, тут совершенно не при чем… ни сном, ни духом… – в голосе Софи против ее воли прорезались язвительные нотки. – Но обстоятельства сложились так, Михаил, что твой сын тоже вырос в публичном доме!
Туманов заревел так, что задрожали стекла. Софи, готовая к подобной реакции, успела выскочить в коридор и притворить за собой дверь.
Спустя пять минут испуганный Самсон круглил глаза и слушал, как англичанин мистер Сазонофф методично крушит обстановку у себя в комнате. Аннушка, по счастью, ушла на маскарад.
– Не волнуйтесь, Самсон, – утешала трактирщика Софи, которая сама выглядела достаточно спокойной. – И главное, не лезьте под горячую руку. Там, конечно, теперь одни щепки и клочки останутся. И тут уж ничего поделать нельзя. Но он потом, когда успокоится, за все заплатит. Даже с лихвой. Только не стесняйтесь запрашивать. Я его знаю, торговаться он не станет…
– Я могу так и сказать Розочке? Вы, Софи, действительно-таки хорошо его знаете, и не хотите просто так меня сейчас успокоить? – моргая покрасневшими глазками, спросил несчастный Самсон. – А то у Розочки вот-вот сделаются колики…
– Разумеется. Я великолепно знаю этого человека, и это не первый интерьер, который он крушит фактически у меня на глазах. Идите и успокойте Розу. Скажите ей, пусть она пока составит счет, а то вы сами что-нибудь позабудете. Это наверняка отвлечет ее от колик…
Потом она, заперев дверь изнутри, обнимала его посреди обломков мебели, и обрывков каких-то тряпок, а он, стискивая зубы, рыдал в ее объятиях, и все пытался и не мог рассказать какую-то кошмарную историю, после которой, будучи семи лет отроду, он сбежал из того публичного дома, в котором вырос сам.
– Ну, будет, Мишка, будет! – шептала Софи, стараясь не слышать того, что он рассказывал, а главное – не вдумываться в это.
Много раньше они договорились, что ей вовсе не обязательно знать обо всех испытаниях и унижениях, которые выпали на долю Михаила Туманова. Есть вещи, которые одному человеку про другого просто не нужно знать. Как бы люди не были близки между собой. Именно Туманов когда-то научил ее этому.
– Бедный Мишка, мой бедный, маленький Мишка… Тебя ведь тогда никто не пожалел? Давно, много лет назад? Давай я теперь тебя пожалею…
– Сонька, Сонька, Сонька… – шептал Михаил, растянувшись на полу во весь свой огромный рост и уткнувшись лицом ей в колени. – Я опять обидел тебя, а ты меня жалеешь… Я противен тебе? Злой, урод…
– Нет, Мишка, – просто ответила Софи. – Я знаю тебя таким, какой ты есть, и мне другого не надо… Сними одежду. Я попробую… я попробую приласкать тебя так, чтобы ты, наконец, позабыл обо всех этих ужасах. И помнил другое… Мне кажется, я знаю, как это нужно сделать…
– Какая же ты добрая, Сонька! – простонал Туманов.
– Я не добрая, я – просто практичная! – усмехнулась Софи. – Давай-ка я помогу тебе, а то ты, смотрю, совсем обессилел…
…..
– Скажи, Софья, – спросил Михаил некоторое время спустя, все еще слегка ошеломленный почти вызывающей интимностью тех ласк, которые Софи сочла возможным подарить ему в утешение (теперь он был уверен, что действительно никогда этого не забудет, и прямо сказал ей об этом). – Как ты думаешь, я смогу увидеть Джонни? Ну пусть хоть издали…
– Сможешь, отчего нет? А если решишься избавиться от бороды, так может, и не издали получится… После-то к нему привыкают, но при первой встрече Джонни производит… гм… поистине неизгладимое впечатление… А теперь уж нам пора одеться, привести себя в порядок и идти утешать Розу и Самсона. У тебя кошелек при себе? – деловито закончила Софи.
Туманов в ответ только тяжело вздохнул и поцеловал тонкое запястье женщины.
Урядник Карп Платонович Загоруев был в своем собственном мундире, но смотрелся посреди собрания едва ли не более ряженым, чем другие участники маскарада. Скучавшая в уголку Машенька случайно услышала, как он спрашивает Софью Павловну Безбородко, и подозвала Карпа Платоновича к себе.
– Софья Павловна ушла недавно вместе с мистером Сазонофф, – пояснила она уряднику.
– А куда же они направились, не изволите ли знать? – осведомился Карп Платонович.
– Да это трудно сказать, – туманно ответила Марья Ивановна. – Может быть, пройтись отправились перед сном… И Софья Павловна, и англичанин, знаете ли, уважают длительные прогулки на свежем воздухе для моциона… Более, чем всяческие сборища, тем паче – у нас, в глубокой провинции… Все-таки, знаете ли, одна из Петербурга, другой – из Лондона…
– Да-с, это, конечно, естественно вполне… – пробормотал польщенный доверительным вниманием Опалинской урядник. – Это вы справедливо сказали…
– А что же у вас за дело до Софьи Павловны? – словно между прочим осведомилась Машенька. – Срочное ли? Она, как уходила, просила меня узнать, если кто ее спрашивать будет, и после передать… Но если терпит, так вы лучше лично, конечно…
Слухи в Егорьевске распространялись со скоростью лесного верхового пожара, и теперь Машенька весьма небезосновательно полагала, что Карп Платонович вовсе не рвется лично встречаться с Софи Домогатской…
– Понимаете, Марья Ивановна! – урядник склонился к Опалинской и понизил голос. – Тут дело тонкого устройства, государственной, можно сказать, важности… А я вроде как должностную инструкцию нарушаю, осведомляя Софью Павловну, потому как… Потому как из сложившихся обстоятельств считаю себя обязанным вполне…
Тут Карп Платонович запутался, замолчал и осторожно поскреб обтянутую штанами заднюю поверхность бедра.
– Так вот вам выход! – легко улыбнулась Маша. – Вы расскажете все мне, как бы желая еще сведений собрать. Я, в свою очередь, все Софи передам, но вы об этом и подумать не могли. А с самой Софьей Павловной и словом не перемолвились…
– Да, пожалуй, так, как вы сказали, будет лучше всего! – облегченно вздохнул Загоруев. – Видите ли, у Софьи Павловны родной брат тут находился в ссылке, к северу 40 верст от Каинска будет, деревня Зарядье…
– А! – не удержавшись, воскликнула Машенька. – Так вот зачем она теперь приехала! С братом повидаться. А я-то гадала!
– Да дело-то в том, что брат ее из ссылки бежал… И как раз, аккурат после Софьи Павловны приезда… Жена его накануне в реке утопилась, а дочка вместе с ним делась невесть куда…
– Ага! – сказала Машенька.
Стало быть, Людочка – вовсе не безродная сиротка, из сострадания подобранная Софи на тракте, как было представлено ей, Марье Ивановне, и остальным егорьевцам. Девочка – родная племянница Софи. И, стало быть, все надежды самой Машеньки на то, что Людочка, возможно, останется у нее насовсем (ибо зачем она не любящей детей Софи?) – пустые совершенно. Никогда Софи не оставит в Егорьевске дочь бежавшего из ссылки брата. Разумеется, она заберет Люду с собой в Петербург… Но как это несправедливо!
– И вот теперь у жандармов вполне обоснованные, согласитесь, подозрения появились, – продолжал между тем Загоруев. – Сама-то Софья Павловна вроде бы и не причем, и на глазах все время, но ведь с нею-то для чего-то приехал еще и господин Измайлов, известный в прошлом полиции, как бунтовщик и прочее…
– Андрею Андреевичу что-то угрожает? – быстро спросила Машенька.
– Вот этого я наверное знать не могу, – вздохнул урядник. – Так как господа жандармы нас в свои планы не шибко-то посвящают… Но лучше бы им, ей и господину Измайлову, поскорее отсюда уехать!.. Да. Так Софье Павловне и передайте… Особенно, если братец ее действительно господина Измайлова или ее самой посредством бежали…
– Хорошо. Спасибо вам за предупреждение, Карп Платонович. Я понимаю, что вы не обязаны были… Я все Софье Павловне передам.
Карп Платонович шумно и облегченно вздохнул и, тяжело, торопливо ступая, покинул маскарад. Машенька же опустила голову и глубоко задумалась, не замечая веселящихся вокруг нее людей.
В которой Николаша Полушкин пьет водку, а Хозяин отдает старые долги
– Андрей Андреевич, я прошу вас… – Марья Ивановна сидела на стуле, напряженно выпрямившись в кругу светло-зеленого света, и показалась Измайлову похожей на русалку.
Как и при прошлом посещении Егорьевска, ведущим чувством его здесь с некоторых пор стала усталость. Хотелось немедленно уехать в Петербург (именно на этом, кажется, и настаивала сейчас Опалинская), и одновременно было мучительно страшно сойти с поезда на Николаевском вокзале и тут же, не заходя домой, мчаться… куда? Зачем?… Он не оправдывал ожиданий… Ничьих… Никогда… Сначала дядюшка, потом товарищи… «звериная троица», Надя, даже, кажется, – Марья Ивановна Опалинская. Но главное… боязно даже мысленно произнести имя – Элен… «И всегда – категорически невпопад» – вспомнил он безжалостное определение Софи Домогатской и едва не застонал от ощущения безнадежности и тянущей зубы тоски. Впрочем, та же Софи говорила и другое, по другому, причем, совершенно конкретному поводу (сам повод уже давно выветрился из памяти Измайлова): «Помните, что мы здесь вовсе не затем, чтобы оправдывать чьи-то ожидания. Хоть бы и самого Господа Бога. Мы – сами по себе». Хотел бы он уметь думать, а главное – чувствовать так… По сравнению со всем этим суета полиции и жандармов казалась нечувствительной абсолютно…
– Так вы считаете, что нам с Софьей Павловной следует немедленно уехать в Россию? Мы вам надоели? – Измайлов попробовал пошутить и по вытянувшемуся, несчастному лицу Марьи Ивановны увидел, что шутка не получилась. Внутренне обругал себя грязным словом и неожиданно почувствовал облегчение.
– Я бы уехал хоть сейчас. Но Софья Павловна еще имеет дела, а я обещал… одному человеку… ее назад доставить.
– Ее дела?
– Ее дела – это мальчик Карпуша…
– И связь с мистером Майклом Сазонофф, которого она зовет Мишкой Тумановым? – прищурилась Марья Ивановна.
Измайлов опять остро ощутил усталость. Женщины, все женщины, за одним исключением, утомляли его. Он их не понимал, не понимал их расчетливой страстности, их ревнивого отношения к жизни, настойчивого желания копаться холодными, цепкими пальцами в любой подвернувшейся душевной ране. Майкл Сазонофф ему, напротив, нравился, хотя за все время они едва обменялись парой реплик. Интересно, что такого он нашел в Софи Домогатской?
– Вы с Софи могли бы пока исчезнуть. Пожить у нас на заимке на Черном озере. Там живут божьи люди, останавливаются странники, там никто не станет вас искать. Дмитрий Михайлович мог бы отвезти вас туда… А я бы вас потом, при удобном случае, там навестила… Вы согласны, Андрей Андреевич? Поможете уговорить Софи?
Измайлов поежился. Заимка у Черного озера, бывшая ставка атамана Дубравина, вовсе не вызывала у него приятных воспоминаний. Но… возможно это был неплохой выход. Софи там быстро соскучится и захочет в Петербург. Созерцание лесных красот и общение с божьими людьми – занятия вовсе не для ее деятельной натуры…
– Спасибо вам за заботу и ласку, Марья Ивановна, – инженер встал и церемонно поклонился. – Я постараюсь доказать Софье Павловне целесообразность если не отъезда в столицу, то хотя бы нашего временного исчезновения…
«Как? Разве вы уже уходите? – хотелось спросить Машеньке. – Посидите еще… Выпьем чаю, поговорим…»
Разумеется, ничего подобного она не сказала.
Николаша Полушкин почти не пил водки. Вино, шампанское, коньяк – эти веселящие душу и расслабляющие тело напитки употреблял охотно, хотя и в них всегда знал меру. Водкою же брезговал с юности – считал напитком плебеев, да и слишком видал, что она творит с людьми. Себя Николаша любил и ценил, и к переходу в скотское состояние отнюдь не стремился.
Нынче же сидел на лавке в вонючем самоедском зимовье и, как воду, цедил уже второй стакан. Другой полуштоф, принесенный запасливыми душегубами, стоял на сколоченном из половинок бревен столе. Третий, давно пустой, который разбойники выпили, идя на «дело», валялся под лавкой. Легче от выпитого, надо отметить, не становилось ни на йоту.
Кныш явился с отчетом полчаса назад, выглядел обескураженным, и, почесывая грязную шею, заявил:
– Как хотите, барин, а только не выйдет у нас с вами ничего.
– Почему это?! – удивился Николаша. – Как это не выйдет, если все уж сделано? Деньги вам заплачены. Ты у меня не темни…
– Не подпишет он, и вовсе…
– Как это – не подпишет?! – взвизгнул Николаша. – А вы на что? Припугните его хорошенько. Так, чтоб он поверил, что если не денег с золотом, так жизни лишится. Нет таких людей, чтобы…
– А вот здесь, барин, как раз такой и вышел… – вроде бы и сам удивляясь, пробормотал Кныш.
– Что за глупость? – брезгливо повел плечами Николаша. – Я для чего вас нанял и денег заплатил? Чтобы вы не только его сюда приволокли, но и потрясли как следует…
– Верьте мне, барин, – вразумительно, как маленькому, объяснил Кныш. – Я всякое видал. Большинство людей хлипкое нутро имеют. Чуть надавишь, они и подались. Однако, редко, но бывает так, что коса на камень и никакого сходу… Вот этот англичанин или кто он там еще – как раз тот случай и вышел…
– Да вы верно не старались, канальи! – все еще не мог поверить в неудачу Николаша.
– Да пойдемте со мной, барин, сами и поглядите! – раздраженно проворчал Кныш. – Старались или не старались… Если б сам мог в такое поверить, так сказал бы, что ему – чуть ли не в радость… А как вы кумекаете, барин? – в голосе Кныша послышался людоедская какая-то любознательность, от которой Николашу передернуло. – Может, он как раз сектант какой-нибудь? Ну, их, английский, вроде наших хлыстов, а?
– Не мели чепухи! – отрезал Николаша и решительно поднялся, собираясь с силами и готовясь «пойти и поглядеть».
Поглядел! Вот удача-то. Теперь до смерти, должно быть, увиденного не забудет.
Сразу стало ясно, что обвинять разбойников в недостаточном «старании» – беспочвенно совершенно.
Потом стало страшно, что связался, платил деньги, разговаривал с этими. Бумаги, золото, концессии – на миг все показалось чепухой, не стоящей абсолютно ничего… Вот оно, то Зло, про которое бормотал в Петербурге блажной Ачарья Даса. И обитает оно вовсе не в астрале, эфире или преисподней, а прямо на нашей грешной земле. И творят его из обыкновенной корысти обыкновенные на первый взгляд люди… И он, Николаша, один из них… Господи, если Ты все-таки есть, смилуйся над всеми нами!
Едва переступая на ватных ногах, двинулся прочь…
– Эй, барин! – окликнул его товарищ Кныша, плешивый и приземистый, отличительной чертой которого были уродливые, словно скомканные с верхушек уши. – А с этим-то что теперь делать?
– Убейте и прикопайте так, чтобы звери не разрыли, – стараясь говорить твердо, ответил Николаша и пошел, стараясь прямо держать голову и спину. Казалось, что если сейчас даст слабину, то эти набросятся сзади и прикончат и его тоже…
…Водка кончилась. И там все тоже давно закончилось, наверное… Надо идти… Николаша тупо взглянул на свои руки, ожидая увидеть на них кровь. Крови не было. Пальцы крупно дрожали.
С трудом, цепляясь за стол, Николаша поднялся.
Главное, дойти до места, где в кустах, возле тракта привязан коняшка. А там Завиток вывезет.
Мерин брата Васи, Завиток, обычно смирный и даже флегматичный, нынче храпел и бил копытом.
«Неужели все-таки кровь чует? – вяло подумал Николаша, с трудом взгромождаясь в седло. – Далеко ведь…»
Знойный день плыл над городком, как липкая кедровая смола. Мутноватая дымка, собираясь на горизонте, неуверенно обещала грозу. На улицах не было видно никого, даже куры и воробьи попрятались от солнца. Еще до полудня проехал верхом, возвращаясь из Большого Сорокина, становой пристав Карп Платонович Загоруев. Скрывшись в своем доме, он задернул занавески и уселся за стол с граненым стаканом и бутылью, в которой смутно золотилась жидкость, чудно именуемая «Алкагест». Пил молча и сосредоточенно, изредка отодвигая занавеску и подолгу глядя на пустую улицу перед окном, будто чего-то ждал.
Он и в самом деле ждал. И дождался. Ближе к вечеру запылило вдалеке, послышался топот многих копыт. Совсем не такой топот, как от неторопливо бредущего стада (и рано еще было коровам возвращаться) – быстрый, слитный, жесткий. Однако же Марья Ивановна, услышав шум, решила, что это именно коровы. Она, в отличие от Карпа Платоновича, занавесок не поднимала. Сидела в гостиной за роялем, листала ноты. Вид желтоватых клавиш и линеек с хвостатыми значками вызывал в ней какое-то болезненное чувство, похожее на обиду. Вот ведь: училась когда-то, разбирала эти значки, отец инструмент из-за моря выписывал… А что теперь? Отец послушал бы рыжую Елизавету и сказал… Что бы он сказал?..
Казачья сотня пронеслась по Егорьевску, выдернув его из дремотного оцепенения. Залаяли собаки, заголосили птицы, поднявшись над деревьями, испуганно захлопали оконные рамы. Марья Ивановна обернулась, морщась. На секунду ей стало не по себе. Она как раз начала играть ноктюрн Шопена – решилась наконец прикоснуться к клавишам! – и ей показалось, что выходит хорошо, а из-за этого шума – сбилась. Подходить к окну и смотреть, что там, она не стала. Да если б и взглянула, успела бы увидеть только пыль, медленно оседающую над улицей.
Осела пыль, и над Егорьевском разлился неторопливый закат. Пунцовый свет вспыхнул в остатках «Алкагеста», еще не освоенных приставом Загоруевым.
– Что вышло, то и вышло, – смиренно пробормотал Карп Платонович, прислушиваясь к тишине и осеняя себя широким крестом, – оно и ладно.
И в этот миг тишину прервали шаги. Кто-то стремительно приближался по коридору, а за ним – еще один, семенил, не поспевая. Загоруев привстал было, но тут дверь рванули, крючок соскочил, и в кабинете появился высокий, худой длиннолицый англичанин: лорд Александер Лири. Он, как обычно, с интересом озирался по сторонам, однако любопытство его было на сей раз самого мрачного свойства, и что-то такое светилось во взгляде, за круглыми стеклами очков – от чего Карп Платонович попятился вместе со стулом, всерьез опасаясь, что вот сейчас его возьмут и застрелят из многозарядного револьвера. Услышал он, впрочем, вежливое:
– Excuse me, sir, – после чего англичанин обернулся и пропустил вперед училищного директора Левонтия Макаровича Златовратского.
– Dicere debeo?[1] – с достоинством осведомился тот.
– Cito, amice, cito! – лорд Александер, нетерпеливо взмахнув рукой, также перешел с английского на латынь. – Narra isti custodi legum ordine omnia…[2]
Пристав ошалело переводил взгляд с одного на другого, пытаясь понять, что это: пьяный морок или в самом деле – живые люди, только лопочут не по-человечески… ну, Златовратский-то всегда был с левой резьбой, а англичанин… на то и англичанин! Почему-то с каждой секундой ему становилось все страшнее.
– …Вы обязаны блюсти здесь закон, а не беззаконие, – вещал меж тем, переводя латинскую речь милорда, Левонтий Макарович, – невзирая на тяжелое детство и прочие неприятности. Я не понимаю – то есть лорд Александер не понимает! – почему армия должна разъезжать по городу в мирное время. Но это, в конце концов, ваши национальные особенности. Я, то есть он, готов с ними примириться…
Да я-то не готов, едва не ляпнул Карп Платонович, скребя ногтями шею под тугим воротником и с тоскою глядя на бутыль, в которой оставалось еще на два пальца целебной жидкости. Ни к чему я, братцы мои, оказался не готов. А тут вы еще. Морок, как есть морок…
– …Но речь идет о жизни подданного ее величества, каковым является мистер Сазонофф! И не говорите мне, что он отправился куда-то по своим делам и скоро вернется. Я уже наслушался нынче этой ерунды. Он попал в беду, это очевидно.
Левонтий Макарович умолк, и Загоруев опять услышал голос англичанина:
– Must find him! Immediately… – и сообразил наконец, что милорд растерян и встревожен донельзя. И Златовратский – тоже. Лишь осознание высокой миссии переводчика удерживало его от всплескиванья руками и бессвязных возгласов: беда, беда! Примите же меры, вас же на то сюда и поставили!
Беда. Еще одна беда. А то нам тут мало…
Кныш и его товарищ опасливо смотрели на окровавленного, привязанного к лиственнице человека.
– Ну, давай! – мотнул головой Кныш.
– А почему – я?! – ответил тот. – Ты заводчик, сам и давай… Тебе барин деньги платил.
Кныш сморщился. Поизмываться над живым человеком обычно доставляло ему удовольствие. А вот окончательного душегубства он не любил и избегал. Если кому-нибудь пришло бы в голову покопаться в этой безнадежно закопченной душе и выразить смурные мысли Кныша словами, то обнаружилось бы удивительное: убийство Кныш искренне считал грехом перед Господом Богом, и полагал жизнь и смерть полной и окончательной прерогативой Создателя. Не дело человеку мешаться в то, что принадлежит Богу. А вот все остальное – дозволено вполне. Если же влезть в сферы, тебе не положенные, то Господь, само собой, разгневается, а гневить Господа, как известно, – себе дороже… При этом мировоззрение Кныша оставалось последовательно монотеистическим. Создатель для него был един и вполне логично совмещал в себе функции и Бога и Дьявола.
Такие вот оригинальные религиозные взгляды, которые нынче пришли в полный разлад с текущей реальностью…
– Так мы не договаривались, чтобы убивать… – пробормотал Кныш, обращаясь неизвестно к кому.
– Может, оставить его так? – спросил напарник. – Сам скоро подохнет…
– Не, – помотал головой Кныш. – Тоже неладно. Найдут, будут искать, кто убил. Да еще так… Полиция землю рыть станет. Тут уж барин верно сказал: надо прикопать, чтоб не нашли. Пошел англичанин в лес погулять, да и сгинул… Кто виноват? Может, звери?
Словно в ответ на эти слова из кустов раздался рев и огромный бурый медведь с седой мордой поднялся на задние лапы.
Разбойники в испуге попятились в противоположную сторону.
– Хозяин! – прошептал Кныш. – Видать, крики услыхал или кровь почуял. Он до людских дел любопытный, вот и пришел поглядеть…
– Вот случай! – тихо заметил напарник, настороженно наблюдая за зверем. – Пусть он его и убьет. На зверя и увечья все спишутся. Медведь задрал – какой спрос!
– Хозяин людей не убивает…
– Да так-то оно так, только от вида и вкуса крови все звери шалеют. Медведи в особенности.
Медведь, которого называли Хозяином, и вправду принюхивался, скреб лапой траву, и раздраженно взрыкивал, кидая на людей отнюдь не дружелюбные взгляды маленьких, налитых кровью глазок.
Потом вдруг заревел в голос, опустился на четвереньки и медленно, оскалившись и распахнув пасть, направился в сторону стоящих на краю поляны разбойников. Напарник Кныша вытащил нож и поудобнее перехватил в другой руке железный прут.
– Да ты с ума сошел! – прошипел Кныш. – Против Хозяина с ножом и палкой! Лучше не зли его! Бежим! Пускай они сами тут теперь разбираются…
За двадцать без малого лет медвежьей жизни Хозяин и вправду почти научился разбирать человеческую речь, так что приисковые и поселковые о нем байки не так уж и врали. Правдой было и то, что бестолковую похабщину старый медведь отличал от всего остального, сказанного по делу. Но, супротив слухов, – не любил.
Любопытство Хозяина к людям было особого рода, и проистекало непосредственно из обстоятельств его жизни. Четырехмесячным медвежонком его взяли из-под неостывшего еще бока убитой охотниками медведицы-матери и в мешке принесли на Выселки. Убивать не стали, а посадили за частокол, на цепь. Больше двух лет исправно кормили, держали в качестве не то цепного пса, не то – объекта для будущей кровавой потехи…
Потом, в полдень бестолкового приискового бунта огромный, уже знакомый медвежонку человек сбил замок с медвежьей цепи и убрал перекладину, закрывающую выход наружу, за частокол. «Иди, вот тебе шанс!» – сказал он. Зачем он это сделал? Может быть, полагал, что вырвавшийся на свободу медведь еще добавит сумятицы в происходящее, отвлечет на себя внимание…
Не долго думая, освободившийся мишка-подросток распахнул дверь своей тюрьмы и убежал в лес.
В первую зиму едва не погиб, потому что не умел ни берлогу строить, ни прокормиться толком. Выжить помогли запасы, обнаруженные в самоедских и прочих зимовьях. Вот тогда-то, разорив одну из избушек, он и научился длинными острыми когтями открывать банки с консервами и высасывать из них вкусное содержимое.
На следующее лето ушел в изобильную тайгу, учился всему помаленьку, занял и должным образом пометил участок… Однако, к людям и их делам все равно тянуло. Опасаясь охотников, молодой медведь часто выходил к лесорубам, к сборщикам смолы и коры, к бабам, собирающим малину… Присев поодаль на растолстевший зад, успокаивающе урчал, всем своим видом показывая, что не желает дурного, а пришел просто так – поговорить, пообщаться.
Некоторые пугались и убегали, вереща дурными голосами. Другие откупались съестным. Те же, кто узнавал в раздобревшем мохначе бывшего светлозерского узника, часто обращались к нему едва ли не с приветственными речами. Это мишке особенно нравилось, и скоро вошло в приятную привычку так же, как и музыкальная игра с расщепленным деревом.
Спустя годы любопытного и добродушного по сути медведя прозвали Хозяином.
Как и все медведи, Хозяин обладал очень хорошей памятью, и помнил практически всех людей, с которыми когда-то «беседовал».
…Нынче Хозяин проспал между корней вековой лиственницы едва ли не до полудня. В молодости неизменно просыпался с рассветом, а к старости стал засонлив и ленив. Больше того, с каждым прожитым годом дни становились все короче, а пройденный за день путь все меньше… Хозяин это замечал и тому дивился, но объяснения отыскать не мог, потому что звери ничего не знают о старости…
Услышав человеческие крики и уверенно опознав в них изощренную похабщину, Хозяин широко зевнул, обнажив все три желтых, оставшихся у него клыка и, хотя и чувствовал голод, решил сначала сходить посмотреть на происходящее. Если люди так вопят в лесу, должно быть, у них там происходит что-то интересное… А по пути можно и подкрепиться немного…
Крики, между тем, прекратились, но Хозяин хорошо запомнил направление и, смешно вихляя огромным мохнатым задом, медленно продвигался в нужную сторону. Ветер дул ему навстречу и вскоре появился явно исходящий от людей запах, который старому медведю… ну очень не понравился! Резкий, удушливый, сладковатый запах человеческой крови был Хозяину знаком и не сулил ничего хорошего. Опасно… Так, может быть, не идти?… Но любопытство, как всегда, победило.
Огромные бурые медведи могут, когда хотят, передвигаться практически бесшумно. Хозяин остановился в кустах, окружавших небольшую поляну, осторожно выглянул наружу и прислушался, поводя мохнатыми, полукруглыми ушами.
Как и все медведи, он видел не очень хорошо, но сразу же разглядел всех троих, присутствовавших на поляне, людей. Двое точно были ему незнакомы, а вот третий, привязанный веревкой к дереву, тот, от которого резко и неприятно пахло кровью… Да живой ли он вообще? Кажется, жив, вон, шевелится…
Хозяин тревожно заворчал, мотая лобастой башкой и соображая, что следует предпринять. Привязанный к лиственнице человек показался медведю похожим на того, кто когда-то снял с него цепь и открыл дверь из темницы в лес, на свободу. Образ этого человека, решительно изменившего жизнь узника, и подарившего ему таежную свободу, Хозяин внимательно хранил в своей цепкой памяти всю жизнь, и вот теперь… Общий абрис фигуры, размеры, плоское лицо, нынче почти целиком залитое кровью…
Да, пожалуй, это был он, а вот те двое явно намеревались его… Съесть? Но разве люди едят людей?… Опираясь на собственный опыт, Хозяин склонен был полагать, что в определенных обстоятельствах люди едят абсолютно все, в том числе и друг друга… Но съесть своего давнего знакомца и спасителя Хозяин им не позволит!
Приняв решение, старый медведь поднялся на задние лапы и угрожающе заревел…
С трудом разлепив залитые кровью веки, Михаил Туманов увидел картину, содержание которой с печальной очевидностью являло тот факт, что его сознание пребывает в полном и, по-видимому, окончательном предсмертном бреду.
Прямо перед ним виднелась и отвратительно воняла распахнутой пастью морда огромного, вставшего на задние лапы медведя. Вокруг маленьких глаз зверя виднелись седые круги. Правый верхний клык был сломан у основания. Мишка сочувственно ворчал и пытался шершавым, похожим на наждак языком зализывать раны Туманова.
Эта картинка с добрым медведем, прогнавшим его мучителей, была в общем-то в стиле сентиментальных детских историй, и даже не слишком его удивила, но вот другая… От края поляны, путаясь в промокшем подоле юбки и удивительно расширив глаза, к медведю медленно, но решительно приближалась Софи Домогатская, размахивавшая сломанной еловой веткой. «Кыш, проклятый! – громко вещала она, по-видимому, всерьез рассчитывая испугать медведя, который на взгляд тянул в весе пудов на двадцать. – А ну, уходи отсюда! Слышишь, что тебе говорят?! Кыш тебе, нечисть толстозадая!»
«Ну, это уж точно… того…» – подумал Туманов и, уронив разом отяжелевшую голову, вновь потерял сознание.
В которой Николай Неплюев знакомится с энтомологической коллекцией барона Шталь, а Дашка с Кирюшечкой ведут наблюдение
Барон Евфимий Шталь с некоторым (вполне, впрочем, умеренным, ибо серьезно поразить барона было весьма затруднительно) недоумением смотрел на стоящего перед ним и переминавшегося с ноги на ногу гимназиста, на вид класса четвертого-пятого. Гимназист был самый обыкновенный, бледный, курносый, с просвечивающими оттопыренными ушами. Одет в форменную одежду казенных гимназий: серая шинель со светлыми пуговицами и синими петлицами, черная тужурка, лакированный ремень с пятеркой (номером гимназии) на пряжке. Синюю фуражку с белым кантом и посеребренным гербом из листьев лавра мальчик держал в руке.
Рядом с гимназистом стоял пожилой мужчина, очевидно, гимназический педагог, в форменном сюртуке и с отличиями чина на петлицах. На его золотых пуговицах виднелось изображение пеликана, выкармливающего птенцов – олицетворение полной и беззаветной отдачи знаний и сил своим ученикам.
Ефим едва заметно улыбнулся уголком тонких губ.
– Барон Шталь к вашим услугам. Так что же вам угодно, господа?
Пожилой учитель выразительно взглянул на воспитанника, видимо, в воспитательных целях побуждая того говорить самому.
– Я… видите ли… прошу прощения… – речь явно давалась мальчику нелегко. – Серьезно интересуюсь энтомологией… Сам собрал немалую коллекцию, разумеется, местных видов… Могу ли осмелиться просить вас… Слышал, что ваш батюшка, барон Шталь… то есть, я имел в виду старый барон…
– Ага! – догадался Ефим и улыбнулся уже полной улыбкой. – Так вы, значит, сами коллекционируете насекомых и где-то прослышали о коллекции моего отца. Так?
Мальчик радостно закивал.
– А как же вас зовут?
– Кока… То есть, простите, – Николай Неплюев, ученик четвертого класса пятой гимназии.
– Очень приятно, Кока… Вы ведь позволите мне так вас называть? (Николай опять закивал. При каждом кивке солнечный луч окрашивал его уши в нежный, ярко-розовый цвет.) Как я понимаю, вы желали бы прямо сейчас осмотреть коллекцию старого барона?
– Д-да… Если вы позволите… – мальчик с тревогой взглянул на педагога.
– Геннадий Владимирович Витольдов, – отрекомендовался тот в ответ на вопросительный взгляд Ефима. – Преподаватель естествознания в означенной гимназии. Смею вас уверить, что увлечение Николая Неплюева – вовсе не пустая блажь, я сам видел и его коллекцию, и сделанные им описания препаратов, и…
– Ни минуты в том не сомневаюсь, – вежливо прервал пожилого педагога Ефим. – Пожалуйста, пройдите сюда… А скажите, Кока, откуда вы узнали про коллекцию моего отца? – спросил он, усаживая гостей в просторной, весьма вольно обставленной комнате. – От вашего достойного учителя? Вы были знакомы с бароном, Геннадий Владимирович?
– К сожалению, я никогда не имел чести видеть коллекцию вашего батюшки и знать его лично, – откликнулся Геннадий Владимирович.
– Тогда что же?
– Мне тетя рассказывала, – улыбнулся Кока. – Когда я еще совсем маленький был. Но я запомнил. Она говорила, что там у вас есть вот такие жуки! – мальчик широко раздвинул пальцы.
– И вправду есть, – обнадежил его Ефим. – Целых три шутки. Если я правильно помню, они – из Африки… А как же зовут вашу тетю?
– Софья Павловна, урожденная Домогатская, – ответил мальчик. – Теперь – Безбородко.
Ефим длинно вздохнул и хрустнул переплетенными пальцами. Кока ничего не заметил, предвкушая встречу с африканскими жуками, но более наблюдательный Геннадий Владимирович с тревогой взглянул на хозяина особняка. Слава Богу, что он не отпустил воспитанника одного!
– Так что же, вы, Кока, значит…?
– Я – сын младшей сестры Софи, Анны Павловны Неплюевой, – уточнил гимназист.
– П-понятно, – процедил Ефим сквозь зубы. – Что ж, когда-то мы действительно были с Софьей Павловной… хорошо знакомы… Давайте пройдем к коллекциям… Только я прошу вас заранее меня извинить – вам придется наслаждаться их созерцанием без меня. У меня, к сожалению, дела, да я и ничем не смог бы вам помочь. Энтомология меня совершенно не увлекает, и я в ней ничего не понимаю… Ничего абсолютно… Пойдемте же, господа…
Спустя полтора часа Ефим осторожно приоткрыл дверь и заглянул в две смежные комнаты, где хранились обширные энтомологические коллекции его отца. Пожилой учитель стоял на коленях у стеллажа, Кока присел рядом на корточки и увлеченно тыкал пальцем в стекло.
– Смотрите, смотрите, Геннадий Владимирович! – громко восклицал мальчик. – Это же настоящая Acherontia atropos! Какой великолепный экземпляр!
Барон Шталь выдохнул сквозь стиснутые зубы и тихо прикрыл дверь.
Дашка всегда доподлинно знала, каким именно образом она хотела бы проводить воскресенье, день, который Господь законным образом определил всем людям, кроме евреев, для отдыха.
Кулек дешевых леденцов «Ландрин» в одном кармане, орешки в сахаре – в другом. Одеться по-праздничному. И неспешно гулять по праздному воскресному городу, фланировать под ручку с кавалером, глазея на окружающих, все подмечать, ловить на себе заинтересованные взгляды мужчин и мысленно показывать им язык. Где гулять – в общем, без разницы. Можно в Измайловском саду, там оркестр играет. Можно – по улицам, заглядывая в витрины. Больше всего Дашка любила толкучки. Не покупать даже (бывшая шляпница была в вещах непритязательна и предпочитала все самое простое и в количестве небольшом, чтоб глаз не путался), просто – поглазеть. Для пущего развлечения любила придумывать увиденным людям – «долю».
Вот – «холодный сапожник». Кожаная сумка с инструментом через плечо, мешок с кожевенным товаром и старой обувью, в руке – «ведьма» (палка с железной загнутой лапкой, на которую надевали сапог для починки). Целый день, в мороз и жару слоняется по толкучке, чинит быстро, кое-как, ведь клиента, скорее всего, больше не встретит… «Мастер, по всему видно, хороший, сноровистый, – решает Дашка. – Но, видать, пил много, теперь больной уже, вон лицо какое зеленое, а «хозяйчик»-то взял и на улицу выгнал…»
Вот – торговка сбитнем (теплая вода на патоке). Несет на спине медный бак, обвязанный старым ватным одеялом, от бака идет длинная медная трубка с краном. По поясу – деревянная колодка с ячейками для стаканов.
«Татарка! – определяет Дашка, заглянув в узкие, длинные, когда-то красивые, а теперь заплывшие и какие-то безнадежные глаза. – Муж, наверное, «князь», – старьевщик. А может, и нет никакого мужа. А дома, точно, детки малые. Сидят, боятся, ждут часа, когда мамка с толкучки вернется, пожрать принесет. Может, вкусненького чего… А осенью темнеет рано, ветер в окошко стучит…»
От своих собственных фантазий Дашка становилась растроганной, начинала не в шутку жалеть ею же самой выдуманных деток торговки, аж слезы выступали на глазах…
Но вот беда, этого любимого развлечения в Дашкиной жизни почти не случалось. Когда была девкой, мать на улицу не пускала, находила в булочной чем заняться, да с братцем-сестрой нянчиться. После, «шляпницей» – по воскресеньям в «мастерской» самая работа и самый выгодный, щедрый клиент. Уже потом, когда стала «приличной», вышла замуж, тоже особо не разбежишься – детки, торговля, да и муж… Гуляние по улицам казалось ему занятием утомительным и бесцельным. «Только башмаки без толку стаптывать, – говаривал он в ответ на предложения жены (чем приводил последнюю в бессильную ярость). – Что мы с тобой, молодые, что ли? Нам бы уж полежать в день отдохновения после трудов праведных… Или вот, хочешь, давай в дурака подкидного сыграем?»
Нынче, в погожее предосеннее воскресенье, Дашка наслаждалась жизнью. На ней был шикарный плюшевый сак с аргамаками цвета «алая гвоздика», длинная синяя юбка, подшитая «бобриком», чтобы не обносился подол, ботиночки с пуговками на французском каблуке и синие же вязаные перчатки из фильдекоса. К пушистой, тщательно взбитой прическе приколота длинной (дюймов десять) булавкой веселенькая небольшая шляпка с аппетитными клубничками (все эти годы шляпки по дашкиному вкусу изготавливала одна из ее старых знакомок – еще из мастерской Прасковьи Тарасовны, давая бывшей товарке небольшую, но приятную скидку).
Рядом с Дашкой, бережно поддерживая ее под руку, шел ее брат Кирюшечка, – высокий, девятнадцатилетний, кучерявый, с нежным пушком на розовых щеках и едва пробившимися светлыми усиками. Несмотря на все подначки сестры, парень одевался не по-приказщицки, а по-рабочему, так ему почему-то казалось более важным. Впрочем, при том соблюдал весь положенный лоск. Носил высокие сапоги из хрома с лакированным голенищем, с проложенной между стелькой и подметкой сухой берестой – для скрипа, черную рубашку-косоворотку, яркий жилет, темный пиджак и фуражку с лакированным козырьком. Имел плоские часы вороненой стали с цепочкой и портсигар польского серебра (оба предмета были куплены Дашкой за 1 руб. 50 коп. каждый, но смотрелись вполне шикарно).
Другие гуляющие, как казалось Дашке, заглядывались на их пару и видели в них предмет для обсуждения. Особенно злобствовали женщины. «Как это толстуха себе такого красавчика отхватила? Да еще и молоденький совсем!..»
Дашку все это радовало безмерно, и она даже тихонько попросила Кирюшечку поубедительнее сыграть ее «сердечного друга». Озорной Кирюшечка был рад стараться, тем более, что сестру он и впрямь обожал почти до неприличия. Лукаво улыбаясь, он нежно склонялся к ней, щекоча отрастающими усиками маленькое розовое ушко, зная пристрастия сестры, отогнув перчатку, целовал пухлое запястье – в общем, всячески демонстрировал горячую, не находящую сил скрываться даже на улице влюбленность. Дашка таяла от удовольствия.
Особенную прелесть ситуации придавало то, что Дашка с Кирюшечкой не просто гуляли, изображая влюбленную пару, а еще и вели наблюдение. От Юсуповского сада прошли по мостику через Екатерининский канал, потом по Столярному переулку, до Мещанской, потом развернулись и пошли назад. На пересечении Столярного переулка и Казначейской улицы, в бельэтаже углового, четырехэтажного, весьма сумрачного на вид дома как раз и проживал объект наблюдения – восточный учитель Ачарья Даса.
Украдкой взглядывая на плотно занавешенные окна бельэтажа, Дашка не могла отказать себе в удовольствии помечтать. Смуглый, горбоносый поляк, с его малопонятной, с придыханием речью пленил Дашкино воображение. Разумеется, сейчас толстая булочница-шпионка не представляет для него никакого интереса, но вот вскорости, когда она вступит во владение гадательным салоном «Персиковая ветвь», и соответственно преобразится… Дашка вдруг поняла, что не имеет ни малейшего представления о том, каким должен стать в недалеком будущем ее гардероб. Ее собственные вкусы, тяготеющие к бесчисленным рюшечкам, бантикам, ягодкам и птичкам, по-видимому, придется позабыть. Но что взамен? Дашка подумала о том, не будет ли слишком большой наглостью попросить у Софьи Павловны хоть мельком взглянуть на ее платья или – нет! – хоть на одежды той пожилой (но несомненно, исполненной всяческих достоинств) восточной дамы, которая владела салоном прежде. Помнится, Софья Павловна даже упоминала о том, что покойная владелица тоже была весьма полной… От платьев дашкины мысли снова возвратились к загадочному Ачарье. Интересуется ли он женщинами? И если да, то можно ли будет какими-нибудь уловками заманить его в салон? А там уж…
Внезапно внимание Дашки было безжалостным образом оторвано от сладостных мечтаний. К парадному входу нужного дома, как-то подозрительно оглядываясь по сторонам (и тем невольно привлекая к себе внимание), подошла довольно высокая, неброско, но со вкусом одетая женщина в шляпке с вуалью.
– Кирюшечка! – шепнула Дашка, до боли сжимая локоть брата. – Иди сейчас вон к той, и что хочешь сделай, чтобы она теперь ко мне повернулась и вуаль откинула…
Сама Дашка шагнула в сторону, остановила разносчика, который, по-видимому, торопился на Сенную площадь, и сделала вид, что нешуточно заинтересовалась его товаром.
Парень подумал буквально секунду, покопался в карманах и бросился к неизвестной женщине с криком:
– Барыня, благопочтенная, простите дурака, но я неграмотный, а мне вот тут очень надо прямо сейчас прочесть! Соизвольте явить Божескую милость!
Женщина обернулась и, пытаясь разобрать каракули на бумажке, которую Кирюшечка сунул ей под нос, откинула вуаль.
Дашка, отвернувшись, взглянула на маленький фотографический портрет, который в свое время дала ей Софи, и тихо ахнула.
– Сестрица ейная! – прошептала она. – Как есть! И – к тому пришла! Разрази меня гром на этом месте, если ошибаюсь!
Кирюшечка тем временем отошел, пятясь и непрестанно благодаря, а незнакомка махнула затянутой в перчатку рукой и скрылась в подъезде.
– Так! – горячо зашептала Дашка брату. – Значит, эта та самая, которая пропала. Пришла к тому. Наверное, обсудить, что дальше делать. Само собой, они знают, кто ту убил. Если не сами, но то – вряд ли… Ладно болтать! Вот тебе деньги, сейчас на Мещанской возьмешь лихача и со всей прыти поедешь на Пантелеймоновскую, к Софье Павловне на квартиру. Что там говорить, сейчас объясню, а ты – запомнишь. А я пока за этой прослежу, все разузнаю, а потом приду в условленное место. Там мы с Софьей Павловной и встретимся…
Петр Николаевич достаточно удивился, когда Фрося разъяснила ему, что незнакомый парень из рабочих настойчиво требует Софью Павловну, и никак не хочет поверить, что ее – нету в Петербурге совсем.
«Может быть, на фабрике чего, – подумал Петр Николаевич. – Или эти ее… радетели за народное дело… те всегда были настырными…»
В конце концов велел Фросе впустить парня.
Тот вошел, скрипя сапогами и держа картуз в руке. Совсем еще молодой, румяный, весь в льняных кудрях. Смотрит лукаво.
– Ну, что тебе надобно, любезный? – осведомился Петр Николаевич.
– Вы – муж? – деловито спросил парнишка.
– Так точно, муж, – добродушно усмехнулся Петр Николаевич. – И что ж с того?
– Тогда – «славянофилы мечтают об оккультном». Вот!
– Что-о?! – вытаращился хозяин квартиры. – Что ты сказал?
Парень повторил и далее прочно стоял на своем, требуя немедленно доставить ему Софью Павловну, и отказываясь сообщить хоть что-то еще. Петр Николаевич побился с ним еще минут пять и, от души сожалея о раннем (и каком странном!) безумии такого симпатичного на вид парнишки, выгнал его прочь.
Переполненная впечатлениями и информацией Дашка до самого позднего вечера просидела в «чистой» половине кухмистерской «У Лизаветы». Выпила несметное количество чая, который при заказе подавали в двух чайниках – один маленький, для заварки, другой побольше – с кипятком. Крышки у чайников были на цепочках, а носики в оловянной оправе, чтобы не разбивались. Играл гармонист, в другую половину два раза (воскресный вечер!) приходил городовой. Прямо у входа кому-то прошибли голову о крепление водостока.
Софья Павловна так и не пришла.
В конце концов Дашка взяла извозчика и поехала домой, по пути прикидывая, каким именно макаром назавтра отправится в имение Густава Карловича Кусмауля.
В которой Михаил Туманов сначала едва не умирает, а потом живет в зимовье вместе с Софи, которая ведет там хозяйство
Запахи, скопившиеся в тесном, полутемном зимовье, были отвратительны и все вместе, и по отдельности каждый. Софи, опасаясь рвоты, старалась даже не думать о том, чем именно здесь пахнет.
Впрочем, пронзительный, тяжелый запах крови перебивал все остальное.
Немного подумав об устройстве этого немудреного, вонючего жилья, Софи сообразила, что стол, крепившийся на крестовине посреди двух узких настилов, должен как-то опускаться, делая лежанкой почти половину площади зимовья. С трудом, оцарапав пальцы и придавив ногу, ей все же удалось опустить его. После этого она кое-как расстелила на расщепленных бревнах сваленное в углу затхлое тряпье и две грязных овчины, которые когда-то, по-видимому, были полушубками.
Взгромоздить на настил Туманова, который по-прежнему находился в полузабытьи, было отдельной задачей, на выполнение которой ушло еще около часа.
Потом, выглянув наружу и убедившись в том, что странный мишка окончательно ушел по своим делам (Софи не знала, что огромные медведи при желании могут прятаться и наблюдать за людьми совершенно незаметно для последних), она взяла жестяное помятое ведро, кружку и отправилась к ручью, который успела заметить по дороге. Набрав холодной, хотя и не особенно чистой воды, вернулась в зимовье, села на лавку напротив очага и задумалась.
Теперь, вероятно, следовало развести огонь. Холодно в зимовье не было, но мухи, комары и прочая летучая нечисть уже плотно облепила неподвижное тело Михаила колышущимся тошнотворным ковром, а дым, по всей вероятности, мог бы отпугнуть их хоть немного. Разбухшую дверь Софи не решалась закрыть, опасаясь задохнуться. Да и через единственное подслеповатое окошко в зимовье проникало слишком мало света. И еще обязательно надо что-то сделать с раненным…
Но вот беда: ни о том, как развести огонь, ни о том, чем, собственно, она могла бы помочь Михаилу, Софи не имела ни малейшего представления. Вот если бы на ее месте была сейчас Надя Коронина…
Прикинув все как следует, Софи разозлилась. В первую очередь, конечно, на себя, а во вторую – на всех остальных. На Михаила, который опять вляпался в какую-то ужасную историю, на его неведомых мучителей, на дурацкого медведя, который вел себя в тайге, как на арене цирка, на Надю Коронину, которой нет в нужном месте… и пр. и пр.
Злость, как всегда, придала Софи сил. Она поднялась, поставила ведро с водой на край настила, выбрала тряпку, которая показалась ей чище остальных, помогая себе зубами оторвала от нее кусок, окунула в ведро…
Софи Домогатская с детства не боялась крови, и не склонна была падать в обморок при виде своей или чужой ссадины или пореза… Однако, освобождая огромное тело Туманова от лохмотьев одежды и промывая его раны, она трижды испытывала непреодолимую дурноту и, цепляясь за стену, присаживалась на лавку, чтобы отдышаться. Когда дело было закончено, Софи уже знала самое главное: Михаил умрет. И сделать тут, пожалуй, ничего не смогла бы даже кудесница Надя.
К ночи у Туманова началась лихорадка, жар и бред. В бреду он с кем-то сражался, отдавал кому-то распоряжения, призывал к себе какого-то ангела. Имени Софи не назвал ни разу. Спотыкаясь в темноте, Софи еще три раза ходила к ручью за водой.
Лес как-то не по-хорошему, мертвенно молчал. Круглая, желтая луна с ее трагической маской. Посеребренная лунным светом трава. Черные, пальцами протянувшиеся наискось тени. Тишина и недвижимость. Софи казалось, что в любой миг они готовы перейти в истошный крик и беспорядочное угрожающее движение. Замершая, оледеневшая преисподняя. Минутами напряжение становилось просто невыносимым.
В зимовье она прикладывала ко лбу, шее, вискам больного холодные тряпки: ей казалось, что от этого действия он слегка успокаивается. Во рту ее все время стоял солоноватый противный привкус крови: Софи искусала губы, но не замечала этого.
К утру Михаил затих, черты его лица заострились, ногти на руках и ногах посинели, а борода как-то парадоксально, за одну ночь, выросла. Лишь слабые колебания широкой груди и изредка – трепетание ноздрей показывали, что он еще жив.
Измученная, отупевшая Софи сидела на полу, оперевшись локтями на настил и положив голову на руки. Агонии можно было ожидать с минуты на минуту. Софи уже почти хотелось, чтобы все поскорее закончилось.
– Господи, Туманов… – негромко, не поднимая головы, сказала она. – Я же все эти годы грезила надеждой на такую вот нечаянную встречу, как получилась у нас с тобой, в Егорьевске… Куда же ты теперь уходишь от меня, окаянный?!
Всю свою жизнь я любила только тебя. Люди врут себе и другим. От собственного безлюбия, слабости и ничтожества. Я точно знаю: не может быть второй, третьей, тридцать восьмой любви… Увлечения, флирт, уважение, дружба – это да, это сколько угодно. Но любовь может быть только одна, и это то, что было у меня к тебе… Нельзя любить вторые плечи, губы, пальцы, которые трогают и ласкают самые тайные места. Нельзя два раза одинаково доверять. Это невозможно… Я всегда знала, что я для тебя – не то. Саджун… И это если не считать всего остального… Но ты для меня был… и навсегда останешься…
Мне всегда было тебя мало. Я бесилась, когда расставалась с тобой хоть на минуту, и бесилась, когда мы были вместе, потому что два человека не могут разделить – всего. Но с тобой мне и всего показалось бы мало. Я понимала уже тогда, что это – не для жизни, а для легенд, кровожадных норманнских саг и сказаний. С тобой я становилась хищной. Мне хотелось сожрать тебя, так, как, наверное, жрут дикари мясо убитого храброго врага, чтобы заполучить себе его доблесть; как христиане, причащаясь, жрут своего Бога и пьют его кровь, в надежде сподобиться благодати, и полагая при этом, что чем-то отличаются от вышеупомянутых дикарей. Да, да, я тоже чувствовала в себе подобную дикость… И, одновременно или порознь, такая хрупкая нежность, как у весенних цветов-пролесок, и слезы ни от чего выступают на глазах… Все это почти невозможно было пережить. Тогда это казалось мне невыносимым, но потом, вспоминая эти месяцы, этот год с тобой, я понимала, что именно в те дни я и жила во всю силу, полной мерой, так, как задумано для человека… –
В этом месте христианин, наверное, призвал бы на помощь смирение и вспомнил о вечной жизни в неописуемом блаженстве, которое уготовано человеку милостивым Богом. Кто-нибудь другой попытался бы облегчить душу слезами или надеждой на скорое прекращение ужасающих физических страданий больного. Но ни одно положительное чувство не годилось для Софи Домогатской, чтобы пережить умирание близкого ей человека.
– Чертов ублюдок! Мерзавец! Негодяй! – прошипела она. – Как ты смеешь теперь отнять самое хорошее, что только у меня было! Тебе-то хорошо, ты ловко устроился. Сейчас сдохнешь тут на руках у женщины, которая десять лет сходит по тебе с ума – и все. Красивая история! А мне – оставаться здесь, в этом вонючем мире с его акциями, концессиями, кретинскими борцами за народное дело, сопливыми детьми и прочим… Ну уж нет! Не выйдет у вас на этот раз, мистер Сазонофф!
Софи решительно подхватила с лавки отставленный ею со стола нетронутый полуштоф с водкой, сорвала печать… Лакала прямо из горлышка, жадно, как пьет воду истомленный жаждой. Ничего не чувствовала. На последнем глотке ей показалось, что веки Туманова дрогнули, а губы скривились в слабой усмешке.
– Никаких тебе трагических прощаний, ублюдок! – хрипло сказала Софи. – Сдохнешь в одиночку, а я и знать ничего не буду!
Едва договорив, она кулем, в беспамятстве повалилась на пол возле настила.
Софи очнулась, когда осторожный луч оранжевого вечернего солнца уже вползал в низкое, покрытое грязью окошко. Все члены затекли от долгого неудобного лежания на жестком полу. Несколько раз приоткрыв и снова закрыв глаза (в поле зрения попадала голенастая засохшая травинка и дохлая букашка с поднятыми лапами), она попыталась приподнять голову и тут же уронила обратно, мучительно простонав. При каждом движении от лба к затылку и обратно медленно перекатывалась тяжелая волна холодной и тошнотной ртути. Дальше Софи лежала бессильно, любовалась букашкой с травинкой и получала даже некое облегчение от своего разрушенного состояния, к которому, впрочем, примешивалась привычная злость на судьбу. Софи напилась первый раз в жизни, но по опыту наблюдений знала, что многие пьяницы, проснувшись наутро, не помнят случившегося накануне. Подобное Божье милосердие на Софи явно не распространялось: она помнила абсолютно все. И даже на секунду не могла обмануть себя и полежать и помучиться в сладкой надежде. Туманов умер от ран, прямо над ней, на лежанке распростерлось его огромное, отмучившееся тело. Теперь надо думать о похоронах и о тех следствиях, которые смерть мистера Сазонофф произведет в егорьевских делах. И о позиции во всем этом самой Софи, и о неизбежных потерях, и о возможных выгодах, которые, несмотря на все страдания, она просто не имеет права упустить из рук, так как за ее спиной, как всегда стоят надеющиеся на нее и зависящие от нее…
Наверху, прямо над головой Софи, раздался громкий скрип. Софи вздрогнула всем телом и вскрикнула от боли, разом расколовшей голову. Она еще боялась поверить, боялась поднять глаза, но широкая, мучительная и победительная улыбка помимо ее воли уже кривила темные вспухшие губы.
«Врешь, не возьмешь!» – торжествующе прошептала она и морщась подняла-таки взгляд наверх.
Туманов лежал на краю настила, склонив голову на бок, и с любопытством рассматривал Софи живым и вполне осмысленным взглядом. На его губах играла легкая улыбка.
– Эй! Мишка! – хрипло сказала Софи. – Так ты чего, опять не помер, что ли?
Туманов чуть заметно кивнул. Потом в свою очередь спросил, негромко, но четко произнося слова, как будто наново учился говорить:
– Головка бо-бо?
Софи пристыжено склонила голову. Ее собственное дыхание, отражаясь от пола, казалось ей просто невероятно, отвратительно вонючим.
– Все вылакала? – спросил между тем Туманов. – Ничего не осталось?
Софи нашла взглядом валяющуюся на полу бутылку.
– Осталось. Но мало, – честно добавила она.
– Отлично, – оживился Туманов. – Тебе всего один глоток и нужен. Только осторожно…
– Ты с ума сошел! – попробовала возмутиться Софи. – Да меня вытошнит сразу! Чего издеваться-то?!
– Да я не издеваюсь, – терпеливо разъяснил Туманов. – А даю тебе единственно верный совет. От пьяницы с тридцатилетним стажем. Пей аккуратно и все уляжется. Будешь опять человеком…
По нужде Софи, проклиная себя и испытывая просто чудовищное унижение, ползла на четвереньках, всаживая занозы в ладони и наступая коленями на грязный, мокрый подол. Туманов с улыбкой смотрел ей вслед. Слава Богу, хоть не отпускал никаких замечаний.
Выпрямиться она сумела только в лесу, уже умывшись в ручье и цепляясь руками за ствол дерева. Огляделась и поняла, что за прошедшие сутки лес решительно изменился, хотя луна светила по-прежнему. Впрочем, и выражение ее круглощекого лица казалось чуть повеселее. Везде шуршала какая-то жизнь. Невидимые зверюшки приходили и приползали к ручью, чтобы напиться. Влажные, посеребренные ветки елок приветливо покачивались. Живой, душистый ветер пах рассветом…
– Ну ладно, расскажи, чего было, – велел Туманов, когда Софи заползла на настил и вытянулась рядом с ним, стараясь поудобнее пристроить голову и одновременно не коснуться Михаила, чтобы не потревожить его ран. – Как мы тут оказались-то?
– Это все твой медведь, – капризно сказала Софи. Не объяснять, ни спрашивать не было сил. – Он нас сюда привел, а сам – ушел. Мне кажется, он понимает, что люди должны жить в домах. Ты его знаешь?
– Кого, медведя? – удивился Туманов. – Да нет, не имел чести…
– Тогда… – Софи задумалась, и ее подвижная физиономия скривилась от боли, сопровождавшей это умственное усилие. – Тогда только одно может быть: он тебя принял за Матвея Александровича Печиногу, который, по Вериным словам, с каким-то медведем на Выселках разговаривал, а после его на волю отпустил… Наверное, это тот медведь и есть. А то, что ты статью на Печиногу похож, многие говорили, да я и сама помню…
– Это ж сколько лет… – пробормотал Туманов.
– Ну вот, он оттого и обознался… послушай, Михаил… ты не очень обидишься, если я теперь засну, а? Или, может, тебе сейчас попить дать?
– А ты сумеешь? – усмехнулся Туманов.
– Если тебе надо, я попробую, – честно ответила Софи.
– Спи, Сонька моя, – прошептал Туманов и взглядом приласкал женщину. Пошевелиться он, по-видимому, еще не мог.
– Ладно, допустим, медведя ты не знаешь, – задумчиво сказала Софи, заворожено глядя на пылающий в очаге хворост (собрать нужные для растопки дрова и развести огонь она сумела под подробным руководством Туманова приблизительно с двадцать пятой попытки). – Но тех негодяев, которые тебя изуродовали, ты же должен был узнать!
– Должен… – кивнул Туманов. – Обязательно должен. Но… не узнал!
– Но как так может быть?! – Софи накрутила на палец локон и, скосив глаза, подозрительно посмотрела на получившийся результат. – Чего они вообще от тебя хотели? Никогда не поверю, что они сделали с тобой это исключительно для собственного удовольствия!
– Ну… ты всегда на редкость хорошо думала о людях… твоя аристократическая наивность всегда меня восхищала, – пробормотал Туманов (Софи возмущенно фыркнула). – Но здесь ты, безусловно, права, – добавил он. – Эти… хотели от меня вполне определенной вещи. Они требовали, чтобы я подписал некую бумагу… Касательно золота, концессии и прочего…
– И если бы ты ее сразу подписал, они бы не стали тебя мучить?! – воскликнула Софи.
– Да. Возможно, они даже оставили бы меня в живых…
– Так ты ее подписал в конце концов или нет?
– Нет! – сказал Туманов и горделиво улыбнулся распухшими, запекшимися губами.
– Михаил, я всегда говорила – ты совершенно сумасшедший! Просто проклятый ублюдок – вот ты кто! – на глазах Софи выступили злые слезы. – Из-за того, что тебе чего-то там не хватило в детстве, ты на всю жизнь стал жалким придурком! Помнишь, ты когда-то спрашивал у меня: может ли вырасти нормальным человек, который претерпел ту нужду и унижения, которые достались тебе? Так вот, теперь отвечаю: не может!!! У того, кто когда-то не жрал досыта и завидовал всем подряд, по-видимому, навсегда происходит злокачественное смещение мозгов. Право, только из-за того поверишь марксистам и прочим, обещающим сделать всех удручающе равными, но сытыми… Ты был готов умереть и терпел ужасные пытки ради… ради чего?! Любви, Бога, родины, детей, идеи? Нет! Ради своих денег, золота, приисков! Это же форменное безумие! Да все деньги и все золото на свете не стоят человеческой жизни! Твоей жизни… У тебя же есть жена, дочь! В конце концов… ты подумал обо мне? Как бы я жила… без тебя?
Выговорившись, Софи закрыла лицо руками и отвернулась. Ей было стыдно и противно. Истерзанный, бессильно распростертый на грязных овчинах Михаил вызывал теперь почти гадливое чувство. Только что она очередной раз поняла, насколько они чужды друг другу. Туманов серьезно и внимательно смотрел на нее.
– Ты сказала? – спросил он. – Что ж, в чем-то ты права, и я этого не признать не могу. Из твоих удивительных глаз просто брызжет теперь негодование и презрение… Если бы я не был так… так недееспособен, меня бы это, наверное, жутко возбудило. Сама не зная того, ты сейчас поистине великолепна в своем гневе человека, который всю жизнь ел досыта, и потому никак не может понять чужого, несомненно презренного, пристрастия к сугубо материальным благам. Но… есть одна маленькая закавыка, и, поскольку исход всей этой истории до сих пор остается проблематичным, я вынужден тебе о ней сообщить, хотя и рискую… рискую, по-видимому, навлечь на себя еще больший гнев… Ты сказала: ради своих денег и золота. Чуть-чуть поправлю: ради твоих денег…
– Что?!! – подскочила Софи. – Что ты сказал? Причем тут я?!
– Перестань подпрыгивать, пожалуйста, – чуть поморщившись, мирно попросил Туманов. – Тут все трясется, и мне… ну, скажем, щекотно… Сейчас все объясню. В самых общих чертах так: еще на Алтае я предположил, что со мною может произойти… ну, что-то такое… Слишком многим мы с англичанами дорожку перебежали. Сибирь – место не сентиментальное, душегубов нанять любой обиженный запросто и задешево сумеет, и искать не придется. И… помнишь, ты спрашивала, зачем я в Тобольск ездил? Так вот, теперь отвечаю: я ездил затем, чтобы написать и должным образом оформить завещание. В случае моей смерти все принадлежащие мне предприятия, акции и прочее достаются тебе, Джонни, и твоим с Петром Николаевичем детям… У тебя, Софья, явно язык отнялся, но на лице, тем не менее, написан вполне конкретный вопрос. Отвечаю и на него тоже. Жену и дочь я в том же завещании обеспечил так, что они никогда ни в чем не будут нуждаться. Моя жена… она не обладает твоей предприимчивостью и авантюрностью характера, и потому более всего ценит спокойную, размеренную жизнь и возможность заниматься своим любимым делом. Именно это я ей и предуготовил в случае моей безвременной кончины…
– Господи, Туманов, как же я тебя ненавижу… – прошептала Софи, кусая губы и мотая головой в приступе самого настоящего бешенства.
– Ну, в таком случае ты легко можешь меня сейчас же прикончить, вернуться в Егорьевск и в должное время вступить в права наследства, – весьма бодро предложил Михаил. Если бы не очевидная совокупность трагических обстоятельств, можно было бы подумать, что все происходящее попросту забавляет его.
– Честное слово, с огромным удовольствием именно это и сделала бы! – кровожадно заявила Софи. – Жалко, полученное воспитание не позволяет воспользоваться твоей беспомощностью…
Последующие за этим разговором три дня были весьма тягостными и напряженными для обоих. Софи, воспользовавшись рекомендациями Туманова, собирала в лесу огромные охапки мягкого мха и использовала его, прикладывая к ранам Михаила, некоторые из которых начали гноиться. Софи утверждала, что довольно хорошим заживлением ран Туманов обязан медвежьему языку, потому что известно, например, что собаки всегда зализывают свои раны и они у них очень редко гноятся. Михаил находил эту параллель сомнительной, смутно припоминая зловоние, исходящее из медвежьей пасти, но почитал за лучшее не спорить.
Ежедневно промывая и обрабатывая раны Михаила, Софи бледнела до синевы и обливалась потом. Он же молчал, сцепив зубы и скривив губы в ужасной улыбке. После окончания процедуры он успокаивал ее и, когда она начинала извиняться за излишние страдания, которые явно причиняла ему ее неловкость, говорил, что любые страдания от ее рук ему попросту приятны. От подобных заявлений у Софи немел язык и кончики пальцев.
Зато, когда дело доходило до удовлетворения естественных потребностей (в первые два дня Михаил был слишком слаб даже для того, чтобы самостоятельно перевернуться с боку набок), серел от унижения Туманов. Здесь уже смеялась и утешала его Софи.
– Мишка, ну чего ты дурака валяешь? – уговаривала она его, гладя по заросшей щеке. – Я же тебя всяким видела. И дети у меня есть. И бедный Эжен у меня на руках умер, я сама за ним ухаживала и до последней минуты с ним была…
Туманов в ответ на подобные уговоры только скрипел зубами, но против природы сделать ничего не мог, и потому вынужденно подчинялся Софи.
Все три дня Михаил только пил воду, а Софи, кроме того, съела найденную в зимовье краюшку хлеба и вволю лакомилась растущей вокруг дикой малиной.
– Послушай, Софья, надо решать, что нам дальше делать, – сказал Туманов на третий вечер, видимо приободрившись оттого, что ему удалось встать с лежанки, раскачиваясь из стороны в сторону и цепляясь за все подряд, выйти наружу и самостоятельно справить малую нужду.
Отлежавшись после этого в течении получаса, он приступил к разговору.
– А что ж ты предлагаешь? – спросила Софи. – Ты никуда идти покуда не можешь, а я в тайге сразу заплутаю, и даже если каким-то чудом выйду на тракт, так потом к тебе никого привести по лесу не сумею… Так что будем пока жить здесь, вести хозяйство… Я, кстати, как раз хотела тебя спросить: здесь есть ячменная, если я правильно понимаю, крупа, ты не объяснишь ли мне, как из нее кашу варить? Почему-то мне кажется, что ты должен знать…
– Ты будешь вести хозяйство?! Не смеши меня! Да тебе доводилось ли хоть раз в жизни самостоятельно вскипятить воду?
– Не доводилось, – невозмутимо отвечала Софи. – Но я видела, как это делают другие, и полагаю, что в том, чтобы сварить суп, нет ничего недоступного моему пониманию и возможностям. Моя кухарка вряд ли способна написать вместо меня роман, а рабочий на твоем заводе вряд ли способен управлять заводом. Но ты вполне можешь бегать с тачкой и работать на вашгердах, а я после небольшой практики сумею поджарить мясо. Если бы дела обстояли иначе, и обязанности низших классов требовали бы бо́льших умственных сил и развития, чем обязанности низших, то не понадобилось бы усилий стольких революционеров, целью которых является как раз перемешивание этой сложившейся структуры. Мир перевернулся бы сам собой, под своей собственной тяжестью, и наверху опять оказались бы те, кто призван знать и уметь больше.
В ее словах была такая чертова пропасть правды, лжи, великолепного презрения и урожденного высокомерия, что ему одновременно хотелось и ударить ее и стиснуть в объятиях. Если их всех изведут, – угрюмо подумал он, вспомнив слова Ипполита Коронина про обреченность дворянской аристократии, – то потом люди будут отчаянно тосковать по ним, до тех пор, пока не выведут следующих…
– Хорошо, – мрачно сказал Михаил. – Допустим, ты, как одаренный высший класс, научишься теперь варить кашу и даже ловить вон в те силки и свежевать зайцев и куропаток…
– Свежевать зайцев будешь ты, – невозмутимо поправила Софи. – Я буду их варить или жарить.
– Ну ладно, ладно, – поморщился Туманов. – Кроме приготовления еды остаются другие вопросы…
– Какие? – осведомилась Софи.
– Те разбойники, которые меня… В общем, и они, и их хозяин наверняка уже знают, что мишка меня не загрыз, и я не сдох возле того дерева…
– Откуда же они это знают?
– Черт возьми, они были бы круглыми дураками, если бы после не вернулись туда, чтобы замести следы: обрезать и унести веревки, завалить кострище и прочее. Если бы я там и сдох, все должно было выглядеть так, как будто бы меня и вправду медведь задрал…
– А что ты сказал об их хозяине? Ты знаешь его?
– Трудно сказать… На поляне я видел его всего несколько мгновений, и у меня уже все мешалось в голове и перед глазами… Но у меня есть некие подозрения… Еще на Алтае к нам явился как будто бы корреспондент некоей сибирской газеты, который почему-то излишне интересовался концессиями по золоту и прочим… Мне он с самого начала показался весьма подозрительным и… И именно в тот вечер я и подумал о завещании…
– И в качестве хозяина на поляне был именно он? Этот лже-корреспондент?
– Я не мог бы поручиться наверняка…
– Опиши мне его, пожалуйста, – попросила Софи.
Зная умную и цепкую наблюдательность Михаила, Софи рассчитывала на многое. И получила все сполна.
– Мне кажется, я его знаю, – заявила она. – Это – Николаша Полушкин, старший брат Василия Полушкина и родной сын князя Мещерского.
– Оп-па! – воскликнул Михаил, приподнимаясь на локте.
– Господи, сколько боли! – пробормотала Софи время спустя, сбрасывая на пол пропитавшийся кровью и гноем мох.
– Не тушуйся, – усмехнулся Михаил. – Делай свое дело. Я, кажется, уже говорил тебе когда-то: я боль чувствую хуже, чем большинство людей. Один английский врач сказал мне, что это такая врожденная или приобретенная в раннем детстве особенность физической конституции. Называется: высокий болевой порог. Я думаю, у меня это с детства…
– А с чего это тот врач тебе сказал? – подозрительно спросила Софи.
– А он как раз пулю из меня вытаскивал, – безмятежно пояснил Михаил. – Дело было на Оранжевой реке… Англичане там…
– Погоди, – прервала Туманова Софи. – Я от кого-то недавно уже слышала рассказ про эту Оранжевую реку. Точно! Я не могла ошибиться… Кто же?… А, вот! Про Оранжевую реку рассказывал Ачарья Даса, он же – Федор Дзегановский!
– Ты знаешь Дзегановского?! – в свою очередь поразился Туманов.
– И ты?
– Ну да, я с ним как раз на этой Оранжевой реке и познакомился. По сути, мы вытащили друг друга из весьма серьезных переделок, и оба оказались друг у друга в долгу. А потом он рассказал мне про этого Коську Хорька из Егорьевска и его карту, и мы вместе с ним уехали в Англию…
– Значит так, Мишка, – сказала Софи. – Сейчас я с тобой закончу, ты немного отдохнешь от этой пытки и расскажешь мне все по порядку. Даса – Коська – золото – карта – Мещерский – Николаша – англичане… Вот по этой приблизительно линии. И очень подробно. Хватит мне уже играть в эти игры с закрытыми глазами… Ты ведь еще не знаешь, что на заимке у Черного озера произошло…
– Ты мне расскажешь?
– Конечно. Но только после тебя… Мишка… – Софи наклонилась и коснулась сухими губами плеча Туманова. – Ты все-таки безумен совершенно! Я просто смотреть на это не могу, сразу мутить начинает… Ну неужели тебе не было страшно, когда они…
– Безумно страшно! – признался Михаил. – Все время. Я жутко боялся, что под пыткой или в бреду назову твое имя, их хозяин поймет, что ты для меня значишь, и… Тут-то я, конечно, все им подписал бы, но ни тебя, ни меня это бы уже не спасло… Пока хватало сил, орал и ругался на всех языках мира. Надеялся, что они испугаются и заткнут мне чем-нибудь рот. Но им почему-то в голову не приходило…
– Ты напрасно боялся, Мишка, – грустно сказала Софи. – Мне ничего не угрожало. Николаша Полушкин даже вообразить не может, что для кого-то чужая боль и чужая жизнь может оказаться важнее, чем своя собственная…
– Ну, я бы не сказал, что даже сейчас тебе ничего не угрожает, – сумрачно заметил Туманов. – Они в любой момент могут сюда явиться и…
– Ты знаешь, – улыбнулась Софи. – Мне кажется, что мишка нас караулит и никого сюда не пустит. Я его ни разу толком не видела, но, знаешь… как-то несколько раз чувствовала рядом. То ветка хрустнет, то сопит кто-то… По своему медвежьему разумению возвращает тебе, точнее, инженеру Печиноге долг…
– Хороший мишка, – сказал Туманов и сцепил зубы, потому что Софи как раз потянула на себя очередной кусок присохшего мха.
В которой бушуют страсти, рассказывается история Коськи Хорька, Софи пишет к Элен, а киргизка Айшет убивает Веру Михайлову
Здравствуй, милая моя Элен!
Знаю, все знаю, но даже я вообразить не могу, что сказать. Петя писал ко мне. Пишу на адрес имения, надеясь, что, даже если тебя там уже нет, старые слуги найдут возможность передать, потому что все они тебя в независимости ни от чего боготворят, и меня, должно быть, помнят.
Говорю о своем, но не потому, что черства душой, как многие меня полагают, а потому лишь – что слов не найти. Ты все сделаешь, как надо – вот все, на что мне рассчитывать остается. Если бы могла молиться, молилась бы за тебя теперь.
Первое, что тебя интересует, наверное: инженер Измайлов.
С Андреем Андреевичем тут произошла история, которая словно списана из романов Виктора Гюго. Я, если честно, и до сих пор поверить не могу, думаю, тут какая-то ошибка, в которую все из тяги к романтизму поспешили поверить. Но это уж ничего не изменит, так что и судить не о чем.
Впрочем, рассказываю по порядку. Фигуранты тебе уж все представлены из прошлых двух писем, потому ближе к делу.
Полиция, получив понятные тебе известия, заинтересовалась нами с Андреем Андреевичем нешуточно. Машенька Опалинская, радея, кажется, не обо мне, а о нем (ревновать не стоит, он ей симпатизирует, но от нее, и это видно, душою устает), предложила нам, пока все утрясется, пожить у них с Сержем на заимке возле Черного озера. Задумывала и оформляла стоящий там терем небезызвестная тебе Варвара Остякова, и строеньице, скажу тебе, получилось оригинальное весьма. Вокруг терема живут всяческие, на сибирский лад «божьи люди», и среди них странница Евдокия, – высокая, строгая старуха с сухим лицом и широко расставленными зелеными глазами, которые, правду сказать, сразу показались мне знакомыми.
Жили мы там недолго, но скучно. Измайлов в охотку беседовал с «божьими людьми» все больше о Боге и смысле жизни, от чего у меня, как ты сама понимаешь, скулы сводило.
Все это время опять же небезызвестный тебе Николаша Полушкин, оказывается, пребывал в Егорьевске и плел свои интриги, конечной целью которых было заполучить принадлежащую англичанам концессию на добычу золота и меди на Алтае.
Один из англичан, мистер Майкл Сазонофф, тебе тоже знаком. Догадалась? Наверное. А теперь попробуй представить, что я испытала, увидев его живым и невредимым…
Скажу только, что действует он на меня также гипнотически, как и прежде. О будущем загадывать не берусь, но пока мы с ним крепко постановили в Петербург ехать врозь, там не видеться, а ему – как можно скорее уезжать обратно в свою Англию… Может быть, и пронесет, кто знает…
Похоже на то, что Николаша Полушкин каким-то образом имеет на меня зуб. То ли еще со старых времен (что вообразить сложно), то ли хочет меня извести, выполняя чье-то пожелание… В общем, именно он, по-видимому, предупредил жандармов, что на заимке у Черного озера мы с Измайловым прячем не только Гришу, но и еще, под видом странников – едва ли не взвод разных беглых политических и прочей каторжной шушеры. И все – вооружены, и готовы обороняться до последнего…
Казаки из Большого Сорокина, поднятые в ружье, во главе с есаулом поскакали сражаться с врагами царя и отечества…
Свободно гуляющая заповедными лесными тропинками Елизавета-Лисенок увидела их на марше, и, сразу заподозрив неладное, напрямик через болото кинулась на заимку – предупредить нас об опасности. Кто бы мог предположить, что вслед за рыжей Елизаветой отправится на прогулку наш неугомонный Серж Дубравин, по-видимому, тайно в нее влюбленный (я давно подозревала это, наблюдая, как он на нее смотрит, но все никак не находила доказательств…)!
На заимке все они появились буквально накануне приезда (точнее, «прискока») казаков. Мы, надо признаться, сначала растерялись и не поверили Лисенку. Все это казалось какой-то чепухой и бредом (ведь мы тогда ничего не знали о Николашином доносе). Наверное, казаки поднялись в какое-нибудь другое место, – подумала я. Потом Серж как-то очень решительно взял все на себя и сказал, что лучше все-таки подготовиться. Евдокия хотела переодеть меня монашкой, но Серж заявил, что на это нет времени и велел мне вместе с Лисенком бежать в лес, от греха подальше, а они с Измайловым останутся, чтобы в случае чего взять все на себя. Андрей Андреевич с тем согласился и даже предположил, что, как бывший народный трибун, сумеет с ними договориться.
Сразу скажу, что договориться не получилось.
Лисенка я потеряла почти сразу, и так и не поняла, куда она пропала. (Уже потом я узнала, что она вернулась на заимку). Сама же я сначала бродила, как мне казалось, вокруг озера, а потом, услышав выстрелы, просто побежала, куда глаза глядят.
Что-то (или кто-то?), должно быть, меня все-таки вело. Потому что спустя время я обнаружила привязанного к дереву окровавленного Михаила и огромного медведя с ним рядом… Я помню, что ты не слишком любила в детстве романы Фенимора Купера. Вот остячка Варвара, она бы меня поняла…
Какие-то нанятые Николашей негодяи пытались заставить Михаила подписать бумагу, передающую право на концессию (адским огнем гори все концессии на свете!). Михаил ничего не подписал, а душегубов, как выяснилось, спугнул тот самый медведь… Из его (Михаила, конечно, а не медведя) последующих рассказов явствовало, что этот безумец, предварительно переписав большую часть своего имущества на меня и детей (он знает про Джонни, но даже не подозревает о Павлуше), едва ли не радовался ужасным пыткам, видя в них – какое-то совершенно непонятное мне искупление неизвестно чего… Я чуть сама его не убила за весь этот бред, честное слово! Все-таки, как говорит один из здешних (и настоящих) англичан, трудное детство что-то такое совершает с русским характером, после чего все они (русские) начинают читать господина Достоевского и делать прочие безумные вещи… Глядя на Туманова, мне кажется, что он прав… Интересно было бы узнать, как ведет себя в подобных случаях характер английский. Французскому, например, характеру, если судить по романам того же Гюго, подобные испытания нипочем…
Пока жили с Тумановым в зимовье, вместо положенной реакции на потрясение испытала странное. Античная гармоничность простого физического выживания уже второй раз в жизни (и опять в Егорьевске) настигла меня и полностью поглотила. Ты усмотрела бы в этом глас Божий, я же вижу всего лишь руку помощи, отточенное милосердие природы, которое не по произволу, а согласно законам, по своему бережет каждого из своих детей, не делая ни для кого исключений и не ведая о понятии «греха»…
Другой роман (как я уже говорила, в стиле Виктора Гюго) разворачивался на заимке уже в мое отсутствие.
Взмыленные казаки на взмыленных лошадях, ожидавшие ожесточенного сопротивления, приняли Измайлова за Гришу, а клюку кого-то из странников – за ружье. Больше одного залпа они дать не успели, но и того было довольно. Измайлова закрыла собой странница Евдокия. Серж заслонил Лисенка, был убит наповал, и скончался сразу, на месте. Евдокия жила еще несколько часов, и успела передать Измайлову какой-то памятный крест и поведать желающим слушать душераздирающую историю о том, что она – ни больше, ни меньше – мать Андрея Андреевича, урожденная княжна Лигова, когда-то спутавшаяся с купеческим сынком, и отказавшаяся от появившегося в результате этой связи младенца… Скажу честно: я во всю эту ахинею с крестами не поверила. Возможно, у Евдокии и вправду был когда-то младенец, и она его и вправду бросила. Но чтобы этим младенцем оказался именно Андрей Андреевич! Однако, все присутствовавшие при трогательной встрече матери и сына, и ее вскоре последовавшей кончине, как мне показалось, приняли всю историю за чистую монету… Позиция самого Измайлова осталась мне непонятной, не до того было, так что сама узнаешь при случае…
Казачий есаул, пожилой дядька с удивительно закрученными голубовато-седыми усами, хорошо знавший Опалинского и даже откуда-то – Андрея Андреевича, увидав, что натворили его подчиненные, впал в умоисступление, сломал свою шашку… Измайлов же его в результате как-то успокаивал…
Сержа Дубравина жаль. Даже сама не ожидала, что так о нем пожалею. Нелепая получилась жизнь, в сущности ведь незлого, неглупого и умеющего любить человека… А как он был красив в юности! Для чего-то ведь природа создает и посылает в мир такую красоту… Как узнать? И кого в том винить, что вышло именно так, а не иначе? Николашу? Дурака-казака? Лисенка? Самого Сержа? Не знаю…
Елизавету нынче в Егорьевске ничего уж не держит, и я думаю забрать ее с собой в Петербург. Для меня это уж ничего не изменит – Лисенок хоть и дика, но все-таки не дите малое. Серж, я знаю, хотел, чтобы она дальше музыке училась, потом выступала. Пусть так и будет… Элайджу и Петю, думаю, сумею как-нибудь уговорить.
Я была бы не я, если бы после всех трагедий не рассказала тебе об ином.
Днями появился в Мариинском поселке Коська Хорек, которого все считали давно уж сгинувшим и похороненным. Приехал на хорошем возке, с запряженными в него двумя справными лошадками. Признал его старый поселковый пьяница Мартынов, который уж двадцать лет болеет открытым туберкулезом и все никак помереть от него не может (вот медицинский феномен, которого ни один врач объяснить не сумеет!). А после, к удивлению всех, наша дикая Соня с порога кинулась к Коське на шею с криком: «Косечка, родненький, я всегда знала, что ты – живой!» Он тоже умилился, прослезился старческой слезою и заявил, что Соня – выросла, зацвела и стала писанной, невозможной красавицей. Я после такого даже еще раз к ней пригляделась и должна признать: Коська прав, Соня и вправду похожа на красавиц с рыночных лубков, а еще пуще – на расписных матрешек. Глаза – голубые пуговицы, нос кнопкой, губки бантиком, на щеках (когда спокойна) нежно-розовый румянец… Как я поняла, Сонечка держит Коську за одного из своих приемных отцов… Бедная, в сущности, девочка. Все-то у нее есть, и все – неладно. Жизнь ей подарила не умирающая мать, а пьяный фельдшер и страхолюдный инженер, которого после убили. Собственный отец ее предал. Приемная мать – Вера. Приемные отцы – остяк Алеша и пьяница Коська. Есть брат и сестра – но вроде бы и ненастоящие. Есть и настоящие (хоть бы слабоумный пастух Егорка), но с теми – не связывает ничего. Есть любовь, но как бы – к брату… В общем неудивительно, что от такой тотальной неопределенности она всего дичится, и по миру стороной идет…
Я же, в отличие от всех, Коськину историю к тому времени уже знала со слов Ачарьи Дасы, в изложении Туманова.
Восемь лет назад, во время бунта (того самого, который Андрей Андреевич усмирял), Хорек, с его истерзанными пьянством и тяжелой жизнью нервами, со страху бежал в лес, и некоторое время привычно кочевал по самоедским становищам. Там-то с ним и познакомился Даса (который тогда еще был вполне Дзегановским). Слабого, но по своему смышленого и талантливого Коську, как я понимаю, всю жизнь тянуло к людям более сильным или хоть более образованным, чем он сам. Именно поэтому он сошелся когда-то с Иваном Гордеевым, потом – с Никанором и Митей Опалинским. Теперь же – прилепился к Дзегановскому. Тайгу, степь и промежуточные между ними области березовых лесов, а также обычаи населяющих их племен и народов Коська знал великолепно. Для путешествующего от скуки Дзегановского Хорек оказался подлинной находкой, и он без колебаний взял Коську к себе в услужение. Двигаясь на восток, слушал его байки, разделив все на десять, сочувствовал Коськиной несчастной судьбе. Впрочем, в то, что слабовольного Хорька могли использовать все, кому не лень, легко было поверить… Коська же, в свою очередь, с восторгом внимал рассказам барина о жизни в столице и при дворе, непритворно охая и ахая, поражался тамошним нравам и обычаям… Даса, как ты сама знаешь, рассказчик не ахти какой. Можно сказать, что Коська Хорек стал его первым слушателем и учеником…
Где-то в районе Нерчинска Хорек распрощался с Дзегановским. Федор щедро расплатился со своим слугой-компаньоном и двинулся дальше, за границы Российской империи, к Порт-Артуру. На прощание тронутый добрым отношением Федора Коська подарил ему нарисованную по памяти карту приишимских болот с нанесенными на нее тремя богатыми месторождениями золота. Дзегановский принял подарок, но в историю про Коськин талант золотоискателя, разумеется, поверил не слишком. Когда пару лет спустя Туманов и Дзегановский познакомились между собой в Африке, Федор как-то, смеясь, рассказал Михаилу всю историю про таежного самородка и в доказательство показал подаренную карту. Михаил, который, как ты помнишь, читал мой роман, легко соотнес литературного Хорька с настоящим. Можно представить себе удивление Дзегановского, когда Туманов сообщил ему, что месторождения, отмеченные на карте Коськи, скорее всего, действительно существуют…
Дальнейшая история жизни Коськи известна уже от самого Хорька. Сразу после отъезда Федора балагур Коська удачно присоседился к местной вдове (манчжурке или китаянке – я не поняла), которая проживала в собственном домике с двумя сыновьями подростками. Коська, который имел деньги на первое обзаведение и недавний урок мудрого остяка Алеши, удачно вошел в раскосую семью и вот: на старости лет таежный пьяница и бродяга получил все, о чем не мог даже и мечтать – дом, жену, детей и уважение от местных, деревенских людей. Грамотность, рукастость, богатый жизненный опыт, рассудительность и незлобивость Коськи со временем позволили ему выдвинуться едва ли не в руководители общины…
Загадочное явление Коськи в Егорьевске взволновало и встревожило очень многих. Иван Гордеев когда-то отобрал у Коськи права на разведанное им месторождение и сослал Хорька на каторгу. Хромоту и болезнь Машеньки Гордеевой тоже как-то связывают с Коськой. Потом явление Коськи во время бунта способствовало повторному удару у Ивана Парфеновича. Никанор и настоящий Митя Опалинский имели с ним дело. Вера… Англичане… Карты, составленные для разных людей в разное время… Теперь все гадали: с чем же явился в родной город старый Хорек? Чего и у кого потребует или попросит? На что предъявит права? Какие откровения ждут егорьевцев?
И без того потрясенный недавними событиями городок замер в предвкушении…
И вот, обласканный Соней и Матвеем, наевшийся и напившийся, и даже попарившийся с дороги в бане, Коська объявил свою волю тревожно прислушивающейся Вере Михайловой:
Собрав едва ли не все свободные деньги с односельчан, грамотный Хорек был отправлен ими в родной городок для покупки возможно бо́льшего количества волшебного напитка, который возвращает человека к его первоначальной сущности… под названием – «алкагест»…
А теперь представь, как мы с Верой смеялись!
Господи, Элен, но как же ты решилась?! Я спрашиваю себя все время и ответа нет. А у тебя, выходит, есть он? Восхищаюсь, страшусь и завидую.
Соскучилась по тебе безмерно. Живу надеждой на скорую встречу.
Последнее предосеннее тепло в Егорьевске мало кого грело. После минувших событий многих бил не проходящий от ласковых солнечных лучей озноб.
Марья Ивановна Опалинская носила траур и часами пропадала в Покровской церкви. Шура Опалинский после похорон отца неделю пролежал в кровати с приступами давно минувшего вроде бы удушья, а после – поднялся и, бледный, разом повзрослевший, пытался заняться приисковыми и прочими делами, которые почти полностью упустила из рук мать. Понятно, что семнадцатилетнему подростку это было категорически не под силу, и потому инженер Измайлов фактически переселился в усадьбу Гордеевых, помогая Шурочке советами и вообще чем мог.
«Снимите рубаху, Майкл!» – велел сэр Александер мистеру Сазонофф, когда они впервые после возвращения последнего из тайги остались наедине. Сазонофф, криво ухмыляясь, выполнил просьбу компаньона. Взглянув, лорд Лири судорожно втянул воздух сквозь стиснутые зубы. В последующие дни неунывающий англичанин веселился куда меньше обычного.
На следующий вечер все трое англичан переехали из «Луизианы» в «Калифорнию» и стали готовиться к отъезду в Петербург. Мистер Сазонофф и Софи Домогатская открыто жили в общих покоях. Совместное бытие в преддверии неизбежной разлуки изматывало обоих донельзя, и Софи, вообще-то не склонная попусту любоваться природой, не выдерживая напряжения, часто убегала в гудящий комариным малиновым звоном лес.
Ночью Туманов зажигал лампу и не закрывал глаз, когда они любили друг друга. Он смотрел на нее, когда она засыпала, просыпалась, ела, мылась, причесывалась. Его постоянные жадные и откровенные взгляды бесили и возбуждали ее.
– Если бы я позволила, ты, кажется, потащился бы со мной на толчок, – зло говорила она.
– Да, я думал об этом, – медленно отвечал Туманов.
– Слушай, Мишка, ты безумно, невыносимо вульгарен! – злилась Софи.
– Сам знаю! – огрызался Михаил. – Но что ж мне теперь с собой сделать? В скопцы, что ли, податься?!
Вся история целиком была рассказана Вере, компаньонам и Васе Полушкину. Василий от известия о возможной причастности Николаши к мучениям мистера Сазонофф пришел буквально в неистовство, в его близоруких глазах плескался золотистый огонь бешенства, а сильные веснушчатые пальцы судорожно ломали все, к чему прикасались. К вечеру он явился в «Калифорнию» к Туманову и Софи и заявил, что бросает все дела и едет в Петербург либо с англичанами, либо – с Софи и Измайловым. Вопросов о причине подобного решения ему не задали, потому что и так всем все было ясно.
После его ухода Софи вспомнила о душевном расстройстве и религиозном «обращении», которое когда-то настигло Васиного отца сразу после пережитого им потрясения, и высказала Михаилу свои соображения о том, что, наверное, они зря сообщили Васе всю правду. В ответ Туманов резонно заметил, что сделанного воротить нельзя…
В пику всем на свете смертям Луша, жена Ивана Притыкова, родила седьмого сына. Не дождавшись дочери, сама роженица проплакала почти сутки после родов, а Ваня и братья новорожденного радовались и смеялись. «Седьмой по счету – счастливый! Русская народная примета!» – торжественно сказал присутствовавший на крестинах лорд Лири и подарил мальчику маленькое позолоченное распятие. Неожиданно для всех Каденька вызвалась быть крестной матерью нежеланного для родной матери младенца, которого в честь англичанина нарекли Александром, и зачастила в просторный и шумный дом Притыковых. Луша сначала дичилась резких Каденькиных манер, но вскоре обнаружила, что Леокардия Власьевна не только тетешкается с крестным сыном, но и по военному быстро и четко строит всю мальчишескую ораву Притыковых. Это казачка могла оценить, оттаяла, и преисполнилась благодарности к женщине, которая, пусть и из каких-то непонятных Луше причин, но приняла на себя часть ее родительской ноши.
Аглая и Илья отложили свою свадьбу из-за трагических событий, но сами не потеряли обретенного недавно глубинного покоя, и в пучине бушующих вокруг страстей оставались островками спокойствия и здравомыслия. В «Калифорнии» и в доме Златовратских часто собирались теперь жаждущие успокоения егорьевцы. Софи в обществе Нади и Аглаи отдыхала от ненасытной любви Туманова. Вера возобновила свои занятия с Левонтием Макаровичем. Мистер Барнеби весьма бодро беседовал со Златовратским на латыни о прошлом и будущем юриспруденции. Сэр Александер с помощью Веры опрашивал трактирных слуг и приходящих крестьян и записывал в специальный блокнот пословицы и народные приметы. Ваня Притыков заходил в «Калифорнию» выпить стакан вина и поболтать с Ильей, а к Златовратским – в охотку потолковать с Каденькой об очевидных способностях и будущем своих теперь уже семерых сыновей. Измайлов, как всегда унылый и недовольный собой, являлся к Ипполиту Коронину поговорить об общественно-политических движениях, а больше – послушать и отвлечься от каких-то своих, явно невеселых мыслей. Софи однажды попробовала вежливо посочувствовать Андрею Андреевичу в связи со смертью его предполагаемой матери, и услышала в ответ сбивчивую филиппику о том, что ныне ничтожность личности Измайлова неопровержимо обличается тем, что он никогда, ни за какую идею, в сравнении с Михаилом Сазоновым, не сумел бы выдержать того, что тот выдержал… В этом месте Софи начала оглушительно визжать и с ходу обозвала инженера всеми презрительными прозвищами, которые только сумела придумать и из которых «старый недоносок» было одним из самых мягких. Кажется, Измайлов был нешуточно удивлен такой бурной реакцией, и даже осведомился у подвернувшегося Матюши Печиноги, не понимает ли он, в чем тут дело. Дотошный Матюша задал несколько уточняющих ситуацию вопросов, но, поскольку восхищался мужеством мистера Сазонофф едва ли не более самого инженера, также не смог предположить по поводу парадоксальной реакции Софьи Павловны ничего дельного… Вася Полушкин, сидя в гостиной Златовратских, искал в Аглае, Наде и Каденьке любочкины черты и тем немного смирял кипящие в глубине его души страсти.
Однажды, когда дом Златовратских по сложившемуся обыкновению был полон гостей, в кабинете Левонтий Макарович с Верой обсуждали будущее образование Матвея. Раз уж решено, что Матвей поедет в Петербург, Златовратский горячо высказывался за юридический факультет. Вера размышляла вслух: Матвей Александрович наверняка пожелал бы, чтоб его сын сделался инженером, как и он сам… Но, с другой стороны, захочет ли Матюша после получения образования возвращаться в Егорьевск? А профессия юриста в столице (да пусть даже и в сибирских больших городах) не более ли востребована, чем горное дело?…
После Вера поблагодарила и собралась уходить. Левонтий Макарович, старчески покряхтывая, галантно присел, чтобы застегнуть ей ботинки…
С детства прислуга Златовратских, черноглазая киргизка Айшет, точно на этом месте вошедшая в кабинет, вынула из складок одежды широкий охотничий нож и с размаху вонзила его прямо в грудь Веры Михайловой…
В которой лорд Александер прощается с Верой, а Матвей Печинога узнает о тайне своего рождения
Бледная, как простыня, Надя запретила вынимать из раны нож, чтобы не было кровотечения, и тихо предупредила Софи, что жить Вере осталось, быть может, минуты.
– Вера… Боже мой, Вера! – шептала Софи, стоя на коленях у кушетки, на которую Златовратский и Притыков уложили умирающую.
Вера открыла глаза и нашла взглядом того, кто говорит.
– Софья Павловна…
– Я так виновата… – прошептала Софи.
– Надо сказать им… Гордеевым… чтоб прекратили делить… – тихо выговорила Вера. – Матюшу… жаль… но он… сможет…
– Ты… знаешь?! – потрясенно воскликнула Софи.
– Конечно… Всегда знала… – посиневшие губы Веры с выступившей в углах кровавой пеной сложились в улыбку. – Матюша – сын Элайджи. Мой – умер… Ты подарила его мне… вместо Саши… Хотела как лучше… Скажи им…
Больше Вера ничего не говорила до самого конца и не открывала глаз.
За пару мгновений до того, как оборвалось судорожное, толчками, дыхание, она тихо, но отчетливо произнесла:
– Всё тебе… Матюша мой…
Все, слышавшие последние слова Веры Михайловой, считали, что ими она как бы отписывала сыну все принадлежащее ей имущество.
Софи же, которая когда-то присутствовала при кончине инженера Печиноги, думала иначе. Она уверенно полагала, что последние слова Веры были обращены к ее мужу и возлюбленному, Матвею Александровичу, которому она и посвящала всю прожитую ею жизнь…
О своем предположении Софи ничего и никому не сказала, целомудренно оставив это между двоими…
Киргизку Айшет заперли в темной кладовке и вызвали исправника.
Левонтий Макарович Златовратский стоял столбом посреди комнаты и, по видимости, просто не догадывался куда-нибудь сесть.
– Безумно! Безумно! – восклицала Каденька, ломая пальцы. – Мы столько лет жили с ней в одном доме и даже подумать не могли… Надя, скажи: ведь это внезапное помешательство, какие-нибудь микробы, не иначе?!
– Нет, – устало откликнулась вместо Нади Софи. – Все это, конечно, странно, но к внезапному помешательству касательства не имеет… Почти смешно, если бы не было так страшно… Мою Веру любили такие… сильные люди. Она часто ходила по краю. А в результате ее… ее убила бессильная, никогда ненужная ей любовь… Ваша любовь, Левонтий Макарович… И вы, Каденька… Вы взяли Айшет из интерната для девочек-киргизок, когда ей исполнилось тринадцать. Десять лет Айшет носила за вами корзинку с медикаментами, а потом еще десять лет – тазик с горячей водой для ног Левонтия Макаровича… У вас, конечно, были очень передовые взгляды на прислугу, и вы ее не обижали, но живой человек просто не может быть так… В результате она стала женщиной, но личность в ней умерла… Вы убили Айшет, а она убила Веру…
После отпевания в церкви, когда подошла очередь прощаться с покойной, лорд Александер Лири, третий сын герцога Уэстонского опустился на одно колено рядом с гробом, поцеловал в губы бывшую крепостную крестьянку Веру Михайлову и тихо, но отчетливо сказал слова, которые потом, уже переведенные на русский язык, передавались по всему Егорьевску:
– Прощай, леди Вера! Моя леди…
Сразу после смерти своей бывшей горничной Софи, оставив Туманова в «Калифорнии», переселилась в Мариинский поселок, в дом инженера Печиноги, в котором последние восемнадцать лет и жила Вера. Выполняя последнюю волю умирающей, Софи почти тут же рассказала Матвею о том, что он – не родной сын Веры и Матвея Александровича. Их сын умер в родах, и она, Софи, вынудив к содействию ныне покойного поселкового фельдшера, подменила мертвого младенца вполне живым, внебрачным первенцем юродивой Элайджи. Так что кровные родители Матвея живы и хорошо ему знакомы, а «звериная троица» приходится ему родными братом и сестрами.
Матвей выслушал новость внешне спокойно, только на высоких скулах ходили упругие желваки. Подумав, спросил, может ли он в сложившихся обстоятельствах оставить себе фамилию и отчество покойного инженера, и по-прежнему именоваться Матвеем Матвеевичем Печиногой. Поразмыслив, Софи признала, что так будет лучше, проще и порядочнее всего.
– Теперь, Софья Павловна, позвольте откланяться, – продолжил Матвей. – Я идти должен. Сестры меня ждут.
– Обожди, Матвей! – окликнула юношу Софи. – На тебя нынче столько всего свалится, что взрослому не любому снести. Стеша… она мала еще и присмотра требует. Учить ее надо. Тебе недосуг будет… Да и теперь все знают, что вы – не родные. Неладно это. Я хочу ее в Петербург с собою взять. Пусть у меня пока живет, а как подрастет да выучится – сама решит…
– Стеша – моя родная сестра! – грозно сверкнув серо-коричневыми глазами (Гордеевскими, черт побери! – иван-гордеевскими… У Ивана Притыкова и половины его «боровичков» – такие же!), отчеканил Матвей. – А Вера Артемьевна была мне родной матерью. Если ее дочь захочет остаться и жить со мной, то – останется, и я уделю ее воспитанию ровно столько сил и внимания, сколько потребуется…
– Как мы грозны! – добродушно усмехнулась Софи (Матюша с каждым днем нравился ей все больше). – Да только неувязка у тебя выходит. Что же Соня тогда – тоже твоя родная сестра? А как же…
Матвей чуть заметно смутился.
– Простите, Софья Павловна, но наши с Соней дела до вас не касаются. Мы сами решим.
– Хорошо, решите, – покладисто согласилась Софи. – А только Стешу я все равно про Петербург спрошу. Ведь у нее талант к механике, она учиться хочет, об этом тоже забывать нельзя…
– Женщин не обучают механике, – заметил Матвей.
– Ну, вот это мы еще поглядим! – Софи беспечно махнула рукой, потом снова стала серьезной. – Матвей… Ты осуждаешь меня теперь за то, как я твою жизнь решила?
– Мне не с чем сравнить, чтобы что-то решить об этом, – медленно, чуть растягивая слова, сказал юноша. – Я прожил именно ту жизнь, которую прожил, и не знал другой. И, подумайте сами, как я могу осудить зрелую, имеющую детей женщину, которая сейчас стоит передо мной, за то, что сделала когда-то шестнадцатилетняя девочка, моложе нас с Соней годами?
– Да! – удивилась Софи и накрутила на палец локон. – В твоих словах есть резон. Я об этом как-то и не подумала…
– Теперь все-таки позвольте мне вас оставить… Нет ли у вас в чем-то нужды в этом доме? – церемонно осведомился Матвей.
– Спасибо, ты настоящий хозяин… – грустно улыбнулась Софи. – Неужели ты еще не понял, Матюша, что такой человек, как я, всегда и везде раздобудет все, что ему надо?
– Я должен был спросить, – дипломатично ответил юноша и вышел, склонив на прощание голову и едва ли не щелкнув каблуками.
– Господи, ну как хорош! – как бы не облизнувшись от удовольствия, прошептала Софи. – И – вот поразительно – на Матвея Александровича тоже похож на диво!
Узнав об открытии давней тайны, отец Андрей, владыка Крестовоздвиженского собора, немедля стал на неурочную молитву и вознес Господу свою горячую благодарность за избавление от той тяжести, которую он хранил в своей душе много лет, после исповедания умирающего приискового фельдшера Терентия Озерова.
Полагая себя атеисткой и потому не признавая понятия «греха», Софи, тем не менее, вполне признавала мирское покаяние перед людьми, и потому сочла нужным лично, глаза в глаза, переговорить со всеми, кого так или иначе затронуло ее давнее, единолично принятое решение.
Элайджа отнеслась к известию о наличии у нее еще одного сына мирно и вполне благодушно. Помолчав немного и предложив Софи чаю или отобедать, она сообщила, что всегда знала о том, что ее первый младенчик не умер, хотя и не могла толком понять, где именно он находится. Теперь же ей все стало ясно и она рада тому, как все благополучно прояснилось. Хотя Веру, конечно, ужасно жалко…
Петр Иванович Гордеев сначала упрямо молчал, глядя в землю и стараясь не дышать в сторону Софи, а потом брякнул что-то насчет того, что, мол, хоть одного как следует воспитали, и, резко развернувшись на каблуках, ушел со двора, сопровождаемый двумя гончими, которые виляли хвостами и явно сочувствовали настроению хозяина.
Самым тяжелым, как ни странно, вышел разговор с Машенькой Опалинской. На фоне траура лицо и волосы вдовы казались присыпанными мукой или белой пыльцой. При том с самого начала было ясно, что никакой радости от появления на егорьевских горизонтах четвертого «звереныша» Опалинская не испытывает.
– Как же они его звать-то станут? – язвительно осведомилась она. – Медвежонком, должно быть, как старшего…
При упоминании о медведях Софи непроизвольно вздрогнула и едва овладела собой.
– Наследник Веры ваш родственник, Маша, стало быть, и делить более нечего, – перемогшись, сказала она вслух. – Вера перед смертью о том же говорила…
– Какие они мне все родственники? – без злобы и огорчения, равнодушно спросила Марья Ивановна. – У меня мужа убили… Из-за этой… тоже родственницы…
– Вы знали?! – удивилась Софи.
– Что – знала? – чуть встрепенулась Машенька и Софи, испугавшись, тут же кинулась на попятный.
– Ну… это… что Серж Елизавету собой заслонил…
– Рассказали добрые люди… – Машенька зябко повела округлыми плечами и плотнее закуталась в черную, кружевную шаль.
«Лисенок не проболтается никогда, – удовлетворенно подумала Софи. – Пусть же все тайны Сержа покоятся вместе с ним…»
– Он так и умер, и лежит не под своим именем… – словно угадав ее мысли, произнесла Маша.
– Вы сами так решили, когда-то, – заметила Софи. – Вы, Машенька, сами его на то обрекли…
– А надо было не так?
– Правда всегда светлее, хотя и тяжести в ней больше…
– Кто бы говорил! Вы же во все без спросу мешаетесь! – Марья Ивановна внезапно обозлилась, и даже румянец выступил на бледных щеках. – Отчего же тогда мою судьбу не определили, коли уверены были, как надо поступить? Все ведь у вас в руках было…
– Вы, Машенька, верующий человек. Даже странно, что спрашиваете. Если не Господь, так каждый сам тяжесть своего креста определяет. Где же мне место?
– Эка вы заговорили! А когда детей меняли?
– У меня перед Верой за отца долг был. Он у нее ребенка отнял, я ей вернула. А Элайджа не в обиде, как время показало. У вас ведь тоже долги еще от Ивана Парфеновича остались. Коське Хорьку Вера с Никанором, а после еще Даса (вы его не знаете) возвращали. А Митя Опалинский… тут уж я и не знаю, что сказать.
– Но отчего же я?! Это же Дмитрий Михайлович… то есть Дубравин… в общем, это он у него документы забрал и себя за него выдал!
– Так он-то у мертвеца брал. Тому и вправду не нужно уже ничего. Я б тоже так сделала, наверное, если б в его обстоятельствах очутилась. А потом… Разве он не вас оберегал? Вы ему хоть раз сказали: иди, облегчи душу, признайся, чтоб ни случилось дале, мы с Шурой все вытерпим. Если говорили, а он – отказался, тогда все мои слова – назад. И я перед вами в вине за клевету позорную. Что?
На этих же днях, в смятении души бродя по ночному лесу, Василий Полушкин едва не наткнулся на странную, в чем-то даже жуткую процессию. Двое людей несли на плечах какой-то продолговатый сверток, по форме напоминающий завернутое в саван человеческое тело. Двое других держали в руках зажженные факелы. Все вместе направлялись в сторону Неупокоенной Лощины. Между собой идущие не разговаривали и, напоминая бестелесных призраков, двигались странно тихо для людей, пробирающихся ночью по глухой тайге. Слышно было лишь потрескивание факелов, да бесшумно и причудливо плясали тени на листьях и древесных стволах.
Небезосновательно полагая свой рассудок расстроенным, Василий никогда и никому не рассказал об увиденном.
В которой Туманов вспоминает жену, инженер Измайлов жалеет Машеньку, Соня собирается в Петербург, а Матвей Печинога смотрит на звезды
– Послушай, Софья, я понимаю, что тебе теперь до того дела нет, но мне, выходит, и посоветоваться более не с кем… Инженер Измайлов сгодился бы, но у него глаза и душа в Петербург глядят… Василий Полушкин что-то поплохел последнее время…
Туманов сидел на кровати, прикрывшись простыней и спустив голые ноги.
– Попробуй со мной посоветоваться, – предложила Софи. – Хотя тебя мои мозги не занимают, конечно… Ты, наверное, и в их существование-то у женщин не очень веришь… Вот повстречался бы ты с Каденькой, когда она помоложе была, я бы на то взглянула…
Софи опустилась на пол у ног Туманова, приласкала, а потом поцеловала широкие узловатые колени. Туманов развернул ее к себе спиной, укутал чресла распущенными волосами женщины и тихонько зарычал от наслаждения. Софи обернулась, встретила разочарованный взгляд мужчины и любопытно блеснула глазами.
– А с женой ты тоже так делал?
– С ума сошла?! – сказал Туманов, почти грубо сжимая ее плечо. – Ну, Сонька! Вечно все испортишь!
Против воли Михаил вспомнил жену. Он хорошо знал, как доставить ей удовольствие в постели и всегда делал это раньше, чем получить удовлетворение самому. Никаких особых запросов у нее не было прежде и не появилось в супружестве. После близости она расслабленно и благодарно целовала его в плечо и засыпала, вздрагивая тонкими веками и изредка негромко всхрапывая. Туманов вполне отдавал себе отчет в том, что это он сам, почти сознательно, отказал в развитии ее женскому существу, и иногда корил себя за это. Впрочем, все эти годы его жена выглядела вполне довольной своей интимной жизнью.
– Так уж прямо все? – Софи глянула снизу вверх вмиг одичавшими глазами. – Именно испорчу? А так?
– Сонька! Не смей! Я ж в бане неделю не был!
– А в речке?
– Нынче купался. Перед тем, как с тобой…
– Ну и ладно. Это ж ты…
– Сонька-а…
… – Так о чем ты посоветоваться-то хотел?
– О золоте… Англичане спрашивают меня, а мне им и сказать нечего. Мы ведь все: я, они, еще пара аристократов в старой доброй Англии – прохвосты и прохиндеи еще те, один другого стоим. Я-то в Петербурге своей волей, их обманув (они-то нас с Дасой еще прежде обманули), устроил все так, что им теперь либо отказываться от всего вообще (тогда все мне достается), либо поневоле придется на Алтае разработки вести и деньги вкладывать… Ну и здесь… Что теперь, после всех смертей, делать-то со всеми этими картами, приисками, Хорьками, золотом болотным и прочим? Кто будет этим заниматься и каким порядком?
– Вы хотите знать, кто будет добывать золото в здешних болотах? – уточнила Софи. – Сейчас решу… – она привычно потянулась к волосам. Михаил с улыбкой поцеловал ее палец с намотанным на него локоном.
– Погоди, не лезь! – с досадой сказала Софи. – Ты мне все волосы обслюнишь… Не видишь, что ли, я думаю!
Туманов послушно откинулся на подушку и заложил руки за голову.
– Все, придумала! – заявила Софи несколько минут спустя. – Только ты мне сперва скажи: карт этих ваших – сколько?
– Полагаю, что две, – подумав, сказал Туманов. – После смерти Веры Михайловой одна, по-видимому, осталась у Матвея Печиноги (как я понял с твоих слов, он решил оставить фамилию… ну, даже не сказать кого… Но, по-моему, парнишка решил абсолютно правильно!). Вторая была у Дасы, а теперь – у меня. Но какое это имеет значение, если этот бессмертный Хорек, как оказалось, жив и в любое время может еще хоть двадцать таких карт нарисовать? Главное – аренда участков и прииски…
– Не совсем так, – возразила Софи. – Вера о том же волновалась, и с Коськой, когда он здесь был, подробно обо всем переговорила. По ее словам, Хорек при одном упоминании о золоте и старательстве начинает трястись, как припадочный, и глаза закатывает. ОН уверен, что все беды в его жизни произошли как раз от его проклятого дара, и хочет о нем позабыть окончательно и навсегда. Коська в Бога верит, и теперь искренне полагает, что его дар на золото был – прямо от Сатаны, в непосредственной передаче, оттого и сеялись вокруг одни несчастья. И больше он на эти дьявольские штучки не купится. Он нынче в своей манчжурской или какой там еще деревне без всякого золота счастлив, так и дожить хочет, и я его в том вполне понимаю. Так что никаких карт от Хорька больше не будет. Только те, что уже есть…
– Ну что ж, резонно, – согласился Михаил. – И что ж с того следует?
– А то, что я придумала, кто будет золото добывать! – с торжествующей улыбкой воскликнула Софи. – Это будет и правильно, и справедливо…
– Так – кто же? Обрадуй своей находкой и меня тоже, – усмехнулся Туманов.
– Гордеевы – вот кто! – объявила Софи.
– Как это? – не понял Михаил. – Кого ты имеешь в виду? Пьяненького Петра Ивановича с его сворой псов? Или его удивительную рыжую жену? Но она, как мне показалось, здорово не в себе…
– Да нет же! Ты ничего не понимаешь! – вскричала Софи и в сердцах дернула Михаила сначала за нос, а потом – за волосы. – Я имею в виду Гордеевых не по фамилии, а по духу и крови! Наследники Ивана Парфеновича и Марфы Парфеновны Гордеевых, – ты понял теперь?! Я же хорошо помню обоих. Она имела крепкую веру и понимала дело, долг и справедливость. А он был могучий во всех смыслах человек, и мечтал о железной дороге, о заводах, о силе и славе Сибири! Вот и пусть! Лисенка я увезу и сделаю из нее знаменитую пианистку, как Серж хотел… Но остальные! Смотри: честнейший и добросовестный Матюша Печинога, Иван Притыков с его семерыми сыновьями, трактирщик Илья и дети, которые, быть может, у них с Аглаей родятся, предприимчивая Аннушка, умный прохиндей Шурочка Опалинский… Да и Петр Иванович, быть может, – все-таки, если подумать, что-то такое удивительно цельное и крепкое в нем всегда присутствует… Видишь, сколько их!
– Господи… ты так говоришь… – Туманов поморщился и помахал ладонью перед лицом. – У меня даже в глазах защипало от чувствительности… Ты, Софья, на митингах выступать не пробовала?
– Да ну тебя… – обиделась Софи. – Сам же, между прочим, попросил…
– Да нет, нет, это все здорово! – тут же пошел на попятную Туманов. – Я только думаю, как бы это все англичанам объяснить, которые местного отца-основателя Ивана Парфеновича и в глаза не видали…
– Ну, это уж твое дело – их обработать! – решительно сказала Софи. – А только лучше моего – все равно ничего для Егорьевска не придумаешь, хоть сто лет думай!
– Ну да, да… – пробормотал Туманов. – Только вот еще осталось убедить английского барона Гольденвейзера, что ему теперь следует заняться именно облагодетельствованием Егорьевска, и ничем иным… Интересно узнать, можно ли где-то хоть карту английскую раздобыть, чтоб там этот Егорьевск был обозначен?…
Когда минуло девять дней после гибели Веры, к Матвею явились Типан и Ерема. Придерживаясь друг за друга, поклонились без обычных улыбок и прибауток, с двух лиц одинаково серьезно смотрели глаза – черные, раскосые и круглые, блекло-голубые. Ерема, из двоих более говорливый, держал речь:
– Как Вера Артемьевна была наша благодетельница, и из болота, в котором мы по лености души и глупости прозябали, вывела нас на свет Божий, так нынче мы вам, Матвей Матвеевич, обязуемся и готовы служить хоть советом, хоть работой, хоть животом своим. Дела теперича, после смерти благодетельницы, выйдут нелегкие, однако, где одна голова не справится, там три чего-нето да скумекают… Не побрезгайте и не обессудьте, что красно говорить не умеем…
Матвей поблагодарил инвалидов, поклонился в ответ и заверил их, что с благодарностью и уважением примет все их советы и помощь в делах.
В течение еще двух дней с теми же приблизительно речами в дом инженера пришли калмычка Хайме, старый, давно ушедший на покой приисковый мастер Капитон Емельянов, и с полдюжины, из числа самых смышленых, облагодетельствованных Верою приисковых баб.
Матвей принял всех по очереди вместе с Соней, напоил кофеем и, сам почти не говоря, всех внимательно выслушал.
После окончания визитов в поселке отзывались о «молодом хозяине» едва ли не с восторгом. По мнению тех немногих лиц, которые в Мариинском поселке были способны к анализу, в Матвее Матвеевиче счастливо сочетались качества обоих его приемных родителей: честность, ум и скрупулезность инженера Печиноги и не упускающая мелочей вежливость и твердость Веры. Присущих же родителям недостатков – невнимания к людям и холодности к ним же – «молодой хозяин», как всем хотелось верить, был лишен начисто.
– В общем – зарождение легенды о добром барине в самом классическом варианте, – за вечерним чаем в доме инженера Софи суммировала циркулирующие по поселку слухи. – Нелегко тебе теперь, Матюша, придется. Только не пытайся, прошу тебя, соответствовать. Сразу проиграешь… Веди себя и делай то именно, что сам найдешь нужным. Советы по делу, само собой, тоже слушать придется…
– Я знаю, Софья Павловна, – кивнул Матвей. – Соня, ты…
– Я хотела вас, Софья Павловна, попросить, – эхом откликнулась девушка и едва ли не в первый раз за все время взглянула Софи в глаза. – Вы Стешу соблазняете с вами уехать…
– Ребята, давайте попробуем взглянуть на ситуацию здраво! – тут же напористо прервала ее Софи. – Стеша – круглая сирота. Вам и без нее забот достанет, как бы самим выплыть. А мы с Верой… в общем, не хочу я, чтобы ее дочь без призору росла… Мне Стеша нравится весьма и не в тягость. В сравнении с Людой или Карпушей… сами понимаете…
– Я как раз хотела вас просить… – Соня упрямо выпятила подбородок, отчего ее личико вдруг стало похоже на кроличью мордочку. – Возьмите меня тоже… с собою в столицу…
– Тебя?! – изумилась Софи. – А как же… ну, твои особенности?
– Такая, как я теперь есть, я Матюше в тягость. Молчи, Матюша! – быстро, торопясь выговориться, сказала Соня. – Стеше ко мною первое время лучше будет, не так страшно. А после я уж сама… Либо сумею себя, как вы говорили, переломить, либо… тогда обратно приеду, и стану себе иную судьбу искать…
– То есть, ты хочешь, чтобы… клин клином? – уточнила Софи.
– Что-то вроде этого, – кивнула Соня.
– Софья Павловна, скажите хоть вы ей, что это глупость все! – раздраженно вступил Матвей. – Куда она поедет, если ей на ближайшей ярмарке дурно…
– Нет, Матюша, вовсе не глупость… – задумчиво сказала Софи. – Соня правильно решила… Как раз побудете врозь и увидите…
– Мне нечего смотреть! – гневно воскликнул Матвей. – Я все давно решил!
– И за нее тоже? – осведомилась Софи. – Нет? Так вот позволь и ей решить… А здесь, когда вы каждый день боками третесь, это, как я понимаю, ну никак невозможно… Каждый из вас узнать должен, чего вы по отдельности стоите. А потом уж – сойтись навсегда или не сходиться вовсе.
– Соня… скажи… – в голосе юноши слышалась подлинная мука. – Ты меня теперь покинуть хочешь… Отчего? Я… не нужен тебе?
Соня закусила губу и, сдерживая слезы, отчаянно замотала головой.
– Оставь ее! – воскликнула Софи. – А, впрочем… Судите сами. Только помните всегда: любовь предать нельзя. Можно обойтись без нее. Прожить всю жизнь, как живут большинство людей, в пустом наваждении гоняясь за вещами, деньгами, должностями, знатностью и прочим. И быть всем довольным. Это правильно и справедливо. Но, коли уж ты запросил от мира именно любовь, осмелился на нее, то не смей ее предать. Преданная любовь оборачивается злой черной собакой и мстит за себя всему живому.
Глядите: Иван Гордеев лишь пользовался преданной ему Настасьей Притыковой и не решился принять любовь молоденькой золовки Каденьки. В результате его сын, Ваня, рос среди злобы и разочарования, и с трудом после выправился благодаря уже собственной любви. Но это бы и ничего… Настасья в отместку разрушила жизнь и любовь попадьи Фани и урядника Загоруева. Каденька – обрекла на безлюбую жизнь Левонтия Макаровича, который, не в силах этого вынести, нелепой, бессильной любовью полюбил вашу мать. В результате Загоруев предает своего сына, а потом, отчаявшийся и почти раздавленный, способствует убийству мужа любимой дочери Ивана Парфеновича, а влюбленная в Левонтия Макаровича недоженщина Айшет убивает Веру. Круг замкнулся… Не предавайте любовь. Измерьте себя по сказаниям, которые есть у любого народа. И если она вам покажется не по силам, просто не беритесь за ее сладкую тяжесть…
– А мама Вера? – расширив глаза, спросила Соня.
– Вера прожила полную жизнь. Она на все осмелилась и все, что было ей послано, выбрала у жизни целиком. Вы и Стеша – лучшее тому доказательство. Не печальтесь о ней чрезмерно… Все равно ни один из нас не мог бы представить себе Веру старой. Не так ли?
– Пожалуй, да. Мы все… стараемся держаться. Я был сегодня на ее могиле и ушел…
– Почему же?
– Там стоял лорд Александер. Он… плакал…
– Лорд Александер Лири плакал на могиле Веры Михайловой? Ну что ж – вот лучшее подтверждение тому, что я вам сказала… Ты поедешь со мной в Петербург, Соня. Мне все равно нужна помощь, чтобы справиться со всем этим… выводком. Вот ты мне и отработаешь.
В комнате Матвея горел стеклянный китайский ночник в форме пагоды.
Юноша сидел на узкой, высокой кровати, обхватив руками колени, и бездумно смотрел на маленький домик, освещенный изнутри чуть дрожащим светом.
Дверь открылась бесшумно (все дверные петли в доме были тщательно смазаны, потому что Вера Михайлова не выносила их скрипа), и на пороге обозначилась тонкая фигурка в ночной сорочке.
– Соня! – Матвей вскочил на кровати и с треском ударился головой о дощатый, оклеенный розовой бумагой потолок.
– Ой, Матюша!
Девушка от неожиданности присела и закрыла рот ладошкой.
Матвей спрыгнул на пол, пятерней взъерошил темно-рыжие волосы на затылке и нерешительно шагнул вперед.
– Ты, Соня… зачем пришла?
– Ты не знаешь? – вопросом на вопрос ответила девушка.
– Не знаю! – решительно ответствовал Матвей. – Не надо тебе… Да еще так… Замерзнешь же…
– А ты согрей! – с где-то подсмотренным вызовом сказала Соня.
Матвей состроил гримасу, которую девушка не смогла прочитать и испугалась.
– Матюша, я не хотела… я…
– Знаю… все знаю, милая… Иди сюда.
Матвей осторожно усадил Соню на свою кровать, сам сел рядом и обнял ее. Она прижалась к нему так, словно должна была немедленно умереть и знала о том. Плечи ее тряслись, а зубы лязгали так сильно, что было слышно.
– Ты боишься ехать? – спросил Матвей. – Не надо, не поезжай. Останься со мной. Стеша и с Софи, и с инженером Измайловым хороша. Они ее не обидят…
– Я уеду, Матюша, – сказала Соня и судорожно всхлипнула маленьким, курносым носиком. – Иначе, как бы ни обернулось, мне все одно покоя не будет. Даже с тобой… А нынче я пришла, чтобы мы… Ты ведь сразу догадался, как меня увидел, да?
– Соня, но как же так?! – воскликнул Матвей. – Я не понимаю. Если ты теперь уедешь, то как же я могу… Я же тогда никуда тебя не отпущу!
– Так это потому именно, что я теперь уезжаю! – попыталась втолковать Матвею девушка. – Это… ну как бы мой обет тебе… Ты за чаем спросил… Чтобы ты знал наверняка, что мне никто, кроме тебя, не нужен…
– Ничего себе доказательство… – пробормотал Матвей, отстраняясь.
Соня потянулась за ним, но он поднялся и отошел к окну. Потом обернулся к ней. Белая исподняя рубаха была распахнута на груди, лицо, шея и кисти рук юноши на ее фоне казались очень смуглыми.
– Нет, Соня, я так не могу! – решительно сказал он. – Либо сейчас мы с тобой… как ты хочешь… даем друг другу последнее доказательство нашей любви, а после сразу венчаемся, и ты никуда не едешь… Либо ты уезжаешь с Софи и Стешей в Петербург, и… покуда не решишь иначе, можешь считать себя свободной…
– Матюша, пойми… – Соня заплакала, подбежала к юноше и грациозно опустилась на колени, обхватив тонкими руками его бедра.
Матвей задрожал и до крови прокусил нижнюю губу.
– Соня! Я прошу тебя!
Он сильным рывком поднял ее с колен, подхватил на руки и долго носил по комнате, утешая и баюкая, как ребенка.
– Я принимаю твой обет, – прошептал он ей в распущенные волосы. – И сам обещаю любить только тебя, сестра моя и возлюбленная моя. Но это… это случится между нами только тогда, когда мы сможем быть окончательно и навсегда вместе. Иначе я… я не смогу жить… Ты понимаешь теперь?
– Понимаю, Матюша, любимый, – прошептала в ответ Соня. – Ты помнишь… когда-то, детьми, мы видели под елкой маму Веру и разбойника Никанора?
– Конечно, помню, – улыбнулся Матвей. – Он, как я понимаю, был отцом нашей Стеши…
– А потом там, на берегу… ты смотрел на меня… А я – на тебя…
– Я никогда не забывал…
– Как ты думаешь, мы можем теперь?…
– Да, Соня, – поколебавшись мгновение и взвесив свои силы, сказал юноша, поставил девушку на пол и осторожно, через голову, стянул с нее простенькую ночную сорочку.
Задохнувшись, долго смотрел на открывшуюся его взору картину. Потом облизнул вмиг пересохшие губы.
– А ты? – нетерпеливо сказала Соня.
Матвей снял рубаху.
– Всё! – потребовала девушка.
– Соня… Я не могу…
– Так нечестно! Ты ведь все у меня видел…
Матвей кирпично покраснел и потянул завязку домашних штанов…
– Ой! – тихо сказала Соня. – Какой же ты… весь прекрасный…
Юноша зажмурился и сжал кулаки.
…Бывшая сестра играла с его телом, как с потерянной, любимой, и нежданно вновь обретенной игрушкой. Тихо, гортанно смеялась и наслаждалась каждым взглядом и прикосновением. Матвей крепился и утешал себя тем, что мистеру Сазонофф, привязанному к дереву в тайге, пришлось все же куда хуже…
Потом девушка заснула на его кровати, свернувшись калачиком под одеялом, а он последний раз поцеловал ее в висок, на котором дрожала маленькая синяя жилка, вышел во двор и до утра, скукожившись, сидел на крышке колодца и смотрел, как величественно поворачивается над лесом небосвод, как сначала разгораются, а потом гаснут с рассветом звезды…
Софи Домогатская видела его из окна. Она искренне жалела Матвея, но понимала, что сейчас никто и ничто не может ему помочь. Никто, кроме простенькой курносой девочки-сироты, которая сначала должна отвоевать у мира самое себя…
Марья Ивановна сидела на широком подоконнике, под сенью пышного старого куста китайской розы. Справа от нее уходила вниз лестница. А прямо впереди – дверь в кабинет, когда-то отцовский. Сейчас там Андрей Андреевич Измайлов и Шурочка обсуждали дела. Маша слушала, о чем они говорили.
– …А вы можете, Андрей Андреевич, объяснить, как акции по золоту или хоть по меди на столичной Бирже котируются? Кто отсюда-то сведения подает и каким порядком?
Измайлов что-то ответил, его глуховатый голос был плохо слышен из-за двери. Марья Ивановна подумала, что он, конечно же, не знает. Откуда ему? Он – инженер. А Шурочка спит и видит столицу, Биржу, акции, что там еще… Неужели и ему придется свою жизнь об эти треклятые прииски обломать? Как и Мите… Обоим Митям Опалинским…
Опа-алинские… – протянула она беззвучно, мучительным усилием воли прогоняя желание уткнуться куда-нибудь и выть. Заставила себя снова слушать Шурочку.
Измайлов заговорил опять, на удивление выдавая какую-то информацию. Шурочка бойко подхватил: цифры, горнозаводские термины… и когда только освоил? Отец за всю жизнь так и не смог.
Не смог… Не захотел, это вернее будет. Мол, судьба заставила стать горным инженером – а я упрусь и не стану! Судьба велела прожить чужую жизнь, а я стисну зубы и вывернусь! И ведь вывернулся. Ушел, ускользнул между пальцев. Точно как другой Митя…
Митя, прости, шептала Машенька, тяжело сгорбившись на жестком подоконнике и глядя на дверь, из-за которой доносились голоса. Голоса приблизились; она поспешно встала. Вдруг испугалась, что сын и Измайлов сейчас разглядят, какая она: старая, уродливая, неуклюжая. Отвернулась к окну. Шурочка деловым шагом сбежал по лестнице, внизу хлопнула дверь. А инженер задержался.
– Марья Ивановна, вас проводить?
Она вздрогнула. Быстро заморгав, попыталась изобразить на лице холодное спокойствие.
– Андрей Андреевич, вы и вправду видите во мне старую развалину? – спросила, неторопливо оборачиваясь. – Которая может не дойти до спальни?
Он моментально покраснел – так, что ей стало неловко смотреть на него.
– Зачем вы. Когда человеку плохо… в этом ничего обидного нет.
– Ну, проводите, – слегка качнувшись вперед, она протянула ему руку.
Зачем она это сделала? Чтобы еще сильнее позлить себя? Он помогал ей спускаться с лестницы: аккуратно, неторопливо, изредка позволяя себе короткие сочувственные замечания. А ведь прекрасно знал, что все ее беды ей – по заслугам, все поделом! Но ни слова об этом. Уж такой он человек, Андрей Андреевич Измайлов, хоть икону с него пиши.
Она хотела поинтересоваться, не тошнит ли его от собственной добродетели. Но вместо того, остановившись на пороге своих комнат, вдруг спросила:
– Как же так вышло, что все всё знают и все молчат? Вот уж и в могиле оба, а никому по-прежнему нет дела до правды. И получается, что все из-за меня. Мне Софи сказала. Вы слышали?
Он сжал губы, морщась, будто нечаянно раскусил горький перец.
– Хватит! – бросил почти грубо. Маше вдруг показалось: он обращается не к ней, а к Софи. – Всяк несет столько, сколько может. Не больше. Вы бы лучше… поговорили со мной о чем-нибудь постороннем, что ли. Хоть бы о приисках. Тут я могу когда и дельный совет дать…
– Экий вы, Андрей Андреевич, утешитель, – протянула она, качнув головой. – и как это вам так удается… Посидим немного, ладно? Я чаю велю подать… Правда, Неонилу не дозовешься. Наверняка с книжкой где-нибудь. Знаете, она Людочке рыцарские романы читает, – Маша коротко засмеялась, подвигая для Измайлова стул.
Он сел боком, неловко, всем своим видом показывая, как ему здесь не по себе и как хочется поскорее уйти. То есть, сознательно, конечно, не показывал, но Маша все понимала. И сразу вспомнила мужа… Сержа (она теперь про себя всегда звала его так) в тот последний день, когда он так торопился от нее уехать. Куда он торопился? К кому?… А может быть, чувствовал свою смерть, и с облегчением спешил к ней навстречу… как на свидание…
А Митя держал на заимке ее портрет. Но… не объявился, не потребовал: вот – я, инженер Опалинский, и ты должна быть со мной! Почему, Господи, почему? И что б тогда было?..
Ничего бы не было хорошего, поняла она внезапно. Софи права: только она, Маша Гордеева, могла что-то исправить, и неважно, что – женщина, что неуклюжая калека, которая ходит, опираясь на палку, только от дома до церкви. Проклятая Софи права, она всегда права!
Подумав так, она метнулась было к двери: позвать Неонилу, но споткнулась о кресло, упала в него и расплакалась.
Андрей Андреевич смотрел на нее, мучаясь душевно. А она, рыдая, со злостью думала: вот и этот тоже, с ней – умные разговоры через силу, а грешить – с Надей Корониной! И сейчас наверняка вспоминает о ком-то другом.
– Марья Ивановна, – он встал, будто его тянуло что-то (чувство долга, что же еще!), наклонился над ней; она крепко взяла его за руку, – Довольно уж вам себя грызть, ничего ведь исправить нельзя. Надо жить дальше…
– Никого не осталось, – всхлипывая, пробормотала Маша, – Вера… я так и не поговорила с ней. Она сказала, ей дела нет… Гордыня… моя гордыня, знаю… Тетенька умерла, я и не заметила…
Она спуталась и замолчала, едва справляясь с дрожанием подбородка. Губы, потемневшие и распухшие от рыданий, были полуоткрыты. Измайлов помедлил, хмурясь, потом решительно наклонился и поцеловал ее.
Средство подействовало: Маша, задохнувшись, перестала рыдать, ее руки сами собою поднялись, обхватывая Измайлова за плечи. Она хотела сказать: не смейте этого делать, я только что мужа похоронила, и не надо выражать свою жалость таким оскорбительным образом! – но промолчала, точно зная, что, если она так скажет, он непременно уйдет. Да и некогда было говорить.
Да, он выражал таким образом исключительно жалость. Ему действительно становилось жалко всех женщин, обладавших талантом убивать свое бабье счастье (почему-то ему всегда встречались именно такие!). Убивать разными способами, с помощью множества разнообразных приемов, но – исключительно успешно. Он всегда понимал, что ничем по-настоящему помочь не сможет, и лучше бы ему отойти. Но как теперь отойдешь, не обидев? Да и нравилась ему Машенька – еще тогда, восемь лет назад…
– Ну и пусть… – пробормотала она спустя какое-то время, словно прочитав его мысли. – Пожалейте меня, Андрей Андреевич, пожалейте! У вас так это выходит… Я знаю, что только жалости достойна…
В ответ Измайлов, продолжая довольно неуклюже держать ее в объятиях, испустил долгий вздох. За вздохом последовала пауза, и только потом – слова, коих, разумеется, нельзя было не сказать:
– Вы, Машенька – прелестная женщина. Замечательная…
– Да?.. – протянула она с искренним удивлением.
– Безусловно. И вы должны пообещать мне…
– Нет, это вы мне пообещайте. Пообещайте, что нынче вечером мы посидим с вами и выпьем чаю. Хорошо?
Она, возможно, ожидала услышать еще один вздох – облегченный. Но он спросил:
– Отчего же вечером? Чаю выпить и сейчас можно.
– Нет. Только вечером. Я вас буду ждать, хорошо?
Конечно, вечером! То, что она собиралась ему предложить, делают вечером или ночью, но никак не днем. Так принято. И вымыться надо в лиственничной кадушке с земляничным мылом. Хорошо бы баню затопить, но это будет уж совсем как-то…
Она бросила на него быстрый напряженный взгляд и поднялась как только могла ловко – надо было уйти поскорее, пока ни один из них не сказал лишнего, убив ее внезапную решимость.
Вечер уже приближался. И осень тоже: весь день моросило, и листья в саду висели тусклые, будто неживые. Только рябина под окном светилась праздничными оранжевыми гроздьями, и от этого света в сумрачной горнице делалось уютнее. Синица, уцепившись за рябиновую ветку, клевала ягоды. Маше, стоявшей у окна, казалось, что блестящий птичий глаз поглядывает на нее насмешливо и всезнающе. Сейчас вот подцепит ягоду клювом и бросит в окно. Кажется, так уже было когда-то…
В сумерках Марья Ивановна выставила на стол, накрытый к чаю, бутылку с брусничной наливкой. Рядом – две стопки, обсыпанные темно-зеленой стеклянной крошкой. Хотела откупорить и выпить для храбрости, но вовремя вспомнила, что так тоже когда-то было. Долго размышлять об этом ей, впрочем, не пришлось, потому что появился Измайлов, решительный и мрачный, твердо намеренный поддержать вдову всеми возможными способами, дабы не допустить слишком тяжелых последствий, например, помешательства или даже наложения на себя рук (в том, что такое возможно, он был почему-то вполне уверен и – ошибался категорически.). Первые четверть часа они чинно сидели друг напротив друга за столом, даже говорили о чем-то, видимо, важном, связанном с приисками… Маша выпила стопку, потом другую. Подумала, усмехнувшись: теперь уж меня наливкой-то не возьмешь. И, внезапно отодвинув стул, поднялась, ухватилась за столешницу.
– Андрей Андреевич, вы сказали, что я – прелестная. Вы это просто так сказали? Я… конечно, никаких таких чувств не могу вызвать?
– Чушь, – резко ответил Измайлов.
– Нет! Теперь уж отвечайте за свои слова. Я должна знать…
Она задохнулась; и, низко опустив голову, начала расстегивать маленькие пуговицы на груди. Темное (но не черное, об этом она позаботилась!) платье из жесткой саржи сухо шуршало, как крылья большого насекомого. Измайлову было совестно и очень не по себе.
– Вот, смотрите, смотрите, – Маша сдернула платье с плеч. Вскинув руки, вытащила и бросила на пол шпильки, распустила волосы. В теплом свете лампы кожа на ее плечах и груди казалась совсем юной, гладкой и очень белой, почти такого же цвета, как сорочка.
Что я здесь делаю, со злостью подумал Андрей Андреевич, машинально поднимаясь. Явился, называется, утешить вдовицу… Как по́шло… И что ж с того? Она-то ждет… И, пока жива, еще надеется на что-то. Как и он сам… И это для живых людей – правильно абсолютно.
– Успокойся, Марья Ивановна, – Измайлов осторожно приласкал плечи женщины, коснулся по возрасту опавшей, но теперь бурно вздымающейся груди. – Не надо душу и платье рвать. Ты хороша еще, и всегда была хороша, и ничего в том дурного нет. Присядь. Я сейчас сам все сделаю. Раздену тебя. И все будет…
И все было.
Он шептал: «Ну милая, ну пожалуйста, не бойся…», а она только повторяла его имя, почему-то все время по отчеству, и это ей самой, и ему казалось смешным.
От его ласки светился воздух, тело становилось горячим, влажным и легким. Мешало только одно: она доподлинно чувствовала, что все, что он сейчас делает, он делает – для нее. А ему самому нужно что-то другое… Другая?
– Андрей Андреевич, – задыхаясь, прошептала она. – А вам?
И вдруг поняла, что никогда, ни разу за все годы супружеской жизни не задала мужу этого вопроса.
– Мне хорошо, – спокойно ответил инженер. – Мне хорошо с тобой, Марья Ивановна, не думай об этом… Подумай о себе. Сегодня я тебе разрешаю… – он склонился над ней, продолжая ласкать и нежить, а она…
«Да я всю жизнь только о себе и думала, – вспомнила Машенька. – О несчастьях, да страданиях своих. О том, как меня не понимают, не ценят, как мне тяжело приходится… Да это бы еще пол беды… При том ведь еще и держала себя так, словно только о других и печалуюсь… Вон, Андрей Андреевич, как человек душою добрый и щедрый, обманулся вполне… Надо на исповедь идти… К отцу Андрею… Он такое поймет…»
– Не сто́ю я… – всхлипнула она вслух.
– Да бросьте вы! – с нескрываемой досадой сказал Измайлов. – У вас теперь вдруг такая мина сделалась, будто вы уж не в кровати лежите, а на паперть влезли… Охота тебе, Марья Ивановна, каждый миг, когда счастье помститься, крестом перечеркивать? Это что – ты христианскую мораль, что ли, так понимаешь? Или по душе идет?
– По душе, Андрей Андреевич, по душе, – всхлипнула Машенька, снова жалея себя отчаянно…
Миг прозрения минул и более не возвращался. («Отточенное милосердие природы» – так назвала бы это «проклятая Софи Домогатская»).
Измайлов был удивителен и нетороплив. Темная осенняя ночь, принадлежащая им двоим, длилась и длилась…
…Прощаясь наутро, она изо всех сил удерживалась, чтобы не заплакать, и ничего не говорила. При том, что сказать хотелось о многом. Главное: «Я точно знаю, что ты меня не любишь, почему же так хорошо? От жалости только?..». Он тоже молчал. Ветер в саду качал деревья, и рябина усердно скреблась в окно, закрытое пыльным плюшем.
В которой Софи Домогатская и инженер Измайлов отбывают в Петербург, Туманов снова встречается с Хозяином, а Матвей и Зайчонок приносят цветы Сержу Дубравину
Порешили, что Софи с Измайловым уедут первыми, а англичане – потом.
Накануне отъезда Марья Ивановна привезла в «Калифорнию» Людочку.
Софи, бодро снующая по комнате среди каких-то корзин и коробок, поздоровавшись, сразу же передала ребенка Соне, а сама отобрала у Игната объемистый баул с людочкиными вещами и начала что-то перекладывать, одновременно отпихивая огромную башку сующейся под руки Баньши и бормоча себе под нос:
– Так, это в дорогу… это не нужно будет…
Потом, в какой-то неуловимый момент, вспомнила про стоящую посреди комнаты Марью Ивановну:
– Машенька, я вам так за Люду благодарна! У меня просто слов нет. Она, может, потом лучше станет, как подрастет, но сейчас… Я бы уже с ума сошла… И вещей детских, я вижу, куда больше стало. Это вы все для нее… Спасибо, все такое миленькое…
Софи говорила что-то еще, но Маша не слышала, лишь смотрела на ее шевелящиеся темные губы. Потом тихо спросила, зная наверняка, что Софи потом не станет болтать и, скорее всего, и думать не станет:
– Скажите, Софи, а у Андрея Андреевича кто в Петербурге остался? Я знаю, что есть кто-то, но без подробностей… Мне… мне знать надобно…
– А? – обернулась Софи, осознавая вопрос. Потом неожиданно широко и дружелюбно улыбнулась, выпрямилась, оперлась на загривок Баньши. – А! Вы знать хотите, нельзя ли уговорить остаться? Увы, Машенька! Никак нельзя! В Петербурге – Элен, моя лучшая за всю жизнь подруга. Красавица, умница, аристократка, всегда была как пряник глазированный. А ради Андрея Андреевича мужа и семью бросила, наперекор всех пошла. Безумие! Смех и слезы! Даже у меня, при всей моей признанной авантюрности, дух захватывает! Я так рада за них, и боюсь… Простите, Машенька, я понимаю, вам подробности любопытны, красивая история, но мне сейчас совсем недосуг… Еще столько собрать надо…
«Как она мило жестока, – отстраненно подумала Машенька, почти не ощущая боли. Она знала, что это, как в отсиженной ноге – до времени, все еще будет. – И ценит только поступки. Чем отчаяннее – тем лучше. Как у этой Элен – красавицы и аристократки. А что же стало теперь с ее мужем, детками? Им каково?…»
Вдруг сообразила, что, радуясь за Элен, сама Софи набрала полный короб чужих детей и, зримо обмирая по мистеру Сазонофф, жить-то и дальше собирается с мужем… Как же это понять?… Да никак! Мне до того и дела нет!
Марья Ивановна отобрала у Баньши трость, которую та задумчиво начала было грызть, и пошла в опустевший без Людочки дом. Скоро уж начнет «отходить» онемевшая душа. При том лучше быть одной.
Отъезд Софи Домогатской с чадами и домочадцами превратился в зрелище настолько грандиозное и карнавальное, что потрясенный Егорьевск на некоторое время даже позабыл обо всех обрушившихся на него несчастьях.
Люди, кули, корзинки, мешки, чемоданы, узлы, картонки и сундучки заняли семь подвод. Отъезжали: сама Софи, инженер Измайлов, Лисенок-Елизавета, Соня Щукина с отчаянно ревущей Людочкой на руках, Стеша с какой-то хрупкой, завернутой в вощеную бумагу конструкцией, которую она держала наперевес, и, наконец, собака Баньши с пристегнутым к ней Карпушей.
(Буквально в самый последний момент выяснилось, что огромную осиротевшую псину придется брать с собой. Матюшу она жаловала не слишком, привыкнув подчиняться Вере и Соне. К тому же Карпуша без Баньши вообще отказывался двигаться с места).
– Может быть, возьмем еще рояль для Лизы? – предложил Софи наблюдавший за процессом упаковки и укладки вещей инженер Измайлов. – А то она как-то сиротливо выглядит на общем фоне. Привяжем его сзади на веревочку…
– Заткнитесь хоть вы, Измайлов! – вежливо попросила инженера замотанная Софи. – И без вашего остроумия тошно…
Матвей с сухим, отчужденным лицом носил вещи и довольно здраво распоряжался погрузкой и крепежом. Сейчас для всех было как-то особенно заметно его сходство с Лисенком, Волчонком и, скорее, (для тех, кто помнил) – с дедом, Иваном Парфеновичем. «Как же раньше-то не видели? Вот – диво! – переговаривались в толпе. – А Марфа-то Парфеновна – знала! Догадалась, наверное. Всегда ходила к нему, и открыто ведь говорила, что младенец на Ивана похож…» Нетрезвый Петр Иванович пытался всем помочь, но только путался под ногами у старшего сына. Анна-Зайчонок стояла в скопившейся вокруг толпе зевак и провожающих, натужно улыбалась и вытирала глаза пухлой ладошкой. Время от времени Лисенок подбегала к ней, судорожно обнимала и что-то коротко шептала на ухо. Волчонка нигде не было видно.
– Где Юрий? – спросила Софи у Елизаветы.
– Ему так плохо, что он не может с людьми, – объяснила девушка. – Мы раньше с ним попрощались. Я и Соня.
– Почему ему плохо?
– Он вырос со мной также, как и Соня с Матвеем. Трудно расстаться…
– Матвей не может ехать, потому что у него дела, прииски, и прочее. И с Соней надо решать. А Юрий?… Ему, пожалуй что, надо бы уехать отсюда, чтобы забыть…
– Вы… вы согласны? – Лисенок радостно тряхнула головой, неубранные волосы взлетели над плечами крыльями огненного ангела.
– Ты сумеешь его сейчас отыскать?
– Это не надо. Я позову его…
– Как? Что за глупость?… Да в общем, мне уж все равно! – Софи пожала плечами. – Зови как хочешь… Господи, как же вы мне все надоели! – пробормотала она себе под нос.
Сэр Александер наблюдал за происходящим со стороны, с крыльца почты.
Потом что-то сказал мистеру Сазонофф, указывая на Софи и ее выводок.
– Что это он про меня сказал? – чуть позже подозрительно осведомилась Софи у Михаила.
– Твоя «примиренность с миром». Он сказал, что только теперь понял, что имела в виду Вера Михайлова… Я смогу поцеловать тебя на прощание? Здесь, при всех?
– Ну разумеется, сможешь. Во-первых, тебе в действительности нет ни до кого дела. А во-вторых, никто из присутствующих не откроет для себя ничего нового…
Машенька Опалинская на проводы не пошла. Сидела дома и пила чай с булками.
Неонила плакала в кладовке. Жалела Людочку. Софи Домогатская казалась девушке холодной и жестокой, и дальнейшая судьба сиротки представлялась исключительно печальной. В голове сам собой складывался сентиментальный роман.
Шурочка вернулся непривычно тихий и задумчивый.
– Все уехали, – сказал он. – Один Матвей-зануда остался. И раньше-то был… а теперь и вовсе… слова по-человечески не скажет. Ни пошутить, ни побаловаться…
– Куда ж баловаться? – отчужденно спросила Машенька. – Траур у нас… Или ты забыл?
– Не забыл, – вздохнул Шурочка. – Я бы с ними уехал, так меня не звали… В столице – простор, дела можно делать, а здесь… Глушь медвежья, людей нет, и лужа посреди города…
– Вот и отец твой когда-то также в родной Инзе думал, – заметила Машенька.
– Почему – в Инзе? – удивился Шурочка. – Папа же в Калуге родился. А потом в Москве жил, и в Петербурге…
– Да, да, конечно, в Калуге… Я позабыла…
– Мам, а что же теперь с нами будет? – помолчав, спросил Шурочка.
– Да что-нибудь да будет, – в последний раз вспомнив Софи Домогатскую, сказала Машенька. – Потому что ведь никогда не бывает так, чтобы совсем ничего не было…
С этими словами она поднялась, тяжело опираясь на палку, и отправилась в кабинет заниматься делами, которые в последнее время, надо признаться, изрядно подзапустила…
Уже на тракте Лисенок внезапно соскочила с подводы и нырнула в придорожные кусты. Вышла оттуда, ведя за руку Волчонка. Людочка, не узнав юношу, заплакала от испуга.
– Это правда? – спросил Юрий у Софи и Измайлова, глядя исподлобья.
– Правда, – кивнула женщина.
– Благодарствуйте, – Волчонок склонился с дикой, истинно звериной грацией. – Я отработаю, не думайте, – добавил он.
Елизавета зажмурилась и прижалась щекой к плечу Юрия.
– Я понял, – заметил Измайлов. – Вы решили не брать для Лизы рояль, потому как рассудили, что на первое время брата ей вполне хватит…
Софи молча швырнула в Измайлова кедровой шишкой и попала.
Пока Измайлов потирал ушибленное ухо, Волчонок внимательно смотрел на Соню, которая успокаивала раскапризничавшуюся Людочку.
Взяв с собой корзинку с булками и пирогами, и Надю Коронину в качестве проводника, мистер Сазонофф отправился в лес. Надя с холщовым мешком за спиной, в котором легко угадывалась небольшая лопатка, бодро шла впереди, и с разговорами к Михаилу не приставала. Мистер Сазонофф был ей за это весьма благодарен.
Спустя пару часов, когда не до конца оправившийся Туманов уже запыхался от спорой ходьбы, на краю небольшой поляны Надя показала своему спутнику расщепленную рябину.
– Вот, сюда Хозяин приходит музыку играть, – сказала она. – Потянет за деревяшку, она и скрипит. Ему в удовольствие. Но это медведем надо быть, чтобы сил хватило…
– Ничего, я попробую, – усмехнулся Михаил.
…Пронзительный, режущий уши скрип пронесся над лесом. Для верности Туманов попросил Надю отойти в сторону, приложил руки ко рту и, срывая глотку, проорал пару куплетов похабной песни из репертуара французских портовых грузчиков.
– Если он нынче здесь, так точно заглянет, – уверила мужчину Надя. – А если нет, так не обессудьте… Я тут недалеко буду, корешки в лощине покопаю и папоротниковых семян соберу. Если что, вы меня покричите…
– Ага, спасибо, – сказал Туманов и уселся на полусгнивший пень, пристроив у ног корзину с пирогами.
Хозяин услышал скрип, удивился и даже испугался немного. Кто это мог «играть» на его рябине? Неужели забрел откуда-то молодой медведь, претендующий на кормный участок? Но как же Хозяин его не почуял? Да и когтевых отметин на стволах, которыми пришлые медведи всегда заявляют о себе, нигде не было видно…
Услыхав человеческий голос и узнав его, старый медведь отчасти успокоился: никаких конкурентов на горизонте не было. (Еще ведь и неизвестно, справился ли бы старый мишка с молодым и здоровым зверем, если бы таковой объявился в его владениях!) Определив ситуацию в общих чертах, Хозяин прошел немного в нужном направлении, зашел с наветренной стороны и тщательно принюхался: не пахнет ли кровью?
Пахло вовсе не кровью. Ого! Пахло свежими, со сладкой начинкой булками… Весело подбрасывая толстый зад, Хозяин затрусил к знакомой рябине…
– Ты как, прямо с корзиной возьмешь, или тебе в траву выложить? – спросил Туманов, держа аппетитно пахнущую корзину в вытянутой руке.
Рука слегка дрожала, но не от тяжести, а от страха и уважения. Наяву старый медведь показался еще огромнее, чем помнился в бреду. Широченная башка склонена чуть набок, полукруглые уши шевелятся, стараясь уловить и разобрать человеческие слова.
Корзина Хозяину была в общем-то без надобности, но если предлагают… Можно будет потом поиграть с ней…
Туманов заворожено наблюдал, как, плотно усевшись на обширный зад и вытянув задние лапы с круглыми серыми пятками, мишка передней лапой ловко достает из корзины булки и пироги, и по очереди отправляет их в пасть.
– Ты знаешь, – задумчиво сказал Туманов медведю. – Ты ведь мне жизнь спас. А вот можешь объяснить – зачем ты это сделал?
Хозяин согласно помотал башкой, и тихонько, добродушно рыкнул в ответ, показывая, что несмотря на пироги, готов слушать еще и по мере сил участвовать в разговоре. Он уже давно понял, что этот человек и тот, давний, отпустивший его на волю, – не имеют друг к другу никакого отношения, просто чуть схожи между собой повадками и размерами. Но ни о чем не жалел. Правильно, думал Хозяин, что не дал тем этого съесть. Вот, этот теперь булок принес. И разговаривает…
– Не можешь, – констатировал Туманов. – Да ведь я и сам ни черта в своей жизни разобрать не могу, куда ж тебе – медведю… Я ведь, ты понимаешь, хоть на вид и без памяти был, а слышал все то, что она мне говорила… Лучше б не слыхать никогда… Ты можешь понять?… У тебя жена-то есть где-то? Ну, женщина твоя медвежья? Детишки?
Человек говорил медленно и отчетливо, и Хозяин понял почти все сказанное им. Речь шла о женщине, человеческой самке. Надо думать, о той самой, которая была с ним в зимовье… Ну что ж она ему? По сравнению с самим этим человеком там и взглянуть-то не на что. Такой мог бы и покрупнее себе подобрать… Сам Хозяин с самками встречался изредка, на границах своего участка, и на очень короткое время; с детьми, которые у него, несомненно, за долгую жизнь случались, никогда не видался, и потому человеческих страстей на эту тему не мог понять совершенно… Однако, всегда готов был послушать… Особенно под медовые коржики…
– Теперь ведь как жить? – спросил человек. – Забыть невозможно, и помнить тоже… Лучше снова под пытку, чем… Ты думаешь, она это как сказала? По душе и памяти, или так, для красного словца, полагая, что я вот-вот в ящик сыграю?… Не узнаешь теперь никак… В том-то и дело, тезка, что я всегда… с самого начала мог и хотел именно для нее… именно ей дать… Поверь уж на слово, я действительно мог дать так много всего… Жаль только, что ей все это было совершенно ненужно… Ты можешь понять?
По словам человека выходило, что той тощей лупоглазой человеческой самке чем-то не подошел этот большой и справный по людским меркам самец с его маленькими и умными красными глазками. Когда они вернулись в человечий поселок, она прогнала его, может быть, даже покусала… Но все, что Хозяин недавно видел и понимал, говорило как раз об обратном: он нужен ей, и она очень даже понимает, как ей повезло, что он из всех человечьих самок выбрал именно ее. А может быть, там, в поселке, есть еще один медведь… тьфу! – человек, и этот просто боится с ним схватиться?… Может быть, вообще вся эта кровавая история была – из-за нее? Люди, они же не как медведи, их много, они стадами живут. А ведь вон как стучатся по весне рогами большие пятнистые олени… Гул по всей тайге идет!
В этом месте своих, непривычно сложных для медведя рассуждений Хозяин запутался, помотал башкой, отгоняя комаров и мошку, которая так и норовила набиться в уголки глаз, и закусил пирогом с калиной.
– Ладно тебе, мохнатый, – сказал человек. – Вижу, что сочувствуешь мне, а горю помочь не можешь. Да и как бы ты смог?…
Хозяин шумно и протяжно вздохнул. Пироги и разговор подходили к концу. Человек уйдет. Дни стали совсем короткими. Муравьи в предчувствии холодов прячутся под землю. В малине появился острый винный привкус. А по утрам лапы почти не слушаются. Скоро наступит зима, метель занесет вход в берлогу… Будет ли в жизни старого Хозяина еще одна весна? Кто знает?
Хозяин снова потряс головой и потер лапами изгрызенные мошкой уши. Медведю не стоит думать о таких вещах. Пусть думают люди…
Днями после отъезда Софи и прочих калмычка Хайме привела к Матвею гостившую у нее Анну-Зайчонка. Из всех детей Элайджи Зайчонок получилась самой низкорослой и едва доставала Матвею до плеча.
– Матвей, – робко попросила девушка, усевшись напротив брата и чинно сложив руки на круглых коленках. – Ты ведь теперь станешь взаправду моим братом, ладно? Лисенок с Волчонком от меня уехали, а от тебя – твои сестры… Я… у меня как будто пусто вот здесь стало, – девушка ткнула пальцем в ложбинку между высокими, налитыми грудями. – И сосет так…
– Конечно, Зайчонок! Я – твой брат. Ничуть не хуже Волчонка, если приглядеться, – улыбнулся Матвей и, поднявшись, раскрыл объятия. Аннушка доверчиво скользнула в них и прижалась лицом к теплой груди Матвея.
– Вот так хорошо, – чуть-чуть в нос пробормотала она. – Мне иногда так надо… Если тебе не в тягость, Матюша… Дедушка Самсон и бабушка Роза, они меня любят, конечно, но они… как бы сказать… Ну, толстые очень и старые, у них сил мало и только все друг для друга… А скажи, – Аннушка тревожно заглянула в глаза брата. – Я что, тоже такая жирная буду? Ведь и дядя Илья толстый, и бабушка с дедушкой, а я, говорят, на Розу похожа…
– Ну, вовсе не обязательно! – возразил Матвей. – Ведь наш отец вовсе худой, да и Элайджа… то есть, наша мать – она тоже не такая уж и толстая…
– Да мама не ест ничего, – отмахнулась Зайчонок. – За день тарелку кашки слижет, да брусничной водичкой запьет. Разве с такого потолстеешь? А я, знаешь, весь день в трактире кручусь, и то то съем, то это…
– Да ничего страшного! – засмеялся Матвей. – Ты, конечно, пышечка, но очень хорошенькая. Многим мужчинам нравятся женщины в теле. А глянь, как дедушка Самсон всю жизнь свою Розу любит…
– Это да… – вздохнула Зайчонок. – А ты… ты правду сказал, Матвей? Ну про то, что я – хорошенькая?
Матвей, отстранившись и взяв Анну за плечи, взглянул на младшую сестру, просто физически ощущая, как его опустевшее сердце вновь наполняется любовью, и облегченно радуясь этому чувству. Радуясь миловидной пухленькой девушке, которая – вот счастье – оказалась его кровной сестрой.
– Просто – куколка! – искренне сказал он.
Зайчонок счастливо рассмеялась и снова прижалась к братниной груди.
– Я хожу… туда и цветы ношу, как Лисенок просила, – прошептала она некоторое время спустя.
– Ты умница… Выдастся время, вместе сходим…
Над влажным, глухим, заросшим папоротником обрывом обманчиво зеленела старая гарь. Березы роняли желтые листья в жесткую траву. Жаждущие распространения травяные семена цеплялись на штаны и подол.
Высокий статный юноша и маленькая пухлая девушка стояли перед округлым, вросшим в землю камнем. Земля у основания камня была разрыта и, казалось, недавно осела. Внизу стоял наполовину обсыпавшийся, сплетенный из еловых ветвей и цветов иван-чая венок. Чуть выше виднелась глубоко выбитая на камне надпись:
Девушка ладонью утерла выступившие слезы, оттащила в сторону увядший венок и положила к основанию камня два свежих букета.
– Это от нас… И от Лисенка… – пробормотала она.
Юноша уже привычно обнял ее за плечи и, достав из кармана платок, заставил вытереть глаза и высморкать нос.
Белая, с вышитой монограммой Транссибирской железной дороги занавеска колыхалась от сквозняка. За окном медленно проплывала ровная, от горизонта до горизонта, выгоревшая травянистая степь, кое-где покрытая березовыми лесками, между которыми видны были болота и озера, над которыми тучами носились огромные стаи разнообразной пернатой дичи…
– Я подсчитал, – сказал лорд Александер, отрываясь от блокнота. – Томская губерния по площади ровно в два с половиной раза больше Великобритании.
– А смысл? – меланхолично вопросил мистер Барнеби, красноречивым жестом указывая за окно.
– Ну, возможно, Создатель имел что-то в виду… В некотором будущем… – с осторожным оптимизмом предположил Лири.
– Весьма отдаленном, как я полагаю, – тяжело вздохнул Барнеби. – Где, кстати, наши славяне?
– Стоят на открытой площадке. Думаю, обмениваются впечатлениями о своей несчастной любви…
– Боже мой, как же я хочу обратно в нашу милую, добрую, старую Англию! – с вдруг прорвавшимся чувством воскликнул Барнеби. – Милорд! Зачем мы едем в Петербург? Я положительно думаю, что все это дело следует бросить, пока не стало слишком поздно… Мало нам Майкла Сазонофф… Но вы помните, что они сделали с самим Майклом?! Что может произрасти на этой дикой почве? Это же еще десятилетия, может быть, даже века средневековья… О какой промышленности, о каком прогрессе тут может идти речь?! Все эти рассуждения Майкла и его сумасбродной возлюбленной, а также его планы и попытки организовать в Егорьевске что-то вроде родовой аристократии, просвещенно владеющей землями и людьми – это же просто смехотворно! Бред вознесшегося волею случая плебея!
– Ивлин, у вас после сибирских впечатлений просто расстроены нервы… В Петербурге вы придете в себя…
– У меня все в порядке с нервами! – с опровергающим собственное утверждение раздражением откликнулся юрист. – Просто, на мой взгляд, нам следует хотя бы теперь, после свершившихся трагических событий, рассуждать здраво.
Честное слово, милорд, я знаю, что вы их всех едва ли не полюбили, и не хочу никого осуждать. Но…
До этого вояжа я считал самыми страстными нациями французов и итальянцев. И никак не мог понять: откуда же у русских такая литература?…
Давайте просто подведем итог нашего взаимодействия с русскими, милорд. Обычная, рутинная процедура.
В начале этого дела у нас было много потенциальных русских партнеров. Где же они теперь?
Майкл Сазонофф – надул нас везде, где только возможно, и погрузился в сплин из-за воспоминаний несчастного детства и несчастной любви.
Ник Полушкин – в бегах из-за попытки убить Майкла Сазонофф.
Базиль Полушкин – по-видимому, помешался, равнодушно бросил все дела и теперь едет с нами в Петербург, чтобы передать кому-то свои наблюдения над птичками и спасти свою несчастную любовь от какой-то неведомой опасности.
Вера Михайлова – зарезана у всех на глазах самоедкой из-за любви.
Леон Златовратский – в трауре по поводу гибели Веры Михайловой. Недееспособен.
Дмитрий Опалинский – убит по ошибке представителями местных властей.
Мари Опалинская – в трауре по поводу гибели мужа. Недееспособна.
Ачарья Даса (он же – Теодор Дзегановский) – в астральных мирах борется с последствиями англо-саксонского оккультного заговора.
К тому же все мыслящие люди, с которыми мне доводилось здесь беседовать, включая грамотных рабочих и даже местного священника, убеждены в том, что в России скоро и неизбежно грянет революция. В горниле страстей которой, осмелюсь предположить, погибнут все, по недоразумению оставшиеся в живых после несчастного детства и несчастной любви…
Скажите, милорд, вы по-прежнему уверены, что нам следует иметь дело с русскими?
(Прим. авт. – Большинство английских компаний, допущенных Кабинетом к операциям в горном деле в 1897–1914 годах, оказались спекулятивными. Учреждая десятки различных обществ для разработки золотых месторождений, английские финансовые дельцы стремились не столько к увеличению добычи, сколько к срыву учредительской прибыли и биржевой спекуляции. За все годы своего присутствия английский финансовый капитал не создал в Сибири ни одного горно-промышленного предприятия, стоящего на уровне современной той эпохе техники. Несмотря на все это, Кабинет никогда не терял надежды на получение солидных доходов посредством привлечения английских капиталов к разработке сибирских месторождений, создавал для них режим наибольшего благоприятствования и всячески способствовал созданию различного рода «совместных предприятий».
В цветной металлургии в это же время сложилась несколько иная ситуация. Там английский капитал к 1914 году занял господствующее положение (контроль над 89 % медных и полиметаллических разведанных месторождений) и имел возможность «регулировать» производство цветных металлов в интересах Британии, но не России, представляя собой фактически непреодолимый барьер для вложения национального капитала в эту отрасль экономики Сибири.
В годы Первой Мировой войны относительная роль английского капитала упала при одновременной мощной экспансии в Сибирь североамериканских монополий.
В 1917 году все процессы внедрения в экономику Сибири иностранного капитала были более чем на 70 лет остановлены событиями Октябрьской революции и последовавшим за ними строительством Советского государства.)
В которой Ефим Шталь узнает новости о брате, Василий Полушкин встречается с мечтой, а Мари Шталь заказывает шляпки
Две женщины и мужчина сидели за столиком в изящно декорированной гостиной и играли в винт. Ставки были маленькими, разговор тек сытый, ленивый, ни к чему не обязывающий ни ум, ни чувства.
– А как же сладость греха, Ефим? – спросила графиня К. – небольшая, на беличий манер постаревшая женщина. Ее когда-то изящные пальцы были слегка скрючены артритом. – Это вполне может расцветить жизнь, придать ей смысл… на какое-то время…
– Я рад бы грешить, – с небрежной улыбкой отвечал мужчина, одетый несколько экстравагантно для вечера в собственной гостиной. На нем был темно-серый сюртук, светло-серый галстук с желтым опалом в булавке. И серые перчатки. – Но грех ведь, на беду, однообразен. Быстро истощив все возможности, мы без конца возвращаемся к одному и тому же… Думаю, я не открыл для вас тайны, дражайшая Зинаида?
– Увы… – вздохнула графиня К., заходя с бубей и проигрывая.
– Не печальтесь! В конце концов, вся наша жизнь – всего лишь иллюзия, сон какого-то бога, – бодро заявила Мари Шталь, которая с начала вечера выиграла уже около пяти рублей. – Мне это недавно объяснила одна дама, посещающая кружок несравненного Ачарьи…
– Этого шарлатана?! – поморщилась графиня К. – Который вместе с приличными людьми приглашает к себе всякий сброд, едва ли не с улицы?
– А как же евангельская притча о званых на пир? – тонко улыбнулся Ефим.
– То же мне… царь духа выискался! – фыркнула Зинаида. – Промотавшийся поляк, поднабравший по всему миру каких-то огрызков древних учений… Да это не мир, а он сам – сплошная иллюзия…
– Иногда в совершенной иллюзии больше правды, чем в самой реальности, – заметил Ефим. – Если по очень большому счету судить, конечно. Вы можете с этим согласиться?
– Пожалуй, да… – медленно протянула Мари, мелом записывая на зеленом сукне свой очередной выигрыш.
Вошел слуга в ливрее, на серебряном подносе лежала какая-то карточка.
– Иван Федорович Самойлов просит срочной аудиенции у барона! – вышколено отрапортовал он.
– Иван Федорович… – словно припоминая, пробормотал Ефим, трогая пальцем опал в булавке. – Что ж за человек, Фридрих? Стоит ли ради него прерывать приятную беседу с женой и нашей драгоценной гостьей? – вроде бы серьезно обратился он к лакею.
– Если позволите, то на вид – господин приличный, но все-таки что-то такое в нем есть, как будто бы он… как будто бы он в газеты пишет! – не скрывая презрения к подобному занятию, выпалил Фридрих.
Ефим тихо засмеялся. Потом встал из-за стола и поклонился дамам.
– Прощу прощения. Все-таки вынужден вас оставить. Господин Самойлов, насколько я могу судить, только что прибыл из Сибири. Возможно, у него есть для меня важные новости…
Николаша Полушкин смотрелся так, словно случайно уцелел во время кровопролитного, беспощадного сражения, в котором он честно воевал на стороне проигравших. Разумеется, вид этот не касался его наряда или иной ухоженности (с этим как раз все было в полном порядке), а что-то такое было в глазах…
– Ну что, ничего из ваших планов, как я понимаю, не вышло, любезнейший? – с некоторым даже облегчением осведомился Ефим.
– Для того я бы с личным визитом, без приглашения и не осмелился, – заверил Николаша. – Известил бы письменно. Однако, есть обстоятельства, которые вас могли бы лично заинтересовать…
– Какие ж обстоятельства? – удивился Ефим. – На алтайскую концессию, вы говорили, кроме нас, англичане облизывались. Что ж, они, в результате, и обскакали?
Николаша кивнул и тут же отрицательно помотал головой.
– Что сие значит? – осведомился Ефим.
– Анличане, да не англичане… И до вас лично касается…
– Да что вы заладили: лично, лично… Господи! – вдруг всплеснул руками Ефим. – Да неужели же Софи Домогатская, вместо того, чтобы претерпеть от ваших козней, соблазнила главного английского лорда, бросила своего убогого Петра Николаевича и подгребла концессию под себя?! Или она по ходу дела взяла в оборот вас, Иван Федорович? Вот это был бы номер!
– Не совсем так, любезнейший Евфимий Людвигович, не совсем так…
– Так как же, наконец? – нетерпеливо воскликнул Ефим. – Не тяните кота за хвост! Рассказывайте!
– Представьте, с самого начала мне даже не надо было ничего выдумывать. Дела Софьи Павловны в Сибири заключались в том, что она устроила побег из ссылки своему родному брату и государственному преступнику – Григорию Домогатскому. Перед этим, надо отметить, она (по-видимому, с помощью писем) довела до самоубийства его жену, молодую женщину. (Мне доподлинно известно, что Софья Павловна никогда не одобряла этого брака и всячески ему препятствовала). Прятали беглых политических на специальной заимке в лесу. Там же находилась и Софья Павловна, и ее приспешник, инженер Измайлов, из бывших бунтовщиков и бомбистов, в прошлом или ныне, как я вполне достоверно полагаю, один из ее многочисленных любовников (во всяком случае, отношения у них достаточно короткие)… Зная тамошние места, я, ничего не приукрашивая, просто поставил в известность местных жандармов.
Жандармы и казаки спланировали операцию по захвату заимки и… что бы вы думали?
– Софи и Григория там не оказалось, – предположил Ефим.
– Хуже! Гораздо хуже! – патетически воскликнул Николаша. – Софи с Григорием действительно бежали, но зато инженер Измайлов по ее просьбе остался отводить казакам глаза, и сделал это столь успешно и профессионально, что введенные в заблуждение казаки ринулись на штурм, в результате которого погибли пожилая женщина-монашка и местный промышленник, заслонивший своим телом ребенка (кстати, появление промышленника на заимке, по-видимому, тоже не случайно. Возможно, он приехал как раз предупредить Софи об опасности. Их с Домогатской отношения имеют давнюю историю, и, как я полагаю, тоже не всегда оставались вполне платоническими…)…
– Я понял, – сдержанно кивнул Ефим. – Великолепная Софи, как всегда, вышла сухой из воды, сблизилась со всеми дееспособными мужчинами в городке, использовала их, а вокруг нее поубивали кучу народу… женщины, дети, монашки и т. д… В этом месте я всегда пла́чу… Что ж, это все, что вы хотели мне сообщить?
– Ну разумеется, нет! – воскликнул Николаша. – О нравах, морали и неразборчивости в связях Софи Домогатской вам известно ничуть не хуже меня и вряд ли требуются еще подтверждения… Дело как раз в англичанах, перехвативших концессию буквально у нас из-под носа…
– Что ж с ними? Они тоже погибли из-за происков Софи? Или она уложила к себе в постель их всех одновременно?
– Только одного, Евфимий Людвигович, только одного. Именно того, которому, по сути, и принадлежит сейчас аренда алтайских земель… И этот один для вас, я думаю, стоит всех прочих…
– Что ж в нем такого?
– Все в Егорьевске знали его, как мистера Майкла Сазонофф. Софья Павловна же в интимные моменты называла его Мишкой Тумановым…
– Что-о?!! – Ефим вскочил и швырнул об стену бокал, из которого до того медленно цедил рейнское вино. – Что вы сказали?!
Николаша буквально отпрыгнул в сторону и на мгновение онемел от такого успеха своей тщательно продуманной речи…
– Ефим, вы чертовски бледны! – с тревогой сказала Мари, входя поздним вечером в кабинет мужа. – Что случилось? Я попросту никогда не видела вас таким. Этот человек, который действительно – Фридрих прав! – пишет в газеты… Он вас чем-то расстроил? Напугал?
– Дорогая Мари… – медленно, словно через силу произнес Ефим и сделал рукой жест, недвусмысленно указывающий в сторону двери. – Я прошу вас… оставить меня… одного… я теперь… могу быть опасен… для вас… и для кого угодно… прошу вас…
Мари несколько раз моргнула и поспешно вышла, твердо постановив себе завтра же заказать у модистки две… нет три! – новых шляпки. В том, что муж охотно оплатит расходы, она нисколько не сомневалась.
Василий Полушкин шел так быстро и шагал так размашисто, что Туманов, лишь чуть ниже ростом, и сам весьма подвижный в ходьбе, отставал.
Устремленные вдаль глаза Василия горели желтым фанатичным огнем, напомнившим Михаилу покойную Веру.
– Вась, ну чего я туда пойду, а? – недовольно проворчал Туманов из-за Васиного плеча, пытаясь поравняться с прытким товарищем. – Что я, да в Университете? Ты на мою рожу взгляни. И вообще, я же даже в школе ни дня не учился… Давай я тебя здесь вот, в скверике подожду…
– Михаил, поймите! – Вася порывисто оборотился, одновременно остановившись столбом. В результате этого маневра Туманов налетел на него и мужчины едва ли не столкнулись лбами. – Я просто боюсь один идти, а кроме вас, мне в Петербурге покуда просить некого. Вдруг я там разволнуюсь совсем, в обморок упаду, расплачусь… Экий конфуз выйдет!.. А вы, при том случившись, хоть в сторону оттащите и по щекам надаете…
– А отчего это с тобой такое… такая вдруг петрушка случится? – удивился Туманов. – Ты же мужик вроде, а не баба…
– Ну как вам объяснить, Михаил… Вы человек материального устройства, основательный, признаете лишь факты и капиталы… А ведь для меня Санкт-Петербургский императорский университет – это… понимаете, я всю жизнь мечтал ступить под эти своды, пройти по этим коридорам, услышать… Ну, вот как если бы вы вдруг узрели перед собой главный храм вашей бережно хранимой в душе веры, который вы считали давно разрушенным или просто для вас недоступным… и имеете сейчас возможность в него войти, и обратиться, но колеблетесь… Достаточно ли вы веруете? Нет ли во всем этом какого обмана? Узнают ли вас теперь боги, к которым вы столько раз обращались с самодеятельной молитвой во тьме жизненных исканий?… Теперь вам понятно, Михаил?
– Главный храм хранимой в душе веры… Обращался с самодеятельной молитвой во тьме жизненных исканий… – обескуражено пробормотал Туманов и честно попытался себе хоть что-нибудь представить на эту тему. Перед глазами промелькнул весьма смутный (по рассказу) образ храма Золотого Будды, в который они с Саджун когда-то возвращали сапфир, и почему-то бедный учительский домик Софи Домогатской в имении Калищи…
– Это я для начала выбрал то, что полегче, – доверчиво признался Василий и исподлобья взглянул на Туманова. – У меня ж в Петербурге еще и другое дело есть – куда волнительнее. Но там уж мне самому придется…
– А, это то, что наши английские друзья называют несчастной любовью и несчастным детством – основными формирующими моментами русского национального характера… – усмехнулся Туманов, с тревогой подумав про себя, что если от визита «полегче» Василия так трясет и крутит, то что ж с ним станется, когда он отправится по своему следующему петербургскому адресу!
– Да, да, именно так! – близоруко улыбнулся Василий. – Несчастное детство… Сейчас я вам расскажу, как мой покойный отец, Викентий Савельевич, колотил меня оглоблей, пытаясь отбить интерес к естественным наукам…
Идти в этот самый Университет не хотелось категорически, но на всякий случай Михаил решил все же не оставлять пока Василия одного. Конечно, у Полушкина были рекомендательные письма, которые написал своему лучшему за все время существования егорьевского училища ученику Ипполит Коронин. И какие-то его собственные наблюдения, таблицы и рисунки в объемистой коричневой папке, но… Мало ли что он может выкинуть, зайдя в свой «храм» прямо из «тьмы исканий»…
В небольшом, плохо освещенном кабинете естественного отделения физико-математического факультета, куда Василий с Тумановым на буксире заглянули едва ли не в первую очередь, сидели двое студентов с волосами до плеч. Одного из них украшала нечесаная кудлатая борода, другого – аккуратные усы. Оба носили очки с синими стеклами и имели такой вид, как будто вот-вот облагодетельствуют человечество своими открытиями и изобретениями.
В кабинете изучали кости человеческого скелета. Все кости, чтоб их не растащили, были прикреплены на длинных цепях. На Васю и даже разбойничью рожу Туманова увлеченные работой «ученые мужи» не обратили никакого внимания.
– Коллега, у вас освободилась малая берцовая кость?
– Нет, коллега, вот нижняя челюсть мне не нужна, возьмите ее, если вам надо…
И опять звон цепей, бормотание под нос латинских терминов…
Туманов даже поежился от глупости происходящего и взглянул на Василия. По лицу Полушкина расползалась глупейшая, широкая, блаженная улыбка. Он наконец-то пришел домой…
Профессор со смешной фамилией Экземплярский, к которому в конце концов направили Васю, должен был подойти к двум часам. Проголодавшийся и перенервничавший Туманов предложил пока подкрепиться. Он переживал за Васю и весьма неловко чувствовал себя под осторожными, изучающими взглядами, которые искоса бросали на него ученые люди. Василий представлял Михаила как богатейшего промышленника международного масштаба, сочувствующего научному прогрессу. Туманов молчал и часто моргал глазами, почему-то полагая, что этот жест уменьшает свирепость его физиономии, – природную и приобретенную «во тьме жизненных испытаний», как выразился бы Вася.
Отдохнуть душою в какой-нибудь простецкой чайной не удалось – услышав его пожелания, Вася тут же затащил Михаила в университетскую столовую за северными воротами, где обедало множество студентов. На длинных, покрытых клеенкой столах стояли большие корзины с черным и серым хлебом, которого можно было брать сколько угодно. Обед без мяса стоил 8 копеек, с мясом – 12 копеек. Туманов, не удержавшись, взял себе бутылку пива за 9 копеек и с самым мрачным видом уселся на лавку. На него оглядывались.
Вася, всю жизнь малоговорливый и избегавший лишнего общения, предпочитая ему книги, теперь просто преобразился. Тут же завязал несколько разговоров, что-то спрашивал, чему-то поражался, размахивая длинными руками. Потом вокруг него возник какой-то неодобрительный шум и Туманов уж хотел подняться на выручку, но все как-то утряслось и разъяснилось. Потом целая группа студентов вместе с оживленно жестикулирующим Васей направилась к буфету, где продавались кисели, простокваша и разные булки и печенья.
Туманов, тяжело вздохнув, взял себе еще пива…
– Вы представляете, Михаил, здесь все так демократично! – с восторгом, едва не брызгая слюнями, рассказывал Василий чуть позже. – Богатство и в счет не идет. Кто-то на копейки живет, тот может только чай купить, а хлеба и с собой прихватить. Все сочувствуют. А иногда администрация предлагает бесплатно тарелку щей без мяса. Бывает так: иной студент, незнакомый совершенно, скажет: «коллега, я вам куплю обед, у меня денег хватит на двоих…» И… Господи! Я предложил накормить всех, они меня сперва не поняли, чуть не выгнали, но я… я рассказал, что из Сибири, и как мечтал в юности вот здесь, с хлеба на воду… Но только наука, наука… А теперь я богат… Они поняли, они поняли, Михаил! И я… Я с коллегами говорил… Боже, какая у них богатая, интересная жизнь! Они посещают научные доклады, ходят на выступления лидеров разных партий, на заседания Государственной думы (там можно на хорах находиться), в театры, в концерты…
Туманов широко зевнул, лишь представив себе подобную «интересную жизнь». Слава Богу, что хоть морду Васе не набили, не приняли его за куражащегося над бедными студентами сибирского купчика… Но где там, вон как глаза-то горят…
До самого вечера Туманов, проклиная всю на свете науку, бродил позади Васи по Университету. Из здания Двенадцати Коллегий вместе с микробиологом Экземплярским (он отлично помнил Ипполита Коронина, сам придерживался весьма либеральных взглядов, и сразу же благосклонно отнесся к его протеже) потащились через Менделеевскую линию во вновь построенные здания Императорского клинического повивального института. Тамошний народ явно гордился своими достижениями и с восторгом демонстрировал последние достижения технической и дезинфекционной мысли: в системе вентиляции воздух всасывался через вентиляционные башенки, расположенные в саду, в самой гуще зеленых кустов и проходил через бумазейные фильтры. Увлажняясь над бассейном с фонтанчиками, он согревался до нужной температуры и поступал далее в каналы, которые освещались через специальные окошки во избежание роста плесени. К услугам больных было все, включая огромный орган, который располагался в актовом зале…
– Вы согласны, коллега, что роль музыки в поддержании благоприятствующего выздоровлению состояния духа еще недостаточно оценена и исследована современной наукой? – резко спросил Туманова тщедушный человечек с бородкой клинышком, едва достававший Михаилу до плеча. – Еще Гиппократ писал…
– Ну конечно, конечно, – успокаивающе пророкотал Туманов и опять поморгал глазами. – Если Гиппократ… то как же без органа-то…
Потом пили жидкий, отдающий вениками чай и опять говорили о науке. «Ну ладно, водки у них, положим, нет, – рассуждал Туманов, имеющий некое представление о научных учреждениях со слов знакомого магнитизера. – Но хоть бы спирту тогда налили, что ли…»
Теперь о дешевом пиве на лавке в молодом шуме студенческой столовой он уже готов был думать с симпатией. С удовольствием сбежал бы, но коли уж решил поддерживать Василия… Впрочем, следовало признать, что среди ученой братии, собравшейся за лабораторным, обтянутым черной клеенкой столом и взахлеб обсуждающей чертовски интересную форму возбудителя лептоспироза, Василий Полушкин не только не выглядел человеком с расстроенным рассудком, но и вообще никак не выделялся.
«Может быть, все дело как раз в том, что он всю жизнь провел не на своем месте? – лениво вспоминая, размышлял Михаил, чтобы хоть чем-то занять себя. – И нет у Полушкиных никакого наследственного душевного расстройства? Отца изначально тянуло к религии и этой… романтике (иначе с чего бы он в эту дворянскую грымзу, мать Николаши, влюбился?!). Но предпринимательский порыв Ивана Гордеева, преображающего все вокруг себя, его подхватил, он и сделался подрядчиком… Сам себя не нашел, и из сына пытался настоящую-то начинку выбить. Оглоблей… А Василий – вот сюда, к этим чудакам всю жизнь без толку тянулся… Ну а если человек всю жизнь не своим делом, не на своем месте занимается, то мозги-то как-то свое отвоевать должны? Ну вот, после смерти Ивана старый Полушкин как бы помешался и пошел по монастырям. А теперь и молодой… тоже помешался и поехал в Петербург… Вот как складно выходит… Надо бы Софье рассказать…»
В этом месте Туманов вспомнил, что Софья потеряна для него навсегда и он уже никогда и ничего ей не расскажет. Тихонько зарычал от бессилия. Сидящий рядом длинный очкарик отшатнулся и испуганно взглянул на странного соседа, который не принимал никакого участия в научной беседе, зато выглядел, как… как настоящий пират!
– Простите, – искренне извинился Туманов. – Задумался о своем…
– Конечно, конечно, коллега, бывает, – не теряя с лица подозрительности, отозвался молодой ученый.
В которой Софи прибывает в Люблино, Петя читает стихи, а инженер Измайлов пьет наливку
– Вот это нравится мне больше всего! – заявила Мария Симеоновна и тыкнула пальцем в сторону Баньши.
Псина, обидевшаяся такой фамильярностью, беззвучно оскалила огромные клыки и сморщила нос.
– Вот-вот, именно это я и имела в виду! – Мария Симеоновна как бы поддакнула Баньши, одновременно оглядывая всю пеструю компанию. – Софи, в Сибири скончалась еще одна твоя подруга? Или… несколько, судя по количеству осиротевших существ? В городке случился мор?
– Да, Мария Симеоновна, в Егорьевске действительно скончалась Вера. Ее убили, – с несколько наигранным вызовом сказала Софи. – Она была мне не только подругой, но и в каком-то смысле приемной матерью. Во всяком случае, ее первенец был моим сводным братом. Сами понимаете, что я никак не могла оставить без попечения ее детей!
– Кто-то в Сибири приходился тебе сводной матерью? – переспросила Мария Симеоновна, несколько ошеломленная корпусом обрушившейся на нее информации, и оттого сразу растерявшая часть боевого задора (на что, собственно, и рассчитывала Софи). – А… а как же бедная Наталья Андреевна? Она-то тебе теперь кем приходится? И… эта… этот зверь, он что… тоже осиротел? Прямо в тайге? И скажи уж прямо, чтобы я все знала, – он-то с тобой в каких отношениях?
– Баньши – вовсе не дикий зверь, а вполне домашняя собака породы русский меделян. Хотя среди ее предков действительно были волки, – объяснила Софи. – Соня и Стеша – дочери погибшей Веры. Людочка – моя племянница, дочь Гриши, а ее мать… в общем, ее тоже нет в живых. Юрий и Елизавета приехали в Петербург учиться, у них есть родители, Карпуша – тоже не сирота, у него живы и отец, и мать, но они…
В этот момент Джонни, который до того доброжелательно и спокойно наблюдал за разворачивающимся представлением (бородатых мужчин среди прибывших не было, а никаких, даже самых больших животных Джонни не боялся), подошел вплотную к Карпуше, стоявшему рядом с собакой, протянул коротенькую руку к морде Баньши, и одновременно пытался управиться со своим непослушным языком, вознамерившись было что-то спросить у мальчика. Карпуша оскалился, завизжал, ударил Джонни по руке (Джонни тут же упал на четвереньки), подпрыгнул и, таща за ошейник Баньши, попытался убежать. Софи и Соня сразу сообразили, что Карпуша просто испугался Джонниного уродства, а остальные застыли в немом остолбенении. Достойнее всех повела себя Баньши, которой не было никакого дела до внешности Джонни. Схватив Карпушу за рубаху, она опрокинула его на землю, придавила огромной лапой и привычно держала до тех пор, пока он не перестал шипеть и извиваться. Потом подошла к Джонни (тот все еще стоял на четвереньках и ошалело крутил головой, не догадываясь даже заплакать. Вместо него во весь голос верещала испуганная Людочка.), обнюхала мальчика и дружелюбно ткнула его в поясницу огромной мордой. Констанция и Эсмеральда потрясенно взвизгнули и повалились в одновременный глубокий обморок под кустом сирени. Кришна выгибал спину в развилке липы и бессильно шипел над головами людей. Он любил своего хозяина, но был неглупым котом и понимал, что против Баньши у него нет абсолютно никаких шансов. Трехногий кухонный песик дружелюбно и весело вертел хвостом-баранкой. Баньши в качестве вожака усадебной стаи устраивала его куда больше, чем царапучий и стервозный Кришна.
– Хорошая собачка, – сказал Джонни и поднялся, цепляясь за шерсть на мощном загривке Баньши. – А он? – мальчик указал в сторону ревниво наблюдающего за сценой Карпуши.
Баньши совершенно по-человечески вздохнула и пожала плечами.
Потом, тихонько сжав челюсти на руке мальчика, потащила Джонни в сторону Карпуши. Когда расстояние между ними уменьшилось наполовину, дауненок каким-то образом сообразил, что из всех троих именно он в наибольшей степени является человеком, и взял инициативу на себя.
– Я – Джонни! – сказал он и ткнул пальцем себя в грудь.
– Карпуша, – помедлив, Карпуша повторил жест мальчика.
– Мама, папа, бабушка! А давайте организуем у нас в усадьбе троглодитское племя! – с воодушевлением воскликнул Павлуша. – Они будут круглый год по деревьям с палками скакать, а я уже пойду в гимназию учиться – мне все равно будет. А Милочка станет у них миссионером и будет им вслух из Евангелия читать. Или, вернее, из Чарльза Дарвина – это им ближе. А лучше всего – из немца Энгельса, про то, как труд сделал из обезьяны человека…
– Павлуша, уймись, – с усталой улыбкой попросил Петр Николаевич.
Баньши легла между двумя мальчиками и вытянула лапы. Джонни и Карпуша присели по бокам и гладили ее свалявшуюся в дороге шерсть, испытующе поглядывая друг на друга. Констанция приоткрыла один глаз и осторожно, стараясь не привлекать к себе внимания, оглядела происходящее.
– Нет, но я же говорила, что пес нравится мне больше всех! – с напором повторила Мария Симеоновна.
– Ты знаешь, твоя сестрица Аннет издала-таки свой роман, – сказал Петр Николаевич Софи.
Софи сидела в глубоком кресле, поджав под себя ноги, и, закутавшись в плед, маленькими глотками пила горячее молоко (в дороге она сорвала голос, пытаясь получше управиться с подотчетным контингентом). Все дети были более-менее удачно пристроены, даже Людочка заснула без капризов после того, как Милочка прочитала ей сказку, а Павлуша показал фокус с исчезающим и вновь появляющимся шариком. Только Карпуша отказался войти в большой, пугающий его дом и остался вместе с Баньши ночевать в сенном сарае.
Соня снесла ему туда ужин, одеяло и подушку и уверила Софи, что мальчик и собака очень неплохо там устроились и чувствуют себя вполне комфортно.
– И что же роман? – тихо спросила Софи. – Ты прочел? Наверное, восхитителен?
– Не то слово! – почти беззвучно рассмеялся Петр Николаевич. – Я специально не убирал далеко к твоему приезду. После насладишься сполна, а сейчас я тебе для затравки прочту пассажи, которые я полюбил от всей души… Вот… «В нем можно было видеть некоторую вялость и бледность лица, на котором лилия временно одолела розу…» И еще… из эротического… «утолив губы высочайшим наслаждением поцелуев, запечатленных на прелестнейшей двойне сиятельных сфер…»
– Сиятельных сфер? – вяло удивилась Софи. – Это что, ее задница, что ли?
– Да нет! – обиделся Петя. – Это – грудь героини. Вот, дальше: «Сосцы-короны, сладостные бутоны самой красоты!» и еще из ее же портрета… «Облако ее черных, как вороново крыло волос было столь же ярким, как и ослепительная синева глаз, сверкавших как драгоценные сапфиры, на изящно вылепленном лице…»
– Обворожительно! – Софи зевнула. – Прости, Петя, я после прочту, конечно, но сейчас меня это умаривает совершенно… А ты сам-то что-то новое написал?…
– Ничего существенного, – подумав, ответил Петр Николаевич. – Вот разве что это… Ты, кажется, не слыхала… – он вынул из стопки исписанный лист, но читал, не заглядывая в него. –
Явно посмотреть – и то не смею,
Словно опасаясь волшебства;
Полуэльф, наполовину фея
Тихо проскользнула в галерею –
Ей паркет под ноги, как трава.
Сладостно кружится голова…
Побежать, помчаться вслед за нею,
Только плоть становится мертва,
Ноги в пол врастают, каменея,
А она идет – во взглядах-змеях,
Лаокоон, вольный, как молва,
Как любовь, свободна и жива –
Тонкий профиль редкостной камеи…
И не обернулась, как ни звал.
– Мне нравится… – помолчав, сказала Софи. – Но ты знаешь, я более всего то люблю, которое Гриша пел: «Потеряю человека, в этом городе, где угол каждый след его хранит…»
– Да, да, я помню. Он подобрал очень удачный мотив, – кивнул Петя и напел приятным, чуть дребезжащим тенором:
Человек уже потерян,
Он еще шагает рядом,
Теплый локоть, взмах руки,
Но молчаньем путь отмерен:
Площадь, сад, ограда сада,
Мост над призраком реки…
Софи поставила кружку с молоком на столик, отвернулась к окну и что было сил сжала кулаки, вонзив ногти в ладони и пытаясь одной болью заглушить другую.
«Все-таки Пьер бывает иногда… недопустимо тонок…» – подумала она.
Поместье Скавронских находилось в пяти верстах от Сергиевской Пустыни.
На вокзале Измайлов купил у разносчика два пирога с печенью и бутылку кваса в длинной, плетеной из лыка корзинке. Потом ехал по Ораниенбаумской ветви Балтийской железной дороги, и все время казалось, что везет с собой лапоть. Постановил при первой же возможности пироги съесть, а корзинку – выбросить. От станции до монастыря, основанного в 1743 году архимандритом Варлаамом, ходила конка, доставлявшая в монастырь богомольцев. Дальше Андрей Андреевич удачно сговорился с молодым монашком, который ехал в прилегавшую к имению деревеньку по какой-то надобности. Денег монашек не взял, совершил богоугодное дело. В пути беседовали о том, как веруют в Сибири, об истории раскола. Монашек слушал внимательно, встревал и вопросы задавал дельно.
Ласково распрощавшись с Божьим человеком почти на месте, Измайлов себя вовсе позабыл, и шел, и спрашивал что-то, как будто его на нитке вели. В результате предстал перед Элен Головниной с «лаптем» в руках и надкусанным пирогом, из него торчащим.
Элен засмеялась и указала пальцем. Волосы у нее были убраны волосок к волоску, как у фарфоровой куклы. Измайлов взглянул на пирог и покраснел.
– Глупость какая! – сказал он и добавил. – Да, впрочем, у меня всегда так…
– Хороший ли пирог? – спросила Элен, подошла, протянула руку и, глядя в глаза, откусила с той стороны, где кусал Измайлов.
Андрей Андреевич обомлел от противоречий нахлынувших чувств и стоял, не зная, что говорить и делать.
Элен положила огрызок на место, отошла к дивану, обитому веселым, с полевыми цветами, штофом, села, аккуратно, носок к носку поставив маленькие ножки в голубых туфельках, расправила складки на платье и зарыдала.
Измайлов отшвырнул «лапоть» и бросился к ней. Сел на пол, припал к коленям. Элен перестала рыдать, нежно погладила его по намечающейся лысине.
– Я думала, вы не приедете, – всхлипнув, сказала она так, словно за что-то извинялась. – Я бы понять смогла, но как жить – не знала. Теперь вы здесь и все будет хорошо.
От ее милой уверенности и прикосновения к плешке теплой ладони у Измайлова обозначилась слабость в коленях. Он испугался, что когда придет черед встать – не сможет.
Во время ужина Элен потчевала гостя с купеческим радушием и аристократическим иезуитством одновременно, все время повторяя: «Попробуйте, мне приятно будет». В результате Андрей Андреевич съел раза в два более, чем хотелось.
Слуги сновали вокруг, молчаливые и стремительные, как мыши. Их количество раздражало в Измайлове демократическую жилку. Он понимал, что всем им в доме не место и не дело, они просто изыскивают предлоги, чтобы взглянуть на него, и по своему оценивают. В том, что итоговая оценка выйдет нелестной, Измайлов не сомневался. Он всегда нравился пролетариям и работникам на земле, но не нравился барским прислужникам и, пожалуй что, этим гордился.
Когда окончательно стемнело, Элен пригласила его к себе. Он сел в жесткое кресло, а она с удивительной непринужденностью взяла книгу, развернула лампу и попросила разрешения прочесть Измайлову некие понравившиеся ей места.
«А то мне здесь и поделиться не с кем,» – опять оправдываясь, сказала Элен.
Измайлов выслушал, покивал головой, ничего не поняв, и все время чтения думал о том, что вот так же она читала на ночь Василию Головнину.
– Вам Маняша комнату приготовила, – сказала Элен после того, как обсудили Софи Домогатскую и ее невероятно увеличившееся за последнее время семейство (о Туманове и его отношениях с Софи не было сказано ни слова). – Чтобы все как положено. Но, может, вы сразу со мною останетесь? Или мне к вам прийти?
– Елена Николаевна… – начал Измайлов.
– Элен… пожалуйста… – перебила женщина.
– Хорошо, Элен… Я не думаю, что мы должны…
– А как же? – удивилась Элен. – Я думала… раз я теперь одна живу… мы с вами… Или? – Элен вдруг стремительно покраснела. – Я… я что-то не так поняла? Что-то ужасное сказала?! Сделала?!..
– Элен, милая! – Измайлов подошел и мягко обнял в панике кинувшуюся ему навстречу женщину. – Вы все поняли и сделали правильно. Я люблю вас всем сердцем и думаю только о вас… Каждую минуту хочу быть с вами… Если бы ради вашего блага понадобилась моя жизнь…
Андрей Андреевич автоматически говорил подряд, не слишком заботясь о связности, все те фразы, которые, как он знал из жизни, нравятся всем женщинам без разбора, и успокаивают любую в любой ситуации (только вот за Софи Домогатскую он, пожалуй, не поручился бы…). Элен, действительно, перестала дрожать, снизу вверх доверчиво взглянула теплыми карими глазами.
«Ну ладно, а делать-то теперь чего?» – спросил трезвый голос где-то внутри инженера.
«Да делай, что она хочет, и ладно. Там разберешься,» – также трезво ответил кто-то другой.
Измайлов, обнимая Элен и все еще продолжая что-то бормотать, с интересом выслушал этот диалог и решил не противиться мнению непонятных, но вроде бы здравомыслящих собеседников. До сих пор внутри (и помимо) его никто и никогда не разговаривал.
Когда Измайлов совершил вечерний туалет и снова вошел в комнату, Элен уже отпустила Маняшу, лежала в кровати и ласково улыбалась ему навстречу. В ногах под высокой кроватью виднелся ночной горшок с крышкой, кокетливо расписанный фиалками. Элен была одета в шелковую с кружевами ночную рубашку с завязками под горлом и – спаси, Господи! – в ночной чепец. Ленты от чепца тоже были завязаны под подбородком красивым бантиком. Боевая юность Измайлова прошла среди революционерок и прочих передовых девиц, и представшая перед ним картина была ему внове.
Поколебавшись несколько мгновений, он решил, что бантики, в конце концов, можно и развязать, и полез под одеяло.
– Лампу, Андрей Андреевич, не надо погасить? – ангельским голосом спросила Элен.
– Не надо, – буркнул Измайлов. Он уже выяснил, что ночная рубашка, в которую облачена Элен, весьма длинна, полна оборочек и полностью закрывает ступни.
Когда Измайлов потянул на себя первую завязку, Элен закрыла глаза и замерла. Ее полная грудь и округлые плечи в свете лампы выглядели изваянными из розового мрамора. Инженеру казалось, что в постели с ним лежит прекрасная статуя, из какой-то дурацкой игры одетая в шелковую ночную рубашку.
Он попробовал приласкать, разбудить ее, но Элен не шевелилась и не открывала глаз. Только тихое, мерное дыхание выдавало, что она еще жива.
Измайлов оправил сорочку Элен и отстранился.
– Пусть будет все… до конца… – прошептала женщина, по-прежнему не открывая глаз.
Измайлов тихо выругался в ответ. Больше он ничего не мог сделать.
Элен все поняла и из-под сомкнутых ресниц бесшумно покатились крупные, как горох слезы. Плачущая статуя – удивительный фокус, спешите видеть.
– Я не могу вам нравиться, простите, – снова извинилась она.
– У вас здесь выпить есть? Я имею в виду, спиртное? – спросил Измайлов, уверенный в том, что Элен либо оскорбится, либо просто не ответит.
– Внизу, в буфетной, на верхней полке – наливки, – тут же, словно ждала именно этого вопроса, сказала она.
Измайлов оделся, спустился в буфетную, нашел какую-то темно-коричневую бутылку, подозрительно понюхал и, поколебавшись, налил себе целый стакан. Выпил длинными глотками, едва сдерживая тошноту. Наливка, впрочем, оказалась вполне вкусной. Покачав бутылку в руке, Андрей Андреевич плеснул себе еще полстакана.
Посидел немного у окна на венском стуле, потом поднялся наверх. Не ложась в кровать, примерился и с удовольствием разорвал от ворота вниз ночную сорочку Элен. Чепец решил не трогать, опасаясь запутаться в завязках и нечаянно задушить женщину.
После навалился сверху и грубо и без затей овладел ею. Элен так и не произнесла не звука, только дышала чуть более шумно. Наверное, ей просто тяжело было держать его на себе. Измайлов был не очень высок ростом, но коренаст и увесист.
Утром он проснулся сразу, толчком, все помня и мучаясь похмельем и чувством вины.
Элен лежала рядом на боку, смотрела на него и печально улыбалась. Удивительно, но рубашка на ней была целой. Измайлов даже головой помотал от изумления, но тут же сморщился от боли.
– Что я наделал, Элен… – пробормотал он.
– Ничего, я привыкла, – улыбнулась Элен.
– К чему ты привыкла?! – не обращая внимания на боль, расколовшую голову на три неравных куска, крикнул он.
– Васечка однажды разозлился на меня и сказал, что со мной можно в охотку ложиться, только нализавшись до поросячьего визга, – процитировала Элен. – Я думала, что, может быть… но… теперь я вижу, что он был во всем прав… Дело во мне, я никому не могу нравиться… так… Простите меня, Андрей Андреевич, вам тяжело было…
– Родненькая моя, – ему стало ее так жалко, что он едва не заплакал. – Ты-то тут причем, если тебя так воспитали, а твой идиот-муж не сумел тебя разбудить! Теперь все будет по-другому. Ты только доверься мне и я все… Сейчас же… Только вот…
– Вам на горшок надо? – догадалась Элен. – Так вы вставайте, а я пока попрошу Маняшу рассолу принести…
На мгновение мучающемуся похмельем Измайлову вдруг показалось, что он каким-то неведомым кульбитом оказался в постели не с Элен Головниной, которую он, несмотря ни на что, любил нежно и предано, а с Софи Домогатской. Андрей Андреевич даже подпрыгнул от ужаса и яростно поморгал слезящимися глазами, желая немедленно убедиться в своей ошибке.
«Просто подруги похожи более, чем может показаться на первый (да и на второй, и на третий!) взгляд,» – успокаивающе сказал себе инженер.
В которой Валерия Коврова задумывается о жизни и о себе, Элен и инженер Измайлов привыкают друг к другу, а Джонни определяется со своим родством
Девица Валерия Коврова, из дворян, двадцати шести лет отроду, находилась в полном и окончательном (как ей казалось) душевном раздрае.
Надо было немедленно что-то делать, но, как назло, именно теперь в голову не приходило ничего дельного.
«А раньше-то приходило ли?» – самокритично спросила себя Валерия и опять же не нашла ответа.
Всю свою жизнь Валерия прожила с маменькой и ее младшей сестрой – незамужней тетушкой Аполинарией Никитичной. Отец Валерии, бывший на 22 года старше матушки, скончался от внезапно открывшегося желудочного кровотечения, когда дочке только исполнилось полтора года.
Жили Ковровы небогато, но достойно. Валерия получила хорошее гимназическое образование, по прилежанию и усердию была в числе первых учениц (в третьем и четвертых классах за успехи дочери Ковровых даже освободили от платы за обучение). Старшие женщины неустанно предупреждали подрастающую девушку против козней молодых и развращенных юнцов, которым «от девицы только одного и надо, а после – хоть в петлю». В результате такого воспитания впечатлительная Валерия испуганно шарахалась от всех без исключения мужчин в возрасте от 14 до 50 лет. Всегда носила темные платья самого простого фасона – синие или коричневые, гладкую, без затей прическу и ботинки на низком каблуке. При разговоре никогда не поднимала на собеседника глаза (пялиться – неприлично!) и бледные губы складывала куриной попкой.
Позже, впрочем, она стала замечать странное: казалось, что, вопреки предупреждениям матушки и тетушки, мужчинам от Валерии ничего и не надо.
Валерия некоторое время поразмышляла над этим противоречием, но потом вполне философски разрешила его: не надо, так не надо, – тем лучше.
Тут как раз и подвернулась оказия со службой. Куда же лучше – экзотическая восточная женщина Остякова – держательница входящего в моду художественного салона – искала девицу с хорошим воспитанием и манерами, для того, чтобы принимать и обихаживать посетительниц салона, многие из которых были из самого высшего общества. Сама Варвара Остякова для этой роли не годилась категорически, а Валерия как раз подходила – как ключ к замку.
Размер жалованья, предложенного Варварой для начала, приятно удивил девушку: оно было именно в два раза больше ежемесячной пенсии, которую они с матушкой получали на двоих (у тетушки были свои, впрочем, еще более скромные, средства).
Валерия, естественно, согласилась на все условия и изо всех сил старалась угодить покупательницам и заодно соблюсти честь и выгоду заведения. Хозяйка, кажется, была всем довольна, хотя бесед с Валерией избегала. Приязнь ее выражалась в премиях и регулярных прибавках к жалованью, что Валерию и ее домочадцев вполне устраивало. Нельзя сказать, чтоб и сама Валерия так уж стремилась теснее общаться с Остяковой. Очень смуглая и дикарски резкая в движениях и суждениях Варвара вызывала у флегматичной и белокожей девушки какие-то смутные опасения. Ругая себя за дурацкие фантазии, Валерия, тем не менее, почему-то была уверена, что хозяйка салона Варвара Алексеевна носит за подвязкой остро наточенный ножик и всегда готова пустить его в ход.
Великосветские посетительницы салона к Валерии благоволили, называли ее «милочкой» и всегда советовались с ней касательно новинок, прежде, чем сделать ту или иную покупку. Бесцветная Валерия Коврова имела вкус к красивым вещам и их сочетаниям, и это все признавали. Мужчины салон посещали относительно редко, быстро делали покупки (как правило, они брали что-то в подарок женщинам) и уходили. Стало быть, и с этой стороны все в жизни девицы Ковровой было устроено правильным и безопасным образом.
То есть, подводя итог вышесказанному, можно было сказать, что работа в салоне приносила Валерии не только средства к существованию, но и удовольствие, а, кроме того, почти полностью исчерпывала круг ее общения и интересов.
Одновременное появление в салоне нескольких девушек с отчетливой восточной нотой во внешности поначалу Валерию нисколько не удивило. Персоналу салона сразу было объявлено, что бывшая хозяйка новых работниц (то ли белошвеек, то ли вышивальщиц – Валерия не поняла) скоропостижно скончалась от пневмонии, здание передали наследникам, и девушки поживут при салоне, пока не определятся и не подыщут себе что-нибудь подходящее. Что ж тут удивительного? – Варвара Остякова, сама самоедка из Сибири, решила помочь землячкам в трудную минуту…
Валерия разговаривала с девушками ласково, хвалила их за попытки учиться у мастериц и освоить художественные навыки. Надо признать сразу – девушки старались. У одной оказался явный дар к росписи по дереву, другая ловко вязала оплетки для подвесных цветочных горшков, третья, по-видимому, вспомнив босоногое детство в каком-нибудь степном становище, резала удивительно звонкие, какие-то кружевные дудочки разных тонов, которые связывала по три и по пять гибкой лозой. Получались странно, но приятно звучащие музыкальные инструменты, и посетительницы салона охотно раскупали их в подарок детям…
Все было хорошо довольно долго, ровно до того момента, когда однажды Валерия, скрытая плотно составленными ширмами, услышала, как девушки чирикают между собой. Несколько минут Валерия стояла, плотно стиснув руки у груди, и тешила себя надеждой, что она ошибается и просто что-то не так поняла в беглом и легком разговоре новых мастериц…
Потом надежды не осталось.
И теперь надо было что-то решать. То есть, на самом деле, конечно, решать было абсолютно нечего. Всего лишь подняться к Варваре Остяковой и попросить расчет. Но…
На что жить дальше? Идти служить? Но куда? В гувернантки? У Валерии нет рекомендаций… В компаньонки? Та же проблема, да и место найти не так уж просто… К тому же Валерии нравится именно эта работа, ей нравится каждый день встречаться с людьми, предлагать им красивые вещи, советовать, убеждать, угощать чаем с пирожными, вести светскую беседу… Ей вовсе не хочется проводить весь свой день рядом с какой-нибудь усохшей (или, наоборот, безобразно растолстевшей) старухой… Ей довольно маменьки и тетушки дома…
Но ведь с другой стороны она, дворянка Валерия Коврова, не может постоянно находиться в одном помещении с… с девицами легкого поведения, которые… которые не просто делали это с мужчинами, но и получали за это деньги и подарки… Из подслушанного разговора сообразительная Валерия наконец-то уяснила для себя, где именно работали раньше девушки, которых теперь приютила у себя Варвара… В борделе…
Что стало бы с маменькой, если бы она узнала…
Нет, об этом лучше даже не думать!
Валерия вдруг поймала себя на том, что ощущает себя необычно собранной и решительной. Она, несомненно, найдет выход.
Прежде, чем прийти к окончательным выводам, ей следует с кем-то посоветоваться. Но с кем? Подруг с детства у Валерии не осталось (в гимназии ее считали зубрилкой и фискалкой. Зубрилкой она была, но никогда не фискалила), а после ей и познакомиться-то было негде. Варвара Алексеевна и девушки-мастерицы исключались…
Аграфена Михайловна… – пришла и осталась мысль.
Круглолицая, немолодая по меркам девицы Ковровой женщина в монашеской одежде появилась в салоне не так уж давно. Как поняла Валерия, Варвара и Аграфена были знакомы с детства и жили в Сибири в одном городке… Аграфена происходила из духовной семьи, после жила в монастыре, а теперь после каких-то несчастий прибыла в Петербург с рекомендательным письмом от той самой красивой госпожи, у которой такие милые, воспитанные дети, и еще несчастный слабоумный сынок, для коротких ножек которого эти дети брали расписную скамеечку…
Аграфена Михайловна подходила для целей Валерии просто идеально.
– Я просто не знаю, что мне делать, сестрица! Душа моя истерзалась! – Валерия несколько театрально заломила руки, но сочла это оправданным, так как именно хотела показать Аграфене всю силу своих переживаний.
– Да что ж приключилось-то с тобой, Валерочка?! – испугалась Фаня, отложила в сторону неизменные пяльцы с вышивкой (с самого приезда Валерия никогда не видела Аграфену без работы в руках), и шагнула навстречу к девушке, раскинув руки и готовясь открыть ей свои мягкие объятия.
Валерия с детства сторожилась чужих прикосновений, находя всякие телесные проявления чувств не только неприличными, но и неприятными, но здесь отчего-то изменила своей привычке.
В Фаниных объятиях было тепло и уютно, пахло лавандой, корицей и нитками-мулине. «Как будто бы в середине клубка сидишь,» – подумала Валерия.
– Расскажи, девочка, – мягко попросила Фаня. – Расскажи все, как есть. Неужто, наконец, влюбилась? Я-то все думала: когда ж?
– Нет! Что? Отчего вы подумали?! – Валерия отшатнулась и покраснела.
– А что ж в этом такого? – удивилась Фаня. – Самое время для тебя, и самое дело… Девушка ты строгая, умная, собою видная, если бы еще одевалась покрасивше…
– А чем это я вам не так одеваюсь? – внезапно обиделась Валерия, хотя и отметила, что Аграфена назвала ее «собою видной девушкой». Что это значит, она толком не поняла, но решила считать комплиментом.
– Ну… – замялась Фаня. – Отчего бы тебе, в твои-то годы… Ну хоть голубенькое что-то не носить… Или, еще лучше, золотистое… Вот так, в таком вот сочетании… – Фаня достала из своей корзинки три пучка мулине – насыщенно-голубой, нежно-голубой и темно песочный – и, соединив их вместе, выложила перед Валерией. – Гляди, как ладно получается… Щечки чуть-чуть нарумянить и ты бы у нас сразу такой красоткой стала…
– Я? Буду румянить щеки?! – возмутилась Валерия (имея вкус, она сразу оценила предложенное Аграфеной сочетание, и, против воли, представила свою весьма рослую и стройную фигуру в голубом, в два цвета костюме с песочным, с золотой искрой кантом). – Да за кого вы меня…
– Да. А что ж в этом такого, если тебе Господь не дал? – спокойно возразила Фаня. – Надо и самой о себе порадеть. А то годы пройдут, с чем останешься?
– Я… я не такая… – кусая губы, прошептала Валерия.
– А какая ж ты? – удивилась Аграфена. – Особенная, что ли? Разве не всех Господь по своему образу и подобию создал? Разве не сказал: любите друг друга?
– Но ведь нельзя же… нельзя же… – за деньги?! – шмыгнула носом Валерия.
– А причем тут – деньги? Ты о чем это говоришь-то? – не поняла Фаня.
Валерия рассказала о подслушанном разговоре и о своих терзаниях.
– И что ж? – подумав, серьезно и вроде бы даже сурово спросила Аграфена. – Ты теперь бежать собралась? Они – жрицы любви греховной, о том и спорить нечего. Но куда же, можно у тебя спросить, куда же ты, безгрешная и безлюбая, пойдешь? Где найдешь в мире тебя достойный уголок? Чтобы без греха, без соблазнов, без мужчин даже, если я тебя правильно поняла?… Не хочешь ли в обитель, монашенкой? Я там была, все знаю, все рассказать могу… Иди. Только там все то же. И грех, и гордыня, и зависть. В мыслях-то, да в мечтаниях бессильных грех еще страшнее, бывает, выходит. Удушливее. Тот, кто проклинает, сам проклят – неужели это так сложно понять?!
– Значит… – Валерия искренне пыталась уразуметь (и одновременно – найти повод не уходить, так как именно к этому, как ей казалось, клонила Фаня). – Вы думаете, что мне нет смысла теперь бежать отсюда, потому что везде, где бы я ни спряталась… Я должна научиться… Но ведь я не должна при этом стать… стать такой же, как они? – с тревогой вопросила Валерия. – Я не хочу…
– Разумеется, нет, – улыбнулась Аграфена. – Ты не должна становиться как они, как я, как твои матушка с тетушкой, как еще кто-то… Стань собой. Этого вполне достаточно.
– А… а какая я? – долго подумав, спросила Валерия.
Аграфена Михайловна опять улыбнулась. Улыбка получилась настолько печальной, что у Валерии отчего-то защемило сердце.
– Ты… ты спросила, а значит, – сделала первый шаг. Не у меня спросила, какой я тебе ответчик, – у Бога, у мира. Он услышал. Дальше все от тебя зависит. С каждым шагом будет и ответ приходить…
Элен честно, старательно и серьезно, как и все, что она когда-либо делала в жизни, пыталась освоить запретную для нее, не физически, но психологически, зону человеческой жизни – интимную близость между мужчиной и женщиной. Ее попытки иногда умиляли, а иногда бесили Измайлова. Не слишком экзальтированный по природе, внешне он почти не проявлял своих чувств, но его внутреннее я то корчилось от смеха, то буквально рыдало от сентиментальной жалости.
Все получалось очень неровно.
Порою она потрясенно замирала от какого-то его движения или ласки, и ее теплые карие глаза тут же наполнялись слезами стыда и страха. Раньше, чем Измайлов успевал испугаться своей неловкости и неуместности означенного движения, Элен согнутым запястьем быстро утирала слезы (если хоть одна рука у нее в тот момент была свободна. Если же обе были заняты, то она просто шмыгала носом и загоняла слезы обратно) и тихо, но решительно говорила что-то вроде: «Значит, это вот так делается? Хорошо, Андрюшечка! Я поняла. Пусть будет.» Измайлов просто сатанел от таких изысков постельной жизни, и, будучи человеком взглядов вполне традиционных, порою сам себе казался не то палачом, не то героем какого-то дурного, неподцензурного романа. Предвидеть и предотвратить подобные сцены он был не в состоянии, а сказать Элен ему было, разумеется, абсолютно нечего.
Бывало и иначе. Он просто смотрел на нее, и спокойная красота линий ее тела притягивала его взгляд, дарила отдохновение чувствам. В такие мгновения Измайлов жалел, что не может молиться.
– Ты учи меня, и я буду все делать, – просила его Элен. – Я же теперь передовая женщина и довольно образованная, ты не думай…
– Хорошо, – вздыхал Измайлов. – Тебе приятно то, что он с тобой делает? – спрашивал он, недвусмысленно указывая на объект вопрошания.
– Да, безусловно, – пунцово краснея, отвечала Элен.
– Тогда скажи это этой штуке, – говорил Измайлов, намекая на более смелые, чем позволяла себе Элен, ласки.
Но бедняжка Элен никогда не понимала намеков и всегда и все воспринимала буквально.
– Мне очень нравится… эта штука… – запинаясь, серьезно начинала Элен, прижав руки к груди и заворожено глядя на объект. – Она… то есть, он великолепен, как будто бы завернутый в красный шелк, похожий на древний жезл силы. И тот горячий, но не сжигающий огонь, который…
От подобного бреда передовой и образованной женщины Измайлову нестерпимо хотелось завыть и залезть под стол, но, чтобы окончательно не смутить Элен, он должен был слушать и сохранять при этом по возможности невозмутимый вид. Все это давалось ему крайне нелегко, и часто он с неожиданной для себя симпатией думал о ночных рубашках и ночных колпаках и чепцах, которые сопровождали Элен всю ее предыдущую жизнь.
– На что ты смотришь?
– На твой… гм… зад…
– И что? – растерянно спросил мужчина и тут же мысленно выругался.
Черт побери! Да ты совсем рехнулся от переживаний, старый дурак! Аристократка Элен Головнина прожила с мужем 15 лет и, судя по всему, ни разу не видела его голым (видел ли он ее – это тоже, между прочим, вопрос). А теперь Андрей Андреевич Измайлов, 45 лет отроду, спрашивает ее о том, что она думает о его жопе, пардон, заде (или заду?)!
– Я думаю, что она… то есть он… очень привлекателен, – мужественно сказала Элен, судорожно сглотнув.
Измайлов очень старался сдержаться, но не смог и истерически расхохотался.
– Ну и как у тебя с Измайловым? – с искренней заинтересованностью спросила Софи.
Обе женщины сидели на кровати Элен в ночных рубашках и пеньюарах, грызли яблоки и болтали. За окнами спальни Элен тихо падал снег.
– Двадцать лет назад, помнишь, мы тоже здесь вот так же сидели… – задумчиво сказала Элен. – И ты также обхватывала руками колени и говорила, что у тебя скоро будет много-много кавалеров, больше, чем у Мари Оршанской… А я сказала, что мне нужна только семья, спокойно жить и любить своего мужа и деток… И вот… Вот как повернулось… Ты… и я… – по щеке Элен скатилась одинокая слеза.
– Брось хандрить! – оборачиваясь к Элен, воскликнула Софи. – Ты сама все решила, чего теперь себя изводить! Детьми, кстати, я вполне могу с тобой поделиться, если желаешь. Джонни не стоит с места дергать, а вот Карпушу с собакой и Людочкой вполне могу предложить… Еще бы и Павлушу добавила. В последнее время вовсе невыносим стал, зануда… Брось, Элен! Если все время думать, и вспоминать, так… и до Анны Карениной недалеко. Граф Толстой – дурак, хотя и гений. Ему это еще откликнется, вот увидишь. Умный человек не может долго жить в клетке, даже если сам себе ее сплел. Рано или поздно граф из своих рамок уйдет, если доживет, конечно… Расскажи лучше про вас с Андреем Андреевичем… Этот народоволец матрацный решился на что-нибудь?
– Почему «матрацный»? – удивилась Элен, несколько отвлекшись от своих переживаний.
– Ну, ты не замечала разве, что Андрей Андреевич на матрац похож? Такой полосатый, из конского волоса, с пупочками? И мягкий, и жесткий одновременно… С полосами, куда попадешь… Как будто бы он вот так встал стоймя и ходит себе на ножках… – Софи, изогнув кисть, показала, как ходит матрац-Измайлов.
Элен улыбнулась сквозь слезы. Придать воображаемому полосатому матрацу черты Андрея Андреевича оказалось на удивление легко.
– Ты знаешь, мне Васечку даже жалко стало, – задумчиво сказала Софи.
– Отчего ж? Ты ведь никогда его особенно не любила. Не говорила мне, но я ж видела…
– Да, да, это так. Но вот теперь. Знаешь, Элен, ты, может, никогда мне после этих слов не простишь, но я сказать должна: вполне может так статься, что ты просто уничтожила его своим совершенством. Он, конечно, по большому счету, сам виноват, думал бы, с кем связывается, но все же…
– Отчего же не прощу? – грустно возразила Элен. – Я тоже об этом сто раз думала, хотя и не теми словами… Но это все в прошлом. Какое я теперь «совершенство» – подумай сама?!
– Да, живым быть, это дорогого стоит, – согласилась Софи. – Так что же – вы с инженером?
– Андрею Андреевичу со мною нелегко приходится, – серьезно сказала Элен.
Софи расхохоталась. Элен взглянула обиженно и непонимающе.
– Ну ладно, ладно… – пробормотала Софи, сдерживая смех. – Я, в общем… понимаю…
Помолчав, Элен собрала в кулак кружева у ворота. Подобный жест в ее исполнении показывал, что она нешуточно волнуется. Обычно Элен вообще избегала слов и жестов, демонстрирующих чувства. Вести себя иначе – вульгарно. В сущности, Софи и вправду искренне сочувствовала инженеру. Задачу, которая нынче стояла перед ним, никак нельзя было назвать легкой.
– Софи, ты говорила о детях… – напомнила Элен. – Я понимаю, о Павлуше – это шутка. Но другие… маленькая девочка… тебе ведь, быть может, действительно в тягость, а мне… Я ведь всегда…
– Не надо, Элен, – сразу став серьезной, сказала Софи. – Не нужны тебе сейчас чужие дети.
– Да, – Элен потупилась. – Конечно. Ты права, а я – не подумала. На мне ведь теперь клеймо. Я не могу воспитывать дочку Григория Павловича, других, это скомпрометирует их в глазах людей, общества…
– Господи, Элен! Что за чушь ты несешь! – вскричала Софи. – Немедленно прекрати само уничижаться, а не то я… Не то я не знаю, что с тобой сделаю! Тебя, значит, нельзя подпускать к детям… А меня, значит, – в самый раз, да? А то, что я от мужа спала в Сибири со своим бывшим любовником и едва ли не выла с тоски по-волчьи каждую ночь, когда он почему-либо не приходил – это как? И сейчас бы выла, если бы гордость позволила…
– Софи, милая…
– Что – Софи?! Да, я люблю и всегда любила Туманова, но это ничего не меняет, потому что он тоже женат и у него есть дочь. И еще потому, что такое, как у нас, по самому своему устройству не может быть долго. И детей я тебе не отдам – мне самой нужно. А ты… Ты вполне сможешь от Андрея Андреевича еще родить, да и Ванечка, я уверена, во всем разберется со временем и к тебе вернется… Вы ведь… не делаете ничего? Ну, чтоб детей не было?
– Он… спрашивал, – покраснев, сказала Элен. – Но я сказала, что как Бог рассудит. Если Он допустит, чтоб я забеременела, значит, мне еще можно счастливой быть… А нет – значит, недостойна…
– На Бога надейся, а сам не плошай, – пожала плечами Софи. – Я как раз о том с тобой и говорить хотела…
– О чем же? О том, как мне забеременеть? – удивилась Элен. – Или? – женщина вздрогнула и потерла пальцами глаза. – Ты сама ждешь ребенка? От Михаила?!
– Да нет, – досадливо повела плечами Софи. – Никого я не жду. А говорить хотела о том, что хватит уже тебе здесь киснуть, от всех прятаться и от случая к случаю постель Измайлову греть. Пора обратно в жизнь выбираться.
– Софи! Как ты себе это представляешь? Я понимаю, что у тебя намерения самые лучшие, но… не надо меня утешать. Я поставила крест на всей своей прошлой жизни, и сделала это сознательно. Думаю, что ты понимаешь: мною двигала не только и не столько страсть к Андрею Андреевичу (в отличие от тебя, я человек не слишком страстный), но я просто не смогла больше жить во лжи… Я ни о чем не жалею. Но теперь, после всего, что ж можно изменить?
– Всегда можно, – возразила Софи. – Вспомни, как ты меня вытаскивала, когда я жила любовницей у Туманова, а после – бросила его. Неужели ты думаешь, что я – позабыла, и того же для тебя не сделаю?
– Софи, но это же совсем другое!
– Так мы и делать будем другое.
– Что же? – против воли заинтересовалась Элен. Порывы Софи всегда захватывали окружающих ее людей, как крутящиеся степные смерчи. Элен с детства знала, что противиться этому бесполезно, гораздо проще сделать пару кругов, а потом попытаться отползти.
– Тебе надо чем-то заняться. Чем – вот это и надо сейчас решить. Только не надо опять заводить про детей. Прости, но от этой темы меня, хоть и не беременна, нынче подташнивает…
– Софи, но ты рассуди сама, – окончательно успокоившись по виду, сказала Элен, и старательно, с хрустом обкусала недоеденное прежде яблоко. – Я же никогда ничего не делала, кроме как воспитывала детей и дом вела. Что я умею? В гувернантки идти или в учительницы? Но это – не тоже ли самое? Да и смешно, ведь средства на жизнь у меня есть…
– Нет, это, разумеется, не то, – подтвердила Софи. – Надо что-то другое… Думай, Элен. Что ты еще можешь?
– Да ничего я не могу! – снова начиная расстраиваться, воскликнула Элен. – Как сказала бы Оля Камышева – яркий пример выродившейся аристократии!
– Погоди… погоди… – Софи накрутила на палец локон и задумалась. – Ты ведь достаточно образована, много читала… Что с этим… на первый взгляд – ничего… Что у тебя еще есть? Женский ум теперь никому не нужен, с этим погодить надо… красота… ну, это уж не наш с тобой возраст… вкус… Вот! Элен! У тебя же всегда был безупречный аристократический вкус! К вещам, к одежде, к обстановке, к моде, ко всему… На тебя всегда все наши дамы оглядывались…
– И что же? Ты думаешь, я могла бы стать модисткой? Но ведь я умею только вышивать, а кроме того…
– Нет, я имею в виду кое-что получше! – воскликнула Софи и, притянув к себе Элен, весело поцеловала подругу в пахнущую яблоками щеку.
Ночной снег тихо падал на имение Скавронских, укрывая и сглаживая все без разбору, погружая готовую ко сну землю в мягкую зимнюю прохладу.
Когда наступал момент, за которым желание видеть ее превращалось в физическую боль, Туманов, ведомый не памятью даже, а плотским нутряным чутьем, уверенно шел в ближайшую «казенку» (государственные винные лавки. Продажа водки была царской монополией), каковые, в соответствии с полицейскими правилами, помещались в Петербурге на тихих улицах, вдали от церквей и учебных заведений.
«Казенки» ничуть не изменились со времен его молодости. Над дверью все также висела небольшая зеленая вывеска с двуглавым орлом и надписью «казенная винная лавка». Внутри лавки – перегородка почти до потолка, по грудь человеку деревянная, а выше – проволочная сетка и два окошечка. Два сорта водки – с белой и красной головками. Бутылка водки высшего сорта с белой головкой, очищенная, стоила 60 копеек (именно такую и покупал обычно Туманов), с красной головкой – сорок. Еще продавались бутылки емкостью в четверть ведра – «четверти», в плетеной «щепной» корзине. Половина такой бутылки называлась «сороковка», сотая часть ведра – «сотка», двухсотая – «мерзавчик». С посудой «мерзавчик» стоил шесть копеек: четыре копейки водка и две копейки посуда.
«Сидельцем» в лавке обычно оказывалась офицерская вдова. Она принимала деньги и продавала конверты и почтовые марки, гербовую бумагу и игральные карты. Вино и водку подавал в другом окошечке здоровенный дядька, который мог утихомирить любого буяна. В лавке всегда было тихо, зато рядом на улице царило оживление: стояли подводы, около них – извозчики, любители выпить. Они всегда покупали посудинку с красной головкой – подешевле. Туманов, купив «беленькую», барином выходил к извозчикам и – форсил, внезапно оказываясь одним из них.
Как все сбивал сургуч с головки, легонько ударяя ею об стену. (Вся штукатурка возле дверей «казенки» была в красных кружках). Затем ударом о ладонь виртуозно выбивал пробку, выпивал из горлышка в четыре глотка, закусывал одолженной у извозчиков закуской, или, чаще, покупал у стоящих здесь же баб соленый огурец или горячую картошку. В холода эти бабы были колоритными фигурами: в толстых юбках, они сидели на чугунах с горячей картошкой, заменяя собою термос и одновременно греясь в мороз.
Подозрительно приглядевшись к Туманову, извозчики задавали всегда один и тот же вопрос:
– Так ты что, барин, из наших, что ли, будешь?
– А то! – отвечал Туманов, стараясь выгнать из речи английский акцент. – Отсюдова. Отец мой, Ефим Сазонов, был здеся, в Питере, ломовиком. А я вот – глядите, добрые люди, миллионщиком стал… А щастя – нет как нет…
В этом месте Туманов доставал из-за пазухи ворох разноцветных купюр и начинал без разбору наделять ими собравшихся.
Спектакль обычно прерывал прохаживающийся недалеко от «казенки» городовой…
Софи сдержала свое слово касательно Джонни. Хмурым осенним днем привезла мальчика в Петербург, в условленном заранее месте ходила вдоль лавок, купила приемному сыну лошадку-леденец на палке и позволила сосать прямо на улице. Джонни весь перепачкался, высовывал язык и облизывал толстые пальцы. Софи выглядела красивой и отчужденной, как далекая планета над морем. Туманов смотрел издалека.
Джонни, как многие слабоумные люди, некоторые вещи умел постигать путем внеинтеллектуальным. Обернувшись к Софи, указал пальцем в сторону, где спрятался за водосток Туманов, и, уцепившись за ее юбку липкой ручонкой, спросил:
– Вон там. С бородой. На меня смотрит. Опасно?
– Нет! – твердо сказала Софи. – Я давно знаю этого человека. Он – мой друг. И еще больший друг твоей мамы, Саджун. Он хочет просто посмотреть на тебя.
– Пусть, – поколебавшись, согласился Джонни.
Софи помахала высунувшемуся Туманову рукой. Он подошел, присел на корточки, чтобы поменьше пугать мальчика. Когда смотрел на Джонни, лицо его окутывалось такой болью, что ее хотелось стереть рукой, как налипшую паутину. Софи хотелось провести пальцем по его губам, впавшему виску, скуле… Она молчала и глядела поверх его головы. Туманов дал Джонни какую-то игрушку. Джонни не взял. Софи, не глядя, приняла ее сама и откинулась назад с торопливой и наигранной беззаботностью.
– Пойдем! – Джонни потянул ее за рукав.
Туманов поймал извозчика, сунул ему деньги. Как только они отъехали, начался ливень, какой бывает только во сне или в сказке, совершенно по-собачьи кидающийся на стены. Михаил долго стоял не двигаясь, и струйки воды текли по его некрасивому лицу, теряясь в бороде.
В коляске Джонни сидел молча, потом потеребил Софи за рукав.
– Ты что-то хочешь сказать? – спросила Софи, наклоняясь.
– Кто он мне? – спросил Джонни. – Кто он тебе?
Софи уже начала какой-то вдохновенный жест, собираясь сопроводить им свое убедительное вранье, но прервала его на середине и устало сказала:
– Он – твой отец, Джонни. А я его просто люблю. Но он всегда любил твою мать, запомни.
Джонни помолчал еще, потом вздохнул и неразборчиво пробормотал себе под нос:
– Павлуша правду сказал.
– Что? – удивилась Софи. – Причем тут Павлуша?
– Джонни – сын троглодита! – с комической и печальной торжественностью объявил мальчик.
В которой Мария Симеоновна рассуждает о наследственности, Ефим Шталь пишет письмо, а князь Мещерский беседует с сыном
– Софья, я думаю, ты знаешь, что взгляды у меня самые передовые… – начала Мария Симеоновна.
– Разумеется, без всяких сомнений! – подтвердила Софи, ожидая панегирика какой-нибудь очередной технической новинке или обоснования необходимости иных немедленных денежных вложений в сельское хозяйство.
– Я всех этих родовых предрассудков не разделяю, но мне все-таки хотелось бы поподробнее знать – все эти дети… они из каких сословий? Их родители? Кто из них с кем в родстве… Они такие разные… Стеша – просто чудо, до чего талантлива и спокойна, Милочка в непрерывном слюнявом восторге, и даже Павлуша к ней с уважением… Соня – тоже очень воспитанная, а вот мальчик… Это же важно, в конце концов, откуда они происходят, есть законы наследственности, это и скотоводство подтверждает…
– Хорошо, я объясню, – кивнула Софи, испытывая даже род удовольствия от предстоящего. – Значит, так, слушайте, Мария Симеоновна. Воспитанная Соня – дочка спившегося приискового рабочего, жандармского провокатора к тому же. Мать умерла при ее рождении, поэтому Соня Щукина – круглая сирота. Талантливая Стеша – дочь моей бывшей горничной Веры и беглого каторжника Никанора, которого в конце концов застрелили казаки. Тоже сирота. Ужасный Карпуша – сын Аграфены Боголюбской (она из семьи священников) и егорьевского урядника Загоруева, честного и трезвого служаки. Могу вас утешить тем, что рано или поздно Фаня наверняка заберет мальчика к себе. Красивая пианистка Елизавета и Юрий – родные брат и сестра. Их мать – юродивая еврейка Элайджа, а отец – добрый и честный пьяница, из разбогатевших крестьян. Отец Люды, как вы знаете, мой брат Григорий, мать же – бывшая проститутка из Дома Туманова Лаура… Я удовлетворила ваше любопытство? Или вы хотите еще что-нибудь узнать? Может быть, родословную Баньши? Это ближе к области скотоводства…
– С тобой, Софья, совершенно невозможно разговаривать! – непоследовательно воскликнула Марья Симеоновна и с достоинством удалилась.
Вместо нее появился Петр Николаевич.
– Маман опять пыталась тебя уесть? – спросил он.
– Да так, по мелочи, – помахала рукой Софи. – Еще неизвестно, кто кого уел в результате…
– Я тут принес рецензии на роман Аннет… И, ты знаешь, я давно хотел тебе сказать: мне очень нравится Стеша. Она такая разумная и очень хорошо на Милочку влияет. Милочка стала гораздо спокойней. И Павлуша при ней, представь, старается сдерживаться в своем занудстве! А то, какие штуки эта Стеша в свои восемь лет делает… Я просто в восхищении! Ты видела, как она приспособила эту ужасную Милочкину трубу?
– Нет, еще нет, – ответила Софи. – Но погляжу непременно. А что же рецензии?
– Иным критикам не нравится, вот: «…Наблюдаем расцвет женской прозы. Некоторым женщинам, пусть даже литературно одаренным, следует пощадить читателей и не заливать чужие души своей черной тоской по несложившейся женской доле». Потом еще какой-то критик (раньше он о музыке писал) сравнивает твои романы и ее. Представь, не в твою пользу. «Вместо полифонии, переходящей в какофонию (это у тебя), чистый звук с контрапунктом…»
– Писал бы лучше о музыке! – презрительно фыркнула Софи.
– Не расстраивайся. Это смешно…
– А я и не подумала! Мне, если хочешь, роман Аннет даже понравился… В нем что-то такое вневременное есть, хотя и наивное…
– Ну да! Ты тоже это заметила? Хорошо. Аннет же действительно вне времени живет, ни в чем, кроме своей души, не участвует, ей легко написать так. Но это нужно. Одно из самых больших заблуждений этого мира (результат преклонения перед наукой, техникой, прогрессом): эффективное учение обязательно должно быть истинным. Так вот, я уверен – не обязательно!
– Это сложно для меня, Пьер, – Софи сладко зевнула и потянулась. – Ты видишь так много вещей в одной… Скажи, тебе не надоедает так все крутить: с одной стороны, с другой стороны… Чтобы начать действовать, надо решительно встать на одну из сторон, а другие – отбросить. Иначе не выйдет ничего. Так и будешь сидеть и лапу сосать…
– Но кто-то должен же составить реестр этих самых сторон. Хотя бы для того, чтобы другим было из чего выбрать.
– В этом есть резон. Только знаешь, обидно, что в одном человеке никак совместить нельзя. А так… один, получается, умный, все понимает, но ничего не делает. Другой – дурак, а как начнет действовать, так такого наворотит…
– Обидно, но что ж поделаешь! Если те, кто составляет реестр, не захлебываются от собственного высокомерия, то ситуация, мне кажется, вовсе не безнадежна. К тому же уж давно изобрели книги…
Ефим Шталь, в мышасто-сером халате, взял лист бумаги, подошел к столу, присел и тяжело задумался. Потом долго выбирал перо. Была уже глубокая ночь, ближе к утру. Час быка. За окном прогрохотала по обледеневшей мостовой телега. Ей вслед залаяла собака. «Наверное, повезли товар в зеленную лавку,» – подумал Ефим, прибавил свет в лампе и решительно склонился над листом бумаги.
Дорогой Кока! – писал он. –
(ведь Вы позволили мне так Вас называть).
Должно быть, Вы теперь удивитесь моему посланию, но вот – бессонная ночь, и в голову мне пришла мысль – писать к Вам.
У меня, как Вы, наверное, поняли, нет детей. Моя жена еще менее, чем я, занята энтомологией. Я же хранил коллекции в память моего отца. А сейчас вдруг представил, что после моей смерти… Вы здесь, должно быть, подумали: чего это ему умирать? Он же еще нестарый дядька… Но, милый мой Кока, каждый человек не просто смертен (это бы еще ничего), но, зачастую, – внезапно смертен, вот ведь в чем дело! И после моей смерти эти коллекции станут частью моего наследства, наверняка будут проданы с аукциона и попадут в руки людей, чужих мне при жизни совершенно… Почти сразу после Вашего с любезнейшим Геннадием Владимировичем визита, я подумал: вот передо мною, волею счастливого случая, люди, которые могут понять и оценить. Я близко знал Софи, почему бы мне не завещать коллекции барона Шталь Николаю? На том и порешил было, но вот сейчас пришло в голову: я ведь действительно еще не стар, а увлечение наукой, как и все остальные увлечения (о, милый Кока! Если бы я мог хоть чем-нибудь увлечься так же как Вы и Ваш учитель! Какое это было бы счастье!), особенно остро переживается в молодости… Поэтому я прикинул вот что: я завещаю Вам свои коллекции (в течение моей жизни они будут напоминать мне о покойном отце), а пока придите и выберите себе некоторое количество особо ценных для Вас экземпляров, которые Вы возьмете прямо сейчас и которые смогут украсить Вашу собственную коллекцию. Поверьте, с моей стороны тут нет никакой жертвы, ведь я, увы, все равно не отличаю одного жука или таракана от другого, и совершенно не представляю себе их общего количества.
Приходите не медля, в любое удобное для Вас время, один (теперь Вы знаете, что я для Вас безопасен) или вместе с Геннадием Владимировичем. Буду ждать с нетерпением, так как, знаете ли, приятно иногда ради разнообразия доставлять людям удовольствие…
Посыпав лист песком, чтобы высохли чернила, Ефим положил послание в конверт, и дернул шнурок звонка, безжалостно будя своего камердинера.
Душераздирающе зевая, привычный к прихотям барона Фридрих явился.
Ефим подробно растолковал ему, что следует найти гимназиста четвертого класса пятой казенной гимназии Николая Неплюева и передать письмо лично ему в руки.
– Ночь на дворе, – кивнул за окно камердинер, по виду совершенно не удивившись тому, что барону внезапно, глубокой ночью, понадобилась писать к незнакомому школьнику. – Гимназисты спят еще, десятый сон видят…
– Перехватишь его по дороге в гимназию, передашь, – кивнул Ефим. – Занятия у них, как я помню, ровно в 9 часов начинаются. Ты выйди заранее…
Князь Владимир Павлович видимо нервничал, облизывался и крутил на безыменном пальце перстень с рубином.
Николаша стоял, отвернувшись, и говорил монотонно.
– …Вам бы ничего это не стоило, потому что деньги уж найдены были… А что до самих разработок, и пользы российской, так разве об этом кто помнит. Но и тогда – лучше уж наши, русские, которых, если что, хоть за хвост поймать можно… Теперь я по вашей милости полным дураком перед компаньонами вышел здесь, и в Сибири, как узнал, – таких дров со злости наломал, что еще чудом ноги унес… Право, мой приемный отец, Викентий Савельевич, хоть и огорчал я его немало, а таких номеров со мною не откалывал…
– Иван, Иван, не отчаивайся, я все устрою, – пробормотал Владимир Павлович.
– Устроите? – усмехнулся Николаша. – Как же? Уже было раз… Ксению убили, иных невест у вас для меня не припасено?… Лучше бы, я вижу, мне сразу лишь на себя рассчитывать… А я-то, валенок сибирский, размечтался…
– Иван, ну погоди ты! Я же все-таки – твой отец… Англичане – это политика Кабинета, чтоб иностранный капитал в российскую экономику привлечь… Я-то здесь – что? Но… Я тебя деньгами без всякой женитьбы не оставлю, не думай. И сейчас помогу, и в завещании… После смерти Ксенички у меня ж никого, кроме тебя, и не осталось. А я – старый уже…
– Да не хватит ли мне уже на ваши подачки жить? – словно сам у себя спросил Николаша. – Вон, у самого уж голова седеет… А все – в мальчиках…
– Правильно, хватит! – решительно согласился князь. – Мы теперь по-иному сделаем. Ты уж нынче не тот дурачок, каким из Сибири приехал. Сам уже кое-чего подсобрал, кое с какими людишками сошелся. Я тебе протекции в нужных кругах составлю, денег на обзаведение дам, будешь выходить на международный уровень…
– Как это? – удивился и обрадовался Николаша. Его все еще красивые глаза вновь зажглись надеждой.
В этот момент подававший портвейн слуга отметил, что отец – хитрец, льстец и царедворец, и сын – удивительно похожи между собой.
– Сейчас все объясню, – блеснул глазами князь Мещерский, прочитав, угадав это фамильное сходство в выражении лица старого лакея.
Внезапно он почувствовал удовлетворение оттого, что у него – грешника и содомита – все-таки есть на этой земле сын, и добрым словом помянул мать Николаши, красивую москвичку Евпраксию, лица и статей которой он, хоть убей, нынче уже и не помнил…
(прим. авт. – в дальнейшем Иван подолгу жил в Париже, организовывал там пророссийские публикации в прессе, а заодно собирал сведения об эмигрантах для царской охранки. Был не чужд искусств, встречался с Полем Верленом. Со временем Иван Федорович наладил широкую агентурную сеть и сделался заведующим отделом контрразведки в департаменте полиции. Организовывал провокаторскую деятельность попа Гапона и одновременно сотрудничал с журналом «Былое». В 1906 году за обсчет тайных осведомителей был изгнан из министерства внутренних дел, в 1916 году – восстановлен. Втерся в доверие к всемогущему Распутину, использовал его имя для своих афер. Потом был арестован по обвинению в шантаже и вымогательстве, и освобожден Октябрьской революцией. Однако, с большевиками сработаться не сумел и в 1918 году был расстрелян чекистами).
В которой Кока обретает нежданные богатства, Любочка Златовратская подвергается нападению левреток, а Игнат провидит грядущее злодейство
Николай Неплюев был буквально ошеломлен нежданно свалившимися на него богатствами и, прижимая к груди заветные коробочки, сдавленно бормотал себе под нос что-то на латыни. На русском языке заговаривал только для того, чтобы еще раз поблагодарить барона.
Чай пить отказался, видно было, что ему не терпится уехать, и спокойно, в одиночестве (или в обществе Геннадия Владимировича?) насладится обретенными сокровищами. Ефим не стал задерживать, велел Фридриху тут же сложить все отобранное Кокой в фанерный ящик, проложив его соломой, довезти мальчика в баронской карете до самого дома и помочь донести ящик.
На прощание протянул Коке красиво упакованную плоскую коробочку.
– Николай, у меня к вам будет просьба. Не откажите?
Кока, не находя слов, тряхнул стриженной макушкой и щелкнул каблуками, что означало: «Приказывайте!»
– Просьба пустая, но для меня важная. Мы с Софьей Павловной давно не сообщались, но… но я по случаю хочу вот передать ей коробочку конфет. Грильяж, как я помню – ее любимые, – Кока закивал. Он тоже знал, что тетя Софи любит именно эти конфеты. – Я вас прошу, как свидитесь, передайте ей от меня и скажите… Вы запомните, Кока? Скажите так: Ефим, мол, Шталь, просил зла на него не держать и, если случится, передать привет брату моему Михаилу. Они, я знаю, накоротке, так, может, вместе этими конфектами и полакомятся… Запомнили?
– Да. Зла не держать. Привет брату. Конфекты съесть вместе, – отрапортовал Николай.
– Совершенно верно. Какая чудесная у вас память! – польстил мальчику Ефим. – И наукой нешуточно увлечены… Прямо бездна достоинств для такого юного господина…
Кока промолчал, но закраснелся от смущения, как девочка.
– Софи, вы знаете, я ничего более понять не могу… Вот, приехала без объявления, простите. Подумала, может, вы мне совет сможете дать…
– Проходите, проходите, Любочка! – Софи выглядела нешуточно удивленной.
Путь от Петербурга до Люблино весьма неблизкий, и важное же должно быть дело, чтобы на него зимою решиться. Просто так, поболтать да повечерять, не поедешь. Сама-то Софи то и дело ездила туда-сюда, но у нее здесь – дети, а в Петербурге – фабрики, магазины, да издательство. Ни то, ни другое надолго без призору не бросишь.
– Садитесь поближе к печи. Сейчас чаю подадут, обогреетесь с дороги… Может быть, вам, Любочка, лучше сперва прилечь, отдохнуть?
– Нет, нет, Софи! Я говорить приехала, лежать я и дома могу… Хотя… есть ли у меня теперь дом?
– Что случилось, Любочка? – видя взвинченное состояние гостьи, Софи решила более не пытаться ее успокоить, а сразу взять быка за рога.
– Николаша меня бросил! – объявила женщина.
– Ну и слава Господу! – мгновенно отреагировала Софи. – Отвязались наконец-то!.. Теперь вам надо о дальнейшей своей жизни подумать, работу отыскать… А может, обратно – в Сибирь? Не хотите? Тогда… вот если, пока Ирен непонятно где, к Лидии в компаньонки, учительницей, а?
– Софи! – взвизгнула Любочка. – Вы что, не понимаете: он! меня! бросил! Получается, что всё… Все эти годы были попросту не нужны, напрасны… Вся моя жизнь…
– Вот глупость-то какая, – сказала Софи. – Николаша – мерзавец, это я знаю верно, но вы-то ведь его взаправду любили, не притворялись ни капли. Отчего же – напрасно, если в любви?
– Вы… – задохнулась Любочка. – Вы просто не понимаете ничего!
– А вы расскажите подробней, я попытаюсь…
– Его отец, князь Мещерский, хотел его на Ксении женить, а потом им на двоих наследство оставить…
– Вот как? – удивилась Софи. – Это – новость, это мне обдумать надо. В свете дальнейшей ксениной судьбы…
– Я от самой Ксении узнала, когда она еще жива была. В кружке у Дасы. Она, представьте, со мною советовалась, жаловалась, что мужчины ее всегда обманывали. Я ее, конечно, и тут отговаривать стала: мол, Иван – человек скользкий, вам вовсе ненужный… Все ждала, когда Николаша сам обмолвится. Он же – ни полсловечка.
А потом… Потом Ксению убили, а он стал меня избегать. Приходил реже, старался на ночь не остаться… Я думала… В общем-то, я ничего не думала, но все ждала, когда это у него пройдет… Но оно не проходило…
После он уехал в Сибирь, а когда вернулся, заявил, что между нами все кончено, и он не хочет меня больше знать… Денег, естественно, у меня тоже никаких нет. Я заложила два колечка и браслет, заплатила за квартиру за месяц и за дрова, но…
Софи! Я ничего не понимаю! В чем я перед ним провинилась, если все эти годы любила его верно и предано, готова была простить… прощала ему такое, чего, быть может, и простить-то нельзя?
Вы говорите: наплюй и живи дальше. Но как же мне жить, если я так и не смогла уразуметь: за что меня выбросили, как слепого кутенка на помойку? Мне ведь надобно это знать, чтобы дальше идти, вы согласны?
И это еще не все…
Намедни явился ко мне Василий Полушкин, вы с ним недавно, в Сибири встречались. Я-то его едва узнала. И этот: то ли безумен, то ли что! Талдычит все вперемешку: о своих чувствах ко мне, о каких-то открытых лекциях по микробиологии, о том, что Николаша в Сибири кого-то пытал каленым железом (вот уж во что поверить нельзя!)…
На этом месте рассказа Софи вздрогнула и зажмурилась, но Любочка, увлеченная своим, ничего не заметила.
– Говорит, что я должна теперь чего-то решить. А что мне решать? Василий – чужой мне, и всегда был чужой. Николашу я потеряла, но в чем моя вина – не пойму…
– Люба… – осторожно сказала Софи. – Все это действительно очень запутано получается, но… Может быть, ну их, этих Полушкиных, совсем?…
– Софи, но как же мне дальше поступать, если я…
Договорить Любочке не удалось. В нижнюю гостиную, в которой расположились женщины, боком протиснулся Джонни в сопровождении всей стаи: Радха сидела у него на плече, Кришна – на руках, ливретки и трехногий песик бежали сзади. После всех в проеме показалась огромная голова Баньши.
Любочка с немым изумлением смотрела на дауненка. Ей явно никогда не доводилось видеть ничего подобного.
– Мама Софи! – обратился Джонни. – Милочка и Стеша тебя зовут. Стеша мотор сделала. И теперь они его держат, чтобы он не убежал…
– Видишь ли, Джонни, я сейчас разговариваю и…
Ничего более сказать Софи не успела. Констанция и Эсмеральда с каким-то смертельно-отчаянным воем дружно бросились на Любочку и, прежде, чем кто-либо успел что-либо предпринять, вцепились ей одна в правую, а другая – в левую икру.
Любочка завизжала от боли и попыталась отцепить от своих ног внезапно сбесившихся собачонок. Ей удалось пинком отшвырнуть Констанцию, но левретка, ожесточенно рыча, тут же снова напала на женщину и принялась рвать подол. На юбке показалось пятно крови.
– Конса! Мерка! Назад! – крикнул Джонни, а потом, неуклюже ковыляя, нагнулся и попытался оттащить сразу обеих левреток за хвосты. Констанция обернулась и огрызнулась на Джонни.
В дело вмешалась Софи. Она схватила обеих собачонок за загривки, подняла в воздух и вместе с куском оборки оторвала их от Любочки. Окровавленные, вытянутые морды собачьих старух были страшны просто невероятно. Джонни заплакал. Кришна зашипел и выгнул спину. Радха захлопала крыльями и издала противный, трескучий крик.
Софи прошагала по коридору, неся собачонок на вытянутых руках, пинком отворила дверь в кладовку и зашвырнула их туда.
– Остыньте, дряни! – сказала она левреткам, запирая дверь на задвижку.
Кто-то, кажется Эсмеральда, тоскливо завыл за дверью.
– Слушай, Любочка, ну я просто не знаю, что это на них нашло! – воскликнула Софи, возвращаясь в комнату.
Джонни и прочие животные уже тихо испарились. Осталась только Баньши, которая деловито зализывала своим огромным языком ранки на ногах Любочки. Любочка сидела, подняв юбку, всхлипывала и свободной рукой чесала за ушами собаки.
– Вообще-то они мирные, добродушные и трусливые…
– Да, я вижу! – Любочка кивнула вниз. – Господи! А эта-то как на собаку Матвея Александровича похожа…
– Это ее внучка, – объяснила Софи. – Зовут – тоже Баньши.
– А… так вы ее из Егорьевска привезли… А этот мальчик?…
– Сын моей умершей подруги и того человека, которого Николаша пытал каленым железом, – деловито сообщила Софи. – Он болен болезнью Дауна. Я его усыновила.
Любочка несколько раз молча открыла и закрыла рот.
Ее собственные несчастья встали в общий жизненный ряд. Чего, собственно, и добивалась Софи.
– Сейчас, когда Баньши тебя долижет, я покажу тебе твою комнату. Ты вымоешься и поспишь. А завтра – посмотрим… Утро, говорят, вечера мудренее… А мне надо еще Стешин мотор поглядеть, пока он там все не разнес к чертовой матери. Кто его знает, что будет, когда они его держать перестанут…
– Ты, Ольга Васильевна, меня уж за бесноватого-то не сочти, а только… Подружка-то та тебе дорога? Ну, которая Софья Павловна… тогда, давно, с Тумановым, с игорным домом, а нынче – с братом в Сибири…
– Ну разумеется, Игнат! Что за странности? – Оля оторвала глаза от толстой книги, которую читала, надев на нос очки с толстыми стеклами.
Лампа нещадно чадила, но Оля, кажется, не замечала этого. Игнат прошел вперед, осторожно снял горячее стекло, протер его обрывком газеты, отрегулировал фитиль.
– Так что там с Софи? Говори толком!
– У нас во дворе, сама знаешь, есть маленький аптекарский магазинчик. Его еврей Менакес держит. При еврее приказчик и фармацевт – Яков. Мутный тип, выкрест, всегда на безденежье жалуется (якобы Менакес скуп и ему жалованье зажимает), а сам носит брегет серебряный, на праздники – сюртук хорошей шерсти, на лихаче по ночам откуда-то приезжает… В общем, третьего дня вышел я к сарайчику махры покурить, стал в тени, и вдруг вижу: Яков с каким-то господином оч-чень приличного вида лясы точит. Я прислушался и… как-то нехорошо мне стало… Яков, значит, что-то ему такое плоское, вроде коробочки, передал, а тот и спрашивает:
– А верное ли дело?
– Верное, верное…
– А не заподозрят ли чего?
– Никто ничего не заподозрит, я ж вам сказал! – Яков вроде даже как обиделся. – Через две-три недели, как покушают, кровотечение откроется и… все… Доктора на язву будут говорить…
– А сколько ж съесть надо?
– Ну, одной и даже двух штук маловато будет. Вот если штук пять-шесть, тогда наверняка.
– Это то, что мне и хотелось… Вот тебе…
Тут деньги зашуршали, а потом Яков ушел восвояси. Я выглянул, луна хорошо светила, а он, значит, господин-то этот, стоит, грудью на заборчик навалившись, словно обессилел вмиг (ну, ты понимаешь, душегубство задумав, любой обессилит), и вдруг заскрипел зубами и говорит тихо, но отчетливо так, я каждое слово разобрал: «Ну все, Софи Домогатская, конец тебе. А если мне хоть раз в жизни повезет, так и тебе, братец мой, тоже…» Тут мне показалось, что я его уж где-то раньше видал, хотел приглядеться, но он, как на грех, отвернулся и пошел. Шатался, как будто пьяный, и рукой за забор, пока можно, придерживался. Где-то рядом его карета ждала, я слышал, как дверь скрипнула и копыта застучали…
Оля отложила книгу и поднялась, с тревогой глядя на Игната.
– Наверное, я должна теперь же Софи предупредить, – сказала она. – Только о чем? Что же, ты думаешь, у него было-то?
– Ну, раз говорили про еду, значит – съедобное, – логически рассудил Игнат. – В коробке что ж может быть? Пирожные или конфекты…
– Хорошо, – кивнула Оля. – Спасибо тебе, Игнат. Софи, конечно, очень беспечна, но все же, я думаю – прислушается… Но только вот важный вопрос: кому ж она так-то помешала, что он ее прямо отравить задумал? Ведь если сейчас ему всю игру сбить, так он же, поди, на том не остановится…
На квартире у Софи не было никого, кроме горничной Фроси. Фрося терла круглые щеки и смотрела на Олю с непонятным испугом.
– Когда будет Софи? – допытывалась Оля.
– Не могу знать, – почему-то по-военному отвечала горничная.
– А Петр Николаевич?
– Петр Николаевич в Люблино отъехали. Намеднись и убыли по делам управы.
– А Софи с ним?
– Не могу знать.
Помурыжив таким образом Фросю минут пять, Оля отступилась и села писать письмо:
«Дорогая Софи! Есть обстоятельства, которые указывают на то, что тебе угрожает опасность. Причины и источник указать не могу, так как сама ничего толком не знаю. Приезжай ко мне на Рождественскую, поговорим подробнее. То той поры, прошу тебя, из своей безопасности не ешь конфет и вообще ничего сладкого.
Фрося обещалась передать Софи письмо сразу, как только та появится в квартире.
В которой Софи встречается с Дуней Сазоновой и вместе с ней пытается отыскать Ирен. В это же время в Люблино приходит от Ирен письмо
– Господи, глупость какая! – воскликнула Софи, прочитав Олино письмо и обескуражено взглянув на Фросю. – Не ешь конфет… Бедная Камышева, должно быть, окончательно рехнулась на почве своей конспирации и подпольной деятельности… Как она смотрелась?
– Сердитая такая барыня, – подумав, сказала Фрося. – Не в теле совсем. Глаза… ну, как будто бы и вправду за вас боялась…
– Мания! – окончательно решила Софи. – Но ехать все одно придется. Хотя и устала, как собака. Может, помочь чем… Ну, там разберемся, на месте…
В санях, пока ехали на улицу Рождественскую, где Оля Камышева жила вместе с Матреной Агафоновой, Софи задремала и отморозила правую щеку, в которую дуло. Пока поднималась наверх, оттирала рукой в рукавичке, но щека все немела и не хотела отходить.
В прихожей было полутемно, отворившая дверь девка лузгала семечки. На стуле сидел еще кто-то, почти не видный, в валенках, и насвистывал «Марсельезу». Софи поморщилась. «Неужели у Оли с Матреной как раз сейчас очередное сборище товарищей? – подумала она. – Вот некстати… Но с чего же тогда она ко мне потащилась? Вроде занята должна быть… Неужто и вправду?…»
Оля вышла сама, сухо, за руку поздоровалась с Софи. Софи, однако, заметила, как при виде ее умные синие глаза Камышевой блеснули радостью и облегчением. Безумия в этих глазах было не больше, чем в самой Софи.
– Ты пришла? Вот хорошо, – быстро сказала Оля. – Проходи. Там, у нас… я должна тебе сказать…
Софи, не слушая ее, шагнула в просторную, с низкими потолками комнату, в которой причудливыми клубами плавал табачный дым. Прямо из этого дыма, как в сказках, навстречу ей материализовалась невысокая, плотная женщина со спокойными чертами лица и гладкой прической.
– Здравствуйте, Софи!
Некоторое время Софи смотрела, прищурившись, потом радостно и удивленно воскликнула:
– Дуня! Ты! Черт возьми! Здорово! Какими судьбами?!
Когда-то, много лет назад, Софи сыграла в жизни Дуни Водовозовой роль Пигмалиона. Потом они были подругами. После Дуня уехала за границу вместе со студентом-естественником Семеном, чтобы там учиться математике, к которой у нее был талант. Софи тогда прочила Дуне славу второй Софьи Ковалевской.
– А где Семен? Он тоже здесь?
– Семен живет в Германии, занимается своим магнетизмом и еще гомеопатией, – ответила Дуня.
– Как это здорово… – рассеянно повторила Софи, не совсем зная, что говорить дальше. Когда не видишь человека много лет, всегда трудно сообразить, как построить начало разговора. Вроде бы и о многом нужно спросить, а вроде – и не о чем.
Дуня спокойно ждала, улыбаясь и с явным удовольствием рассматривая Софи.
Оля и подошедшая Матрена оглядывали бывших подруг с какой-то странной, не укрывшейся от внимания Софи настороженностью. Впрочем, она сразу же приписала ее Олиному письму и содержащейся в нем тревожной загадке.
– Я сейчас расскажу тебе, – вмешалась в ситуацию Оля. – А потом ты с Дуней вволю потолкуешь…
– Да, конечно, – тут же согласилась Дуня. – Оля уже рассказала мне. Это какая-то странная и тревожная вещь… Впрочем, – Дуня сдержанно улыбнулась. – Как я помню тебя, Софи, вокруг тебя всегда так…
– Да, я, разумеется, совершенно не изменилась, – кивнула Софи, неожиданно услышала в своем голосе что-то вроде вызова и несказанно тому удивилась. Откуда? С чего?
Оля была краткой, да на долгий рассказ у нее и информации не имелось.
– Чушь какая-то! – пожала плечами Софи, выслушав все до конца. – Кто-то хочет отравить меня пирожными? Но это же смешно! К чему такие сложности? И ненадежно к тому же… Если надо убить (кому и зачем?), то почему бы просто не нанять человека и не пристукнуть меня в глухом переулке? Все знают, что я езжу одна и повсюду… Наверное, Игнат просто что-то перепутал с усталости. Или ему показалось… Как хочешь, Оля, но я в такую ерунду просто не верю…
– Твоя воля, – сухо заметила Камышева. – Но обещай мне, во всяком случае, покудова сладкого из коробок не есть…
– Хорошо, хорошо, для твоего спокойствия не буду, – усмехнулась Софи. – Да я и не особенно все это люблю. Скорее – пироги, рогалики с помадкой. А из конфет – только если грильяж…
С Дуней устроились в уголку. Мимо ходили какие-то люди, спорили на ходу о чем-то социал-демократическом, курили, пили чай и, кажется, неплохо проводили время.
– На нынешнем этапе борьбы революционер обязан…
– Машинное производство душит кустаря, происходит его маргинализация, а, следовательно, отход к пролетариату…
– Декаданс – это просто отрыжка умирающего больного. В ней по происхождению не может быть ничего красивого…
– Приветствовать развитие капитализма в России, как слепую экономическую необходимость, это значит…
– Желание страдания и жертвы…
– С чистенькими ручками революции делать нельзя…
– Кругом так много насущного дела и мало работников. А вы все гоняетесь за миражами…
– Безвременье и последовавшее за ним глубокое одичание…
– В результате обезземеливания крестьян выступил на сцену новый, глубоко революционный класс…
Иногда, когда разгорался спор, голоса возвышались, как прибой, и снова опадали. Кто-то непрерывно перелистывал разложенные повсюду книги и брошюры, ища нужную цитату или подтверждения своим словам. Казалось, что в комнате, как в березовой роще, слабо шумел теплый ветер.
– Ты нынче занимаешься ли своей математикой?
– Понемногу… меньше, чем хотелось бы, наверное…
– Живешь, значит, в Англии? А сюда, к нам, – надолго ли?
– Не знаю еще.
– Матушка твоя, Мария Спиридоновна… Мне так жаль…
– Я знаю, она умерла. И домик наш на Петровской стороне снесли. Я ездила туда, там теперь доходный дом построили.
– Я… я все-таки рада тому случаю с этими дурацкими конфетами, что мы с тобою повидались… Но отчего ты раньше ко мне не зашла? Оля с Матреной знают мой адрес…
– Да я-то ведь не знала, захочешь ли ты меня видеть, говорить?
– Да что такое! – возмущенно воскликнула Софи. – Я не захочу говорить с тобою?! Как это может стать? Да я бы только прослышала, что Дуня Водовозова приехала…
– Я больше не Водовозова, – тихо сказала Дуня.
– Да, да, конечно, – кивнула Софи. – Ты замужем, у тебя дочка, ты говорила. Кто он? Англичанин? Как тебя теперь называть: миссис…?
– Я – Сазонова. Евдокия Сазонофф, если на английский манер.
– Что? – Софи, не очень понимая, что делает, поднялась со стула.
Дуня смотрела на нее.
Прибой голосов в комнате опал в последний раз и исчез, словно уши внезапно заложили ватой.
С юга дул теплый, сухой ветер. Голые ветки деревьев, кустов, все было мокро, черно, сияло под солнцем. Прачка развешивала на веревках сверкающее белизною белье. Оно сразу же схватывалось ледяной коркой, твердело, а после – таяло. Воробьи чирикали отчаянно, как будто бы не декабрь – весна.
Письмо лежало на подносе, на зимней веранде, и было адресовано Софи.
Софья Павловна находилась в городе, Петр Николаевич уехал по делам управы, а на обратном пути собирался дня два погостить в имении у старинного, еще университетского приятеля.
Милочка молча тянула Соню за рукав, привела на веранду, указала пальцем на письмо. Джонни тащился следом, глядел непонимающе.
– Что же тут? – спросила Соня, взяла розоватый прямоугольник, осмотрела со всех сторон. – Адресовано Софье Павловне…
– Почерк… – таинственно прошептала Милочка.
– Что – почерк? – не поняла Соня.
– Это почерк тети Ирен, той самой, которая пропала! Я его наверняка знаю, потому что она мне упражнения в тетрадь писала. Она же учительница…
– Вот что… но как? Что ж теперь? – взволновалась Соня. – Что ж нам делать? И папы твоего нет…
– Я думаю, надо вскрыть и прочесть, – сказала Милочка. – Вдруг ей срочно помощь нужна. Тогда мы туда поедем.
– А что ж мы сможем? – с сомнением, как равную, спросила Милочку Соня.
– Ну, придумаем что-нибудь… – Милочка неопределенно помахала ладошкой. – Мы же еще и не знаем, что там. Может быть, она просто о себе сообщает…
– Ну ладно, пожалуй, ты и права, – подумав еще, сказала Соня. – Греха тут не будет. Вдруг и вправду в письме что-нибудь срочное…
Соня осторожно вскрыла письмо. Джонни выглянул из-под ее локтя, заглянул в листок.
– Читай вслух, – потребовала Милочка.
«Софи, дорогая!
Со мною все в порядке, как быть может. Пишу, впрочем, не затем, а чтобы предупредить тебя. Не знаю, не знаю, но чувствую, – ты ведаешь, как у меня все неопределенно устроено. Проклятое устройство мое – и знать наверное не дает и покою тоже. Что-то тебе грозит, сестра, а что – разобрать не могу. Остерегайся тех, кого собаки не любят, и сладкого не ешь – вот все, что могу сказать… Верь мне, если еще с тобою что случится – я этого не переживу.
Засим остаюсь любящая тебя неизменно Ирен»
– Ой, Сонечка! – Милочка побледнела и прижала ладони к щекам. Большие глаза наполнились слезами. Сразу стало видно, что она еще совсем мала. – Что же это все значит?! Мне… мне страшно! Мамочка… Маме грозит что-то? Я боюсь…
– Непонятно… – пробормотала Соня. – Что эта Ирен имеет в виду? Собаки, сладкое…
– Тетя Ирен с детства чувствует такое, чего знать не может, – объяснила Милочка. – У меня это тоже есть… немножко…
– И что же ты сейчас чувствуешь по этому поводу? – деловито спросила Соня.
– Ничего… – прислушавшись к себе, обескуражено пробормотала Милочка. – Мне страшно…
– Я знаю, – неожиданно вступил в разговор Джонни.
– Что ты знаешь? – обернулись к нему Соня с Милочкой.
– Не любят собаки – это та тетя, которая намедни приезжала. Конса и Мерка бросились на нее и кусали.
– Да что ты говоришь! – удивилась Соня. – Ваши левретки ведь вовсе не кусаются.
– А ее кусали! – упрямо повторил Джонни. – Я видел, кровь была.
– А Пушок из кухни, Баньши? – спросила Милочка.
– Нет, те – хорошо, – ответил дауненок. – Баньши она потом гладила.
– Так, хорошо, – сказала Соня, стараясь сообразить, как бы на ее месте стал рассуждать сильный в логике Матюша. – Предположим, что Ирен предупреждает Софи против той женщины, которую покусали левретки. Но какая ж в ней опасность? Я так поняла, что они с Софьей Павловной сто лет знакомы… И почему Констанция с Эсмеральдой на нее бросились? Тоже что-то почуяли? Но тогда остальные собаки тоже должны были… Может быть, они знали ее раньше? Но откуда?… Констанция с Эсмеральдой раньше жили у той барыни, которую убили, и… Ой… Ой, мамочки! – совершенно по-детски воскликнула Соня.
– Сонечка, что? – испуганно спросила Милочка и в этот же миг сама догадалась. Глаза у нее сделались такими же огромными, какие случались у матери в минуты потрясений. – Я поняла. Они бросились на нее потому, что она убила их хозяйку!
Дуня и Софи ехали в санях, запряженных двумя каурыми лошадками. Трактиры, извозчичьи дворы, лавки, застава… Потом почти сразу же начался лес – заснеженный и как будто присевший. Женщины разговаривали спокойно, только слова стекали с губ слегка медленнее, чем в обычном разговоре. Так оса перебирает ногами, попав в блюдечко с сиропом.
– Что ж, Дуня, как тебе с ним жилось? Все эти годы…
– Он оправдал все мои ожидания. Даже больше.
– А как же… Как же то, что он не любил тебя?
Дуня пожала плечами.
– Ну что ж с того, если и так? Я ведь не знаю, чего лишилась. О чем жалеть? Зачем портить жизнь себе и ему? Того, что есть, мне вполне достаточно.
– А как ты сумела его разыскать?
– Я знала, что он жив… Всегда… И то, что рано или поздно мы встретимся. Вот мы и встретились…
– В Александрии, я знаю… – сказала Софи и тут же едва не прикусила себе язык.
– Он рассказал тебе… – казалось, Дуня вовсе не была удивлена. – Хорошо, что ты знаешь.
– Но я не знала, что это – ты…
– Что ж, все сложилось так, как сложилось…
– Когда вы уезжаете обратно, в Англию?
– Михаил сказал, что скоро.
– Как зовут вашу дочь?
– Ангелиной, если на русский лад. Я предлагала назвать ее Софией, но он сказал – не надо.
Софи на мгновение прикрыла глаза, внезапно догадавшись, какого именно ангела призывал Михаил в зимовье, в лихорадочном бреду. Потом перевела разговор.
– Как тебе показались Оля, Матрена, прочие? Ты ведь много лет не видела…
– Они не изменились почти. Это удивительно. Время обычной человеческой жизни течет мимо них, а они как будто бы призваны к чему-то и не меняются, как статуи на фронтоне… Я все думала: кто их призвал?
– Да, я тоже много думала об этом, не столько об Оле, конечно, но потому что Гриша… Они же все атеисты и, значит, не верят в воздаяние за совершенные дела… Какая безумная, превосходящая всяческое воображение жертва: отдать свою единственную и окончательную жизнь не ради своего блаженства или спасения в вечной жизни, а ради спасения грядущих масс людей, которых они никогда не увидят, и которые о них в своем коммунистическом счастье даже и не вспомнят…
Это какой-то совсем новый завет человека с миром. Следующий – после Ветхого и Нового… А что страшноватенько об этом завете думать… Так что ж… Два предыдущих тоже были не очень-то миролюбивы и дружелюбны при своем введении и утверждении в человеческой жизни…
– Да, все это очень странно… – согласилась Дуня, собираясь продолжить обсуждение, но Софи уже высказалась и снова круто развернула разговор, возвращаясь к цели их поездки.
– Ты уверена, Дуня? Ну вот, что мы туда едем…
– Очень высокая вероятность, – подумав, сказала миссис Сазонофф.
После того, как первая неловкость минула (Софи под бдительным взором Оли Камышевой сумела быстро взять себя в руки, а Дуня, кажется, и не теряла ровного расположения духа), практичная Софи решила обернуть нежданную встречу хотя бы на пользу нерешенному делу, а заодно и отвлечься от пустых переживаний.
– Дуня, ты всегда хорошо считала. Просчитай мне, у меня сестра пропала, а я никак разобраться не могу.
– Давай вводные, – невозмутимо предложила Дуня.
«Полно, человек ли она вообще? – подумала Софи. – Или так притворяться умеет? Я-то со стороны, небось, тоже…»
Выслушав всю историю, Дуня попросила у Оли бумаги, достала карандаш и стала быстро рисовать какие-то таблицы, заполняя их непонятными для Софи значками. Софи сразу вспомнила Шурочку с его бумажками и денежками и преисполнилась неясных надежд.
– Скорее всего Ирен у Константина, – сказала Дуня некоторое время спустя. – Вопрос в том, где он ее прячет столько времени… В городской квартире это невозможно, съемная квартира тоже исключается, ведь он должен регулярно ее навещать, и тогда те или тот, от кого они, предположительно, скрываются, легко выследят… Но я вот что подумала: помнишь, когда Ефим украл тебя, он держал тебя в старом имении Ряжских. Что, если…
– Точно! – Софи хлопнула себя ладонью по лбу. – И как это я раньше не подумала! Нет, Дуня, у тебя все-таки действительно талант… Я еду туда немедленно, потому что просто не усну дома, пока…
– Я поеду с тобой, – улыбнулась Дуня. – Должна же я отвечать за результаты своих расчетов. А по пути у нас вполне хватит времени поговорить…
Поговорили. Жалко только, что оказалось, в сущности, – не о чем.
Не женщины, а два образца сдержанности и здравого смысла. В будущем, когда научно-технический прогресс все захватит, наверное, все будут такие. Прохладные, как компресс. Как, собственно, Туманов с нею живет?… Ну, вот так и живет – как с компрессом. Не лишено, должно быть, приятности. «Моя жена превыше всего ценит покой и возможность заниматься любимым делом», – вспомнила Софи. И как это она раньше-то не догадалась? Могла бы, вполне могла…
Впрочем, они скоро уедут в Англию. И слава Богу.
Свет месяца передвинулся с валика турецкого дивана на паркет. Месяц ходил в голых ветвях лип. Светлели огромные окна. Где-то ветер скрипел неплотно прикрытой ставней. За шифоньером вежливо и отрывисто прошуршала мышь.
Софи и Дуня устало сидели в темной гостиной, куда довольно ловко, подставив ящик и подсадив друг друга, проникли через неплотно прикрытое окно кладовки.
В старом доме никого не оказалось.
Вместе с тем было очевидно, что он не стоит окончательно заброшенный. Следы на снегу, две, по крайней мере, жилые комнаты, самый запах помещений говорил о том, что вот только что здесь кто-то был, топил печь, сидел в потертых креслах, ел картошку с хлебом и солью и пил чай из старого фарфора.
– Есть охота, – жалобно сказала Софи.
– Едем, – предложила Дуня и подытожила. – Просчиталась.
– Нет! – горячо возразила Софи. – Они тут были, я чувствую. Только вот уехали. Куда? Ирен ведь, ты знаешь, она нас и почуять могла…
– Отчего же ей от вас всех бегать?
– Я и подумать боюсь…
– Едем же… – настаивала Дуня и, еще помолчав, спросила. – У Ангелины часто уши болят, и течет. Доктора капли выписывают – не помогает. Ты чем своих лечила?
– Попробуй печеную луковицу приложить и платком шерстяным замотать, – посоветовала Софи и встала, решительно толкнувшись предплечьями от ручек кресла.
Стеклянная дверь террасы жалобно звякнула, и ей в ответ слабо, болезненно зазвенела струна в старом, расстроенном рояле. За окном, испуганно, как живая, билась темная ветка. В щелку рамы раздался злобный, шипящий свист.
– Едем, Дуня, – сказала Софи. – Иначе я прямо сейчас с ума сойду.
В которой Ефим едет на квартиру к Коке, Софи мечтает об отдыхе, а Город оказывает покровительство Соне Щукиной
Ефим проснулся сразу, словно от толчка. Что-то легкое пронеслось за окнами, из рукомойника капнула капля. Далеко и глухо гудел ветвями голый сад.
Ефим сел на кровати. Что его разбудило? Обычно он спал хорошо, снов не видел. Кока! Представил его себе так, как будто собирался сейчас рисовать. Недавно вытянувшийся, блеклый, с нездоровой худобой и пытливыми глазами. Живет на съемной квартире с пансионом. Вряд ли родители дают ему много денег на сладости… Стало быть… Ефим словно наяву увидел, как Кока с вожделением смотрит на красивую коробочку с конфетами, стоящую на покрытом клеенкой столе, потом решается, говорит себе: «Тетя Софи незлая, она точно простит, что я ее конфеты съел… А привет от барона я обязательно передам…» Облизываясь и предвкушая, разрезает ножницами золотистую веревочку… А потом… через две недели у мальчика начинается кишечное кровотечение, и в предсмертном бреду он видит огромных бабочек и жуков из коллекции старого барона Шталь… Геннадий Владимирович будет плакать на похоронах любимого ученика мутными старческими слезами…
Барон вскочил с кровати и со злобой отшвырнул ногой подвернувшуюся скамеечку. За окнами снова что-то с шумом пронеслось мимо. Взволновалась занавеска. В угрюмой темноте вспыхивали синие искры.
Ефим потянул шнурок звонка.
Фридрих подробно и довольно толково объяснил, как доехать до дома, в котором живет Николай и как отыскать квартиру.
В конце все-таки не выдержал и, почесывая шею, пробормотал:
– И что это вас, барин, в последнее время по ночам на гимназистов тянет?
Ефим развернулся и от души закатал Фридриху оплеуху. Камердинер молча отлетел в сторону дивана, и как-то ловко присел, облокотившись на шелковую обивку.
Заспанный дворник удовлетворился ассигнацией и уверениями Ефима, что даже если он, барон Шталь, вор, душегуб или еще что похуже, так дворник его приметы и карету хорошо запомнил и всегда сможет полиции описать.
По лестнице Ефим бежал бегом.
Дверь, как и должно в полуночный час, долго не открывали. Ефим приготовился много объяснять, может, даже упрашивать, но двое, согласно открывшие-таки дверь, стояли на пороге, молча смотрели и ничего не спрашивали. Девушка держала в руке лампу. Свет отражался в ее удивительных волосах многими переливающимися огоньками. Юноша был темнее и, хотя находился прямо рядом с сестрой (их родство нельзя было не угадать) и лампой, казался стоящим в тени.
– Простите меня, – Ефим чувствовал, как у него нервически вздрагивают губы и кончики пальцев. – Неужели я квартирой ошибся? Мне очень нужно Николая Неплюева видеть, мальчика-гимназиста…
– Он здесь… здесь живет, – сказал юноша.
– А можно мне?… Я все объясню…
– Вам его видеть нельзя, – вступила в разговор девушка. – Его тут нет. Он заболел.
– Заболел?! – Ефим, которому только что было жарко, затрясся в ледяном ознобе. – Чем? Когда?
– Да третьего дня, – припомнил юноша. – Мы не знаем, чем. Доктор сказал, что нужен покой, и лекарство прописал, вот мы его в имение отправили. Нас-то нету дома целыми днями, мы за ним присмотреть не можем. А в имении – мать, родные…
– А вы, простите, кто Николаю будете? – с трудом ворочая языком, спросил Ефим.
– Мы – не родные ему. Из Сибири сами, – объяснил юноша, и Ефим сразу разгадал странный акцент в его речи. – Софья Павловна нам покровительство оказала. Елизавета уроки в Консерватории берет. А я – в коммерческом училище… Нас здесь поселили, потому что так проще – и нам, и Николаю, и его родным. У него отец болен тяжело, мать при нем, они в городе не могут. Жаль, что и он нынче заболел… А вы…?
– Я… у меня к нему дело… из энтомологии… простите… Так, говорите, в имение? – Ефим неловко поклонился и выбежал вон.
Лисенок и Волчонок, согласно двигаясь, вышли на лестницу и проводили его глазами.
– Что такое «энтомология»? – спросила Лисенок.
– Кажется, про насекомых, – ответил ей брат. – Кока их собирает…
– Ночью? – спросила девушка.
– Гм-м…
Вернулись назад, в бестолково и беспорядочно убранную комнату. Елизавета села, открыла крышку пианино, сбросив тапки, нащупала голыми пальцами холодные педали.
– Ночь, сестра… – напомнил Волчонок.
– Да, – рассеянно согласилась Елизавета. – В нем так много всего… Ты заметил – он весь в сером? Как будто бы избегает белого и черного?
– Не заметил, но ты права. Он избегал всего. Но теперь… Мне тревожно за Коку…
– Да… Сразу две противоположных решимости в одном человеке… Это… красиво… Я не умею сказать словами, но я, наверное, могла бы с ним…
– Твоя судьба – музыка.
– Да…. Может быть, это оттого, что сейчас ночь. Ветер, шум, музыка… Мне показалось, что в нем есть что-то сверхъестественное… – Лисенок нажала на педаль и медленно взяла несколько аккордов.
– Он больше похож на дьявола, чем на ангела…
– Бог, дьявол – это всего лишь музыкальная тема. А играют ее, и каждый раз по-разному, миллион органов человеческих душ. И все. Это так просто, как ты не можешь понять?
Девушка откинула на спину распущенные волосы и заиграла тему ночного гостя. Музыка была исполнена долго сдерживаемой, но все же прорывающейся наружу страсти.
В квартире внизу коллежский асессор Митрофанов сполз с кровати, взял швабру, залез на стул и долго, с безнадежным выражением на лице стучал в потолок. Потом поймал себя на том, что стучит в ритме Елизаветиных экзерсисов, тяжело вздохнул, кряхтя, слез со стула и пошел обратно в постель.
Любочка легко убедила себя в том, что Софи, конечно же, уже знает. А как, собственно, еще можно было бы истолковать поведение проклятых собачонок? Софи же Домогатская никогда не была дурой, и замечала все до мелочей.
Любочка сидела на диване в гостиной, куда проводила ее круглощекая служанка и ждала. Нетронутая чашка с чаем стояла на столике. Некоторое время она крутила в пальцах серебряные щипцы для сахара, потом положила и их. Жизнь вдруг стала для нее нестерпимо страшна. Зашевелились всякие тяжелые вопросы и тени в углах. Впереди было пусто, холодно и мутно. Воздух стоял пыльный и неподвижный. Ощущалось чье-то невидимое присутствие. Любочка подумала о том, что это могла бы быть душа Ксении и поежилась. Где-то отчетливо тявкнула собака. Потом заскулила…
Любочка вскочила с дивана, топоча, пробежалась по комнате, заламывая руки. Звук собственных шагов на время успокоил ее.
Поднимаясь по лестнице, дергая ручку звонка, Софи представляла себе, как Дуня входит к нему, он помогает ей раздеться, греет замерзшие руки, дает чай, укладывает в постель… Ревности не было. Просто тупая тоска, похожая на старую мочалку и желто-красные круги перед глазами на черном фоне, напоминавшие традиционную хохломскую роспись по дереву.
Более всего хотелось упасть, не раздеваясь, на кровать, провалиться в сон без сновидений и спать долго… долго…
Ветер дул порывами – вздымал, как паруса, юбки у баб, закидывал воротники шинелей на головы, скидывал шапки у прохожих – и тут же стихал, и тогда снова падал вертикально мокрый, какой-то мшистый снег и светились сквозь него зеленовато-лиловые фонари. В зеленой мути качались лица. От ветра снег местами твердел, как алебастр, и едва ли не визжал от прикосновения.
Соня тоже едва сдерживала крик.
Все в этом городе казалось ей умышленным, противоречащим естеству. Она задыхалась. Но Милочка и Джонни жались к ней, и кричать, показать свой ужас было нельзя. Потому Соня кусала варежку и все повторяла, оглаживая плечи младших:
– Ничего, ничего…
То, что они заблудились, стало ясно почти сразу.
Милочке только казалось, что она знает, как добраться до петербургской квартиры. Но уже по приезде в город она стала путаться, говорить то одно, то другое. Пока были деньги, извозчик возил их туда-сюда, даже давал советы. Потом ему надоело, и он предложил высадить их возле полицейского участка. Соня отказалась, и ванька уехал, забрав все деньги и явно заподозрив странных детей не понять в чем. Денег больше не было. Стояла, поскрипывая и вздыхая, ночь.
В огромном балтийском небе, как на заднике сцены, тускло переливались звезды и, куда ярче, сверкали огни Петербурга.
Все время, как на сцене же, менялись оттенки. После зеленого вдруг золотел над всем, в морозной дымке, купол Исаакия, поднимался от мостовых желтый пар. Магия прямых, переходящих одна в одну улиц превращала прохожих в призраки, и обратно, угловатые тени – в людей. Железное решетчатое кружево кое-где было покрыто острыми иглами инея. Джонни трогал иглы пальцами.
С неба, прямо с подсвеченных, переливающихся жемчугом облаков, над черно-лиловой вереницей линий, шпилей и стен смотрело чье-то лицо с темными, внимательными глазами.
Соня выпрямилась во весь свой небольшой рост.
– Я не боюсь! – громко сказала она прямо в это огромное лицо.
И вдруг ощутила удивительное. Где-то зазвенела, запела струна. Большие ладони призрачного города приняли ее в свою прохладную колыбель и едва-едва покачали, успокаивая. Потом все ушло.
На перекрестке улиц горел жаркий костер. Стояла пролетка. Мокро лоснились гладкие лошадиные спины. Уличная грязь сверкала золотыми искрами. Солдат в длинной шинели поманил их пальцем. Когда они подошли, поцокал языком и угостил Джонни замусоренным куском сахара. Трое живописных бродяжек неопределенного пола и возраста сидели на корточках и беседовали.
– Утром здесь все в другом свете станет, – объяснил Соне один из них. – И обязательно дом свой отыщете. Мы вам поможем, если не побоитесь.
– Не побоимся. Спасибо вам, люди добрые, – сказала Соня, украдкой взглянула наверх и прошептала. – Спасибо тебе…
В которой Любочка стреляет в Софи, и находятся Ирен и убийца Ксении Мещерской
– А вас уж тут, Софья Павловна, давно дожидаются… – «обрадовала» хозяйку Фрося.
«Господи! Опять говорить! За что?!» – мысленно взмолилась Софи.
Любочка сидела, выпрямив спину и куда-то спрятав руки.
– Что? – спросила Софи, поздоровавшись и едва ли не со стоном усевшись.
Подумала о том, как хорошо вышло бы, если бы Златовратская пришла просто попросить денег. Тогда можно было бы сразу их дать и пойти в постель. Впрочем, Софи все время понимала тщетность своих мечтаний.
– Я расскажу вам все, как было, – сказала Любочка. – Чего теперь скрывать?
«А может, не надо?» – вяло подумала Софи, но ничего не сказала.
Дуня наверняка уже улеглась в постель. Он… нет, совершенно невозможно думать о том, что он сейчас делает. Лучше уж послушать Любочку…
– …Николаша убил. Я никому не сказала, думала, что это он ради того, чтобы со мною быть, а не с ней. Теперь знаю – все из-за денег. А что касается собачонок…
Перед глазами Софи вдруг словно поднялся занавес.
Внезапно озверевшие левретки погибшей Ксении! Конечно! Они же видели убийцу… И разумеется, запомнили его… точнее, ее…
Князь хотел поженить Ксению и Николашу и оставить наследство сразу обоим своим родственникам… Можно было догадаться сразу… А теперь она старается свалить все на Николашу, якобы она видела его, когда он шел убивать Ксению и все такое…
– Вы не верите мне, Софи?
– Ну конечно, не верю, – буднично сказала Софи. – И, Боже, как же все это мелко и пошло! Я даже и ожидать не могла, потому и не видела так долго. Князь Мещерский и его ублюдок вытерли об вас ноги, а вы в отместку убили старую беззащитную женщину и ее собачку! Стреляли бы уж тогда в князя (многие в России вам только спасибо сказали бы) или в подлеца Николашу!.. А в сущности, вы знаете, ведь Николаша был прав, не желая пускать вас в свет. Вас здесь действительно не надо. Высший свет российской столицы – звонкое, пустое и подлое место, но там издавна не мелочатся в страстях…
…Черная точка револьверного дула могла загипнотизировать кого угодно, но только не Софи в ее нынешнем состоянии. Она слишком устала и на какой-то очень короткий момент ей вдруг захотелось, чтобы Любочка выстрелила… В следующий миг она вспомнила обо всех, находящихся на ее попечении, и почему-то об Эжене. Его теплые коричневые глаза моргнули перед ее взором и молча указали в сторону бюро. Не колеблясь более, Софи схватила золоченые часы, что было сил швырнула их в голову Любочке, а сама в тот же миг присела и откатилась направо, к дивану. Револьверный выстрел в закрытой комнате прозвучал оглушительно. Сразу вслед за ним с грохотом упали часы и мягко сползла на пол потерявшая сознание Златовратская.
Софи пружинисто вскочила и начала действовать.
– Скорее, пожалуйста, скорее!
Константин, не в силах больше сдерживать возбуждение Ирен, просто молча прижимал ее к себе.
Девушка выпрыгнула из саней раньше, чем они окончательно остановились. Споткнулась, запуталась в юбке, упала, тут же поднялась и кинулась бежать. Ворота были заперты, но во многих окнах горел свет.
– Костя, мы опоздали! – простонала Ирен, сползая вниз по решетке и напоминая всех героинь господина Достоевского одновременно.
Расхристанный по ночному времени дворник, узрев приличного вида господина, кинулся к Ряжскому.
– Никак стреляли, ваше благородие?! – он указал на окна. – В участок бы…
– Пустите, я разберусь, – веско сказал Ряжский. – Надо будет, пошлем и за полицией. Может, еще и не случилось ничего…
– Дай-то Господь! – сказал дворник и перекрестился.
Фрося дрожащими руками отворила дверь, но сказать ничего не смогла, так как челюсть у нее ходила ходуном из стороны в сторону и не слушалась хозяйку совершенно. Служанка только моргала длинными ресницами и напоминала быстро-быстро жующую жвачку телушку.
Ирен вбежала в квартиру и, как всегда, остановилась на пороге.
Софи сидела в кресле и пила чай маленькими глотками. Чашку она держала на весу и потому видно было, что рука ее не дрожит вовсе. На диване расположилась связанная по рукам и ногам Люба Златовратская с белой холстинной повязкой на голове. По всей видимости, она была без сознания, во всяком случае, глаза у нее были закрыты. На столе, рядом с блюдечком с сахаром, лежал маленький черный револьвер.
Увидев Ирен и маячившего за ее плечом Костю, Софи отставила в сторону чашку, поднялась и сказала ровным, почти ничего не выражающим голосом:
– Здравствуй, сестра! Здравствуйте, Константин!
– Софи, ты жива… – сказала Ирен и заплакала. Ряжский развернул ее к себе и обнял.
– Ну конечно, жива, – непонятно к кому обращаясь, сказала Софи. – Что со мной сделается?
Чуть позже Ирен перестала плакать, как-то странно огляделась и спросила:
– Софи, а где сейчас Милочка?
– В Люблино, вместе с Павлушей и прочими. А что?
– Ты уверена?
– Ну разумеется. Куда и зачем она могла бы оттуда двинуться?
– Понимаешь, мне кажется… мне кажется, что она где-то здесь, рядом… прямо на улице…
– Милочка в городе? Ночью? На улице? Что за чушь?! – резко спросила Софи, прямо на глазах выходя из оцепенения.
– Вы знаете, Софи, я не стал бы отмахиваться… – вздохнул Константин. – Вот это, – он указал глазами на лежащую на диване женщину. – Ирен почувствовала за много верст отсюда… Так что…
– Хорошо, – тут же согласилась Софи. – Ирен, ты можешь… ну, хоть приблизительно указать мне, где она сейчас находится? Да? Тогда мы едем туда немедленно… Дворник позовет полицию. Ты, Фрося, впустишь их и все объяснишь. Все показания мы дадим утром, когда отыщем Милочку, или убедимся, что с ней все в порядке… Ирен! Она что, там, на улице, одна?
– Н-нет… – пробормотала Ирен, словно прислушиваясь к чему-то. – Она не одна. И ей, в общем, не так уж и плохо… Сейчас…
– Едем! – решительно сказала Софи. – Ирен, уйди с порога. Надоело.
– Надоело – что? – удивленно переспросила Ирен.
Софи, одеваясь, не ответила.
Над горизонтом низко стояло большое черное облако со щупальцами растопыренными в разные стороны. Угрюмые зимние зарницы вспыхивали на его краях. Небо вокруг казалось выбеленным. Дорога, обрамленная лесом, поднималась прямо в край тучи. Все было смутно и необычно, но ум Ефима работал с полной ясностью.
«Если гимназист Кока теперь умрет, то я тоже дальше жить права не имею. Застрелюсь и всему конец.»
От этого решения накатило такое облегчение, как будто бы в голове разорвалось что-то туго натянутое и причиняющее боль.
Но тут же вдруг пришла ужасная мысль: что, если отравленные конфеты остались в петербургской квартире, и их теперь съест та сибирская девушка с огненными волосами, которая обучается музыке. Или ее брат из тени… Отчего же он у них не спросил, не убедился?!
Не в силах более сдерживаться, Ефим застонал сквозь стиснутые зубы. Потом откинулся назад и прикрыл глаза.
Увидел Софи Домогатскую в красном платье и подаренном им рубиновом ожерелье. И на той же картине брата Михаила – тяжелого, уродливого, неуклюжего на первый взгляд. Они стояли – врозь, и даже не глядели друг на друга.
«Так и есть, – подумал Ефим. – Так и есть. Зря я… все – зря…»
Среднего роста, светловолосый юноша с едва пробивающимися усами и бородкой, но взрослым взглядом знакомых глаз вышел ему навстречу.
– Алексей Павлович Домогатский, – представился он.
– Евфимий Людвигович Шталь, – поклонился Ефим.
– Проходите, пожалуйста. Чему обязаны визитом? – юноша оставался напряжен, и этого нельзя было не почувствовать.
– Я беспокоюсь о здоровье Коки, Николая Неплюева, – напрямую (к чему теперь хитрить?) сказал Ефим. – Узнал в городе, на квартире, что он болен и отправлен в имение… И вот…
Удивление на лице Алексея Домогатского усилилось, однако воспитание не позволило облечь его в слова.
– Прошу вас…
– Скажите же: что с Николаем? Это… серьезно? Я могу его видеть? Говорить?
– Ну разумеется, – Алексей пожал неширокими плечами. – У Коки была небольшая лихорадка, кашель, горло распухло… Нынче уже полегче стало… Я пойду, сейчас же предупрежу его об вас… Вы ведь знакомы?
– Д-да… – Ефим опустился на стул и закрыл лицо ладонями.
– Что с вами? – растерялся Алексей. – Вам плохо?
– Нет, нет, – поспешно возразил Ефим. – Мигрень, понимаете… В дороге ветер…
– А-а, – с сомнением протянул Домогатский. Видно было, что происходящее нравится ему все меньше и меньше.
Ситуацию разрешил сам Кока.
Он выбежал в верхнюю гостиную прямо в нательной рубахе и поспешно накинутой на плечи байковой курточке. Порывисто кинулся к гостю, потом остановился, словно кто-то невидимый крикнул ему, как лошади «Т-тпру!»
Почти минуту длилась немая сцена.
Потом Ефим, не в силах долее молчать, спросил:
– Кока, а конфеты?
– Я не передал, простите! – мальчик расплылся в улыбке оттого, что нашлось наконец, о чем говорить. – Видите, заболел некстати, а тетя Софи сюда не приезжала на этих днях. Но они у меня в целости, не думайте…
– Где?
Алексей тревожно крутил по-юношески тонкой шеей.
– Да наверху же! – воскликнул Кока, голос его был хриплым от воспаления в горле. – Пойдемте ко мне. Я вам покажу, как я коллекцию разместил. У меня нынче все по классам… Или вам с пути отдохнуть надо? Вы ведь погостите у нас теперь, правда? Коли уж вы такую дорогу… Я и подумать не мог… Леша, барон ко мне приехал, ты такое себе представить можешь?
Алексей вполне искренне помотал головой.
– Не могу совершенно.
– Пойдем к тебе, Кока, – сказал Ефим. Ему не терпелось увидеть злосчастные конфеты.
– Мы подумали, что надо вас предупредить, – объясняла Соня. – Вдруг это и правда опасно. Но Петра Николаевича не было, а Мария Симеоновна… я ее, если честно, побаиваюсь… Вот мы и решили… Милочка сказала, что она дорогу найдет. Стеша осталась нас прикрывать, если хватятся, и Карпушу сторожить. А Джонни сам попросился, я его и взяла, чтобы ему не страшно за нас было…
– А ты? Как же ты сама? – с интересом спросила Софи. – Ты же боишься незнакомых людей, улиц, площадей, городов… Всего! Как же ты решилась?
– А что было делать? – пожала плечами Соня. – Я – самая старшая. Я и должна была…
– И как? Как тебе было? Здесь, в городе? У тебя такое лицо, как будто бы с тобой этой ночью что-то произошло… Ты… вы повстречали кого-нибудь?
– Да, вы правы, – сказала Соня. – Я повстречала ночной ветер, одиноко странствующий по городу…
– Ишь ты, – усмехнулась Софи. – Значит, наш город принял тебя, и поделился с тобою своей силой. Гордись, он принимает далеко не всех… И что же теперь?
– Теперь я могу вернуться назад, к Матюше, и быть с ним…
– Ты хочешь этого?
– Всею душою…
– Не жалко будет уезжать?
– Это всегда со мной…
– Ты, конечно, права, девочка. Я представляю себе, как обрадуется Матюша…
В полицейском участке, рядом со следователем, на облупившемся стуле сидел Густав Карлович Кусмауль. Под стулом, вытянувшись и завалив на сторону зад, расположился такс Герман, округлившийся боками и оттого похожий на изрядное изделие немецкой колбасной лавки. Смотрел такс подозрительно.
– Густав Карлович, вы?! – воскликнула Софи. – Вот удивительно!
– И вы… – улыбнулся Кусмауль. Улыбка его была похожа на складку на брюках. – А я, знаете ли, отчего-то вовсе не удивлен…
– Ну, конечно! – энергично сказала Софи. – Я же, вы знаете, поймала убийцу Ксении Мещерской, Любочку Златовратскую! Хотя она меня едва не застрелила…
– Убийца Ксении Мещерской арестован вместе с сообщницей и с позавчерашнего дня находится в заключении, – бесстрастно сообщил следователь. – Его зовут Макар Сиротин.
– Какой еще Макар Сиротин! – возмущенно закричала Софи. – Откуда он взялся?! Любочка Ксению убила, а пыталась на Николашу свалить! И Констанция с Эсмеральдой ее узнали!
– Успокойтесь, Софья Павловна! – почти мягко сказал Густав Карлович. – Сейчас я вам все объясню, а уж потом снимем показания и будем оформлять бумаги по покушению… Уж этого-то, увы, Златовратской никак не избежать. Хоть она Мещерскую и не убивала…
Софи молча вытаращила глаза, а такс внушительно тявкнул, подтверждая каждое слово хозяина.
В которой Гусик рассказывает Вавику, как все было
Князь Владимир Павлович отпил из бокала и тут же поставил его на стол, нетерпеливо глядя на старинного приятеля.
– Ну, Гусик, не томи, рассказывай же!
Густав Карлович подтянул ноги, обутые в меховые лапландские туфли, под стул, неторопливо наколол на вилку маленький аккуратненький моховичок, осмотрел его со всех сторон.
– Прямо не знаю, с какого узла начать, чтобы понятнее вышло… – пробормотал он себе под нос, обращаясь как будто к грибочку.
– Гусик, я понимаю, эти все твои полицейские штучки, они у тебя в крови! Набивание себе цены, многозначительность и прочее… Но я тебя умоляю! Готов добавить в денежном эквиваленте, лишь бы ты меня от них избавил!
– Вавик! Ты меня обижаешь… – нахмурился Густав Карлович. – Ты же знаешь, что я нынче вовсе не за деньги…
– Гусик, прости! – Владимир Павлович дотронулся до рукава приятеля с искренним вроде бы раскаянием. – Я все понимаю. Тебе, как старому боевому коню, в радость сам звук трубы и запах пороховой гари, но… Пойми и меня тоже!
– Ладно, Бог с тобой, – махнул рукой Густав Карлович и приступил к рассказу. – Началось все тогда, Вавик, когда ты задумал поженить этого своего Ивана-Николая и Ксению. Если бы ты с самого начала все честно Ивану рассказал, и про женитьбу, и про наследство, и про концессии, так, может, ничего бы и вовсе не произошло. Но ты там у себя, при дворе, привык все темнить и интриговать… И вот что с того вышло…
У Ивана, надобно тебе знать, давным-давно есть постоянная содержанка. Зовут ее Любовь Златовратская, и родом она из того же сибирского городка, что и Иван-Николай. Там они, надо думать, и сошлись, а уж после она за ним в Петербург приехала. Все эти годы Люба жила на съемной квартире на правах любовницы, и, будучи женщиной провинциальной, то есть в общем и целом порядочной, все время надеялась на изменение своего положения. Иван, надо полагать, подавал ей соответствующие надежды, которые, естественно, воплощать ни во что не собирался.
Я думаю, что о твоих, Вавик, матримониальных прожектах Люба узнала случайно. Зная импульсивность своей многолетней пассии, вряд ли Иван рискнул бы рассказать ей. Хотя… я так и не представляю себе до конца характера их отношений. Она его, несомненно, в течение многих лет любила до самозабвения. А он? Только пользовался? Или что-то более сложное? Тебе вернее судить, все-таки он – твой сын…
Узнав о грядущей женитьбе Ивана (ее доброхоты могли представить дело, как давно и окончательно решенное), Люба почувствовала, что все надежды ее и самое жизнь стремительно катится под откос. Однако тут надо учесть, что Любовь Златовратская не только поставила все на одну карту, но и имела сибирский, упорный характер и вовсе не собиралась сдаваться, проливая бессильные слезы над своей погубленной судьбой. Узнав о ваших с Иваном коварных замыслах (она и не предполагала, что Самойлов тоже, как и она, оказался перед фактом твоих намерений, и полагала, что сие есть продукт вашего, так сказать, «совместного творчества»), Люба порешила бороться за свое ускользающее счастье. Она прекрасно понимала, что ни о какой любви между Ксенией и Иваном не может быть и речи, но роль вечной содержанки, живущей на задворках великой столицы и никогда, даже в перспективе, не бывающей «в обществе», ее более не устраивала категорически.
Борьбу она решила начать с Ксении, небезосновательно полагая ее более слабым звеном. Будучи женщиной неглупой и начитанной, она без труда вошла в оккультный кружок Ачарьи Дасы, и там воочию познакомилась со своей соперницей. Чем более Люба узнавала Ксению, тем более перспективным представлялся ей план направленного воздействия на нее, ибо бедная Ксеничка была неумна, внушаема без меры и мистически ориентирована всей своей предыдущей жизнью и господином Ачарьей… Здесь надо отметить и такой факт. Ксения была на свой манер влюблена в господина Дзегановского (он же Ачарья Даса). Разумеется, она не была уж настолько глупа и не строила на его счет никаких планов, но некий род мистического обожания Учителя, несомненно, имел место быть… Конечно, смышленая Люба легко разгадала, а, может быть, даже открыто обсудила с Ксенией (известно, что Ксеничка, несмотря на возраст, была доверчива и наивна) ее чувства к этому псевдоиндусу…
Теперь уж пора упомянуть и еще одно действующее лицо этой драмы, которое тоже исправно посещало названный кружок.
Исследуя, по твоей, Вавик, наводке, оккультные дела покойницы, я наткнулся на факт, который сразу же меня заинтересовал и насторожил. Дочь моих соседей по имению, Неплюевых-Домогатских, бесследно исчезла приблизительно спустя две недели после смерти Ксении. Девушка закончила Бестужевские курсы и работала учительницей начальных классов в столице. Я знал ее с детства и, скажу тебе, каждый раз испытывал при встрече с нею что-то, отдаленно напоминающее электрический удар. Она всегда была… странноватой… и это еще мягко сказано. Думай обо мне что тебе заблагорассудится, но, если что-то мистическое в нашем мире все-таки существует, то вот Ирен Домогатская имеет к этому самое непосредственное касательство…
Люди с той или иной придурью всегда сбиваются вместе, поэтому я не очень удивился, когда узнал, что Ирен посещала кружок Ачарьи. Но вот то, что она, никого ни о чем не предупредив, исчезла почти сразу после убийства… Я – старая полицейская ищейка, Вавик, и лучше других на своей собственной шкуре знаю, что «после» далеко не всегда значит «вследствие», но здесь что-то мне сразу подсказало: между этими двумя делами есть связь. Конечно, я с самого начала практически не подозревал Ирен Домогатскую в убийстве – у нее не было совершенно никаких резонов душить Ксению в ее собственном доме. Но вот знать об этом убийстве что-то такое… Это она вполне могла, и мне, разумеется, сразу захотелось отыскать ее и потолковать с нею по душам.
Гораздо серьезнее я заинтересовался господином Дзегановским. Ксения, одна из очарованных им душ, несомненно, давала ему деньги на неотложные оккультные нужды (Ачарья Даса, чтоб ты знал, неустанно борется с каким-то мистическим заговором, который якобы вынашивают против России коварные британцы (!) – отметь, тебе это должно быть близко. Я же лишь порадовался тому, что немцы в его врагах, кажется, не числятся…), предоставляла кров для собраний, в общем – была всячески полезна. Стоило ли ее убивать? Но вдруг она случайно узнала о нашем мистике что-то неблаговидное? На проверку этой версии у меня ушло немало времени. Понятно, что копание во всей этой мистической чепухе продвигалось у меня туго. Зато теперь я могу неплохо рассказать об особенностях шестой послеатлантической эпохи… К сожалению, никаких причин, по которым Ачарья Даса мог бы придушить Ксеничку, обнаружить не удалось. Единственный факт, который я отметил на этом этапе: накануне смерти Ксения взяла в банке некую, довольно значительную сумму денег наличными, по-видимому, для передачи их кому-то (Дасе?). После убийства этих денег в особняке не нашли.
Сама же картина преступления стала для меня ясна значительно позже.
На ночь Ксения отпускала всех слуг и оставалась в доме со служанкой Акулиной и тремя левретками. Акулина спала в комнатке при кухне на первом этаже, а левретки – в спальне самой Ксении, на ее кровати.
В тот роковой вечер события развивались так.
Люба Златовратская явилась к Ксении около девяти часов вечера (все слуги, кроме Акулины, уже ушли, Акулина же удалилась к себе), имея при себе достаточно сложный, но весьма остроумный и многоуровневый план действий. Скажу сразу: убийства она тоже не исключала и потому принесла с собой приобретенный заранее револьвер…
– Револьвер?! – удивленно воскликнул Владимир Павлович. – Но ведь бедную Ксеничку задушили! Почему же эта женщина не воспользовалась револьвером?
– Очень просто. Потому что Люба Златовратская Ксению не убивала, хотя ее визит и послужил косвенной причиной убийства… План Любы состоял в следующем: для начала она хотела запугать Ксению до полусмерти и вынудить ее отказаться от брака с Иваном Самойловым. «Жизнь и любовь дороже денег!» – вот эту простую истину она и хотела преподать Ксении. Доказательств у нее было при себе много (на взгляд Ксении, конечно). Во-первых, в астральном плане судьба Ксении уже соединена мистическим браком с Ачарьей Дасой, и, таким образом, мирской брак Ксении с Самойловым будет изменой Учителю (не морщись, Вавик, лучше вспомни, какой, в сущности, дурой была покойница!). Во-вторых, ее будущий муж – скользкий и по всем статьям малоприятный тип. Здесь Люба, которая как никто знала Николашу-Ивана, была особенно убедительна, строго придерживалась фактов и пробудила у в общем-то порядочной Ксении весьма негативное чувство к будущему супругу. Особенно сильную брезгливость вызвали его связи с Охранным отделением (надеюсь, для тебя это не новость?). И наконец, в третьих, Люба сообщила сопернице, что вместе с твоими неправедными деньгами ее душу подстерегают неведомые, но тем более страшные опасности. Помнит ли Ксения историю с сапфиром, который принес ей столько бед? Так вот, все это цветочки по сравнению с тем, что будет, если она хотя бы пальцем прикоснется к наследству своего развращенного, безнравственного и про́клятого в эфирных мирах дядюшки-содомита! В доказательство Люба предъявила Ксении ту самую книгу, которую после нашли в гостиной и быстренько провела какой-то сокращенный сеанс то ли медитации, то ли левитации (прости, так и не могу запомнить). Понятно, что продиктованные и выделенные «высшей силой» строчки были результатом какой-то подтасовки со стороны Любы, но Ксеничке о ту пору уже немного и надо было.
Как и мы с тобой чуть позже, она «доказательно» убедилась в том, что выделенные места прямо указывают на князя Мещерского, а, стало быть, Златовратская во всем права, и Ксения чуть было не погубила не только свою бессмертную душу, но и возлюбленного Учителя, готовясь связать свою судьбу с бессовестным негодяем…
Всего этого было для нее более чем довольно, и перегруженная ужасными переживаниями Ксеничка провалилась в глубокий обморок…
Здесь Люба могла бы разом решить все свои проблемы, воспользовавшись принесенным с собой оружием, но… обнаружила, что она не может хладнокровно выстрелить в неподвижное, оплывшее тело Ксении…
Убедив себя в том, что достаточно напугала старую экзальтированную дуру, и она больше никогда на пушечный выстрел не подойдет к Ивану-Николаше, Златовратская положила на видное место раскрытую книгу (чтобы Ксения, очнувшись, могла сразу же вспомнить о грозящей ей опасности) и собралась уходить. Она уже вышла на лестницу, когда ее догнал самец-левретка по кличке Роланд и бросился на нее с истошным лаем. По-видимому, испуганный песик все то время, пока дамы выясняли отношения, просидел где-то в гостиной, а потом увидел лежащую без чувств, «мертвую», как ему показалось, хозяйку, и буквально обезумел от горя и ужаса…
Чувства человека, у которого решается судьба и который только что почти решился на убийство, требуют выхода. К тому же лай собачки мог привлечь внимание прислуги…
Почти хладнокровно Люба задушила собаку, и, никем не остановленная, вышла на улицу. Пройдя буквально пару шагов, она вдруг столкнулась с Иваном-Николаем, который явно спешил туда же, откуда она только что вышла.
Выражение лица Любы показалось Николаю полубезумным и изрядно напугало его. Насколько я понимаю, она его узнала, но как-то формально приветствовала и прошла мимо. Еще одной сцены в тот же день ей было просто не пережить.
Обескураженный Иван Самойлов остался на улице. Он шел к Ксении по вполне важному делу, ибо именно ему предназначались взятые Ксенией в банке деньги. Едва узнав про грядущую женитьбу, он уже успел убедить доверчивую Ксеничку в том, что алтайская золотая концессия будет блестящим подарком к их свадьбе, если ему сейчас удастся съездить в Сибирь и все уладить на месте. Сибирь – это его родина, и потому у него просто не может не получиться… А для верности и скорости оборота дела ему нужно совсем немножко денег, которые он с благодарностью вернет Ксеничке сразу после возвращения…
Теперь Самойлов стоял в задумчивости. Что именно знает Любочка и о чем она говорила с Ксенией? Что предпримет Ксения по этому поводу?
В конце концов, Иван решил к Ксении пока не соваться, а сначала основательно выяснить у Любы, в чем дело… В том, что он сумеет уговорить свою давнюю любовницу, Иван ни минуты не сомневался. Потому лучше сейчас не торопиться и не лезть в воду, не разведав предварительно броды. В конце концов, за пару дней ничего особенно не изменится…
На следующий день стало известно о смерти Ксении Мещерской.
Сначала Люба Златовратская пребывала в черном ужасе, не зная обстоятельств и полагая, что это именно она довела до погибели чувствительную Ксеничку. Потом узнала подробности, легко сопоставила факты и… вспомнила о том, как буквально у подъезда Ксении, в вечер убийства столкнулась со своим любовником! Сам понимаешь, если это и улучшило ее настроение, то ненамного…
Иван-Николай, в свою очередь, тоже не позабыл о встрече с Любой и о том, каким странным показались ему в тот вечер ее лицо и манеры. Выводы напрашивались сами собой…
– Так кто же, в конце концов, убил Ксению – Иван или Люба?! – нетерпеливо воскликнул Мещерский, излишне поспешно отпил из бокала и закашлялся.
Густав Карлович привстал и постучал приятеля по спине. Князь продышался, по его морщинистому горлу несколько раз туда-сюда прокатился кадык.
– Или ее оставшиеся в живых левретки загрызли? – спросил Мещерский, стараясь казаться ироничным, а на самом деле нешуточно волнуясь.
– Ничего подобного, – Густав Карлович покачал пальцем из стороны в сторону. – Левретки еще скажут свое слово, но пока они – не при чем… Значит, Иван подозревает Любу, Люба – Ивана. Оба молчат, чем еще больше подтверждают подозрения друг друга.
Накануне всех событий та самая Ирен, о которой я тебе уже говорил, каким-то образом прочитывает Любину готовность к убийству (только не спрашивай меня, как именно она это сделала. Я сам лично видел и слышал, как эта девушка проделывала вещи и куда более удивительные). Когда убийство совершается наяву, Ирен впадает в панику. Суди сам: она знает мотивы и знает, кто убил. Но что ей делать с этим дальше? Идти в полицию и ссылаться на свои мистические прозрения? Самой изобличить Любу и тем самым подвергнуться нешуточной опасности (человек, который уже убил один раз, может убить и второй)? Делать вид, что ничего не произошло и продолжать как ни в чем ни бывало встречаться с Любой на собраниях кружка? Это – решительно невозможно. При первой же встрече с Любой после убийства, Ирен, как ей кажется, полностью выдает свою осведомленность, что еще усугубляет ее страхи. К тому же Ирен мучает чувство вины: девушке кажется, что, обладая особыми способностями, она могла бы предотвратить убийство Ксении, если бы вовремя сообразила, что и как предпринять.
Сначала Ирен хочет поговорить обо всем с Дасой, но потом ей что-то мешает. Тогда она выбирает в конфиденты своего жениха, Константина Ряжского, петербургского промышленника.
Константин, в отличие от Ксении и Ирен, – человек дела. Внимательно выслушав всю историю, он не слишком-то верит в «прозрения» Ирен. Скорее всего, решает он, убийца – Иван, который попросту не хотел жениться на Ксении (предпочитая ей Любу), но хотел получить твои деньги. Впрочем, вполне возможно, что любовники действовали сообща. Тогда не исключено, что оба преступника уже извещены о том, что Ирен – знает.
Первой строкой Константин обеспечивает безопасность невесты – надежно прячет ее в своем родовом, полузаброшенном имении. Ни одна ниточка не должна привести убийцу к Ирен, поэтому никого не извещают о ее местопребывании. На этом этапе Ирен настолько растеряна, что не сопротивляется и ничего не оспаривает.
Константин тем временем пытается провести свое собственное расследование, чтобы добыть факты и сдать «убийцу» (с Любой или без Любы) полиции. Чтобы собрать побольше информации, он соглашается иметь дело с Иваном Самойловым, и входит в число «золотых» концессионеров вместе с Ефимом Шталь. Где-то в это же время на него выходит Софи Безбородко, старшая сестра Ирен, дамочка весьма авантюрного склада, полная решимости отыскать пропавшую сестру. Зная из прошлого бульдожью настойчивость старшей Домогатской, Константин обещает ей всемерную поддержку и пускает ее по ложному следу.
Софи и Иван порознь уезжают в Сибирь.
Иван-Николай все еще надеется получить вожделенную «золотую» концессию, которая, как ему кажется, на всю жизнь обеспечит его достаток и независимость. Любу он теперь побаивается и, из возможности, избегает. В свою очередь, Люба приходит к выводу, что на ужасное преступление Николай (а она знает его именно под этим именем) пошел для того, чтобы не расставаться с ней, и опять как-то оправдывает все еще любимого ею человека…
Тем временем Ирен постепенно приходит в себя и начинает обдумывать и «обчувствовать» происходящее. Исправно навещающий ее жених не слишком многословен и категорически против любого ее участия «в деле». Безвыходное сидение в глухом имении надоедает ей, в ней просыпается фамильный темперамент Домогатских и она решает самостоятельно предпринять хоть что-нибудь для разрешения ситуации. Ирен покидает имение, приезжает в Петербург и направляется к Дасе, чтобы, наконец, переговорить с ним. Именно в этот момент ее засекает один из моих агентов.
Неизвестно, чего больше испытывает Даса в момент появления у него Ирен – облегчения или испуга. Ему о-очень не хочется впутываться во всю эту историю, но другого выхода у него теперь нет. Переговорив с Ирен и проводив ее на вокзал, он отправляется прямо к Константину. Разговор между ними, как я понимаю, наполовину крутится вокруг какой-то оккультной чепухи, но из конструктивного состава выявляется принципиальное разногласие: Даса, как и Ирен, считает, что убила – Люба, из ревности. Костя убежден, что убийца – Николай, а мотив – корысть. О совместных действиях договориться не удается. В конце разговора недоверчивый от природы Константин даже начинает в чем-то подозревать Дасу…
– Слушай, Гусик, я больше так не могу! – Мещерский прихлопнул по столу ладонью. – В конце концов, ты должен понять, – у меня аневризма и разлитие желчи. Кто убил?! Даса? Этот Константин? Софья Домогатская?
– Ну ладно, ладно, какой ты, право, нетерпеливый! – недовольно проворчал Густав Карлович. – Не даешь старику получить полное удовольствие от проделанной работы… Я же поймал тебе убийцу, он нынче в тюрьме…
– Он?… Значит, все-таки – Иван?! – князь облизнул пересохшие губы. Видно было, что в причастность к убийству Дасы и Константина он не поверил ни на минуту.
– Настоящая убийца – служанка Акулина. Но своими руками она Ксению не убивала…
– А кто же убил?!
– Ты можешь меня спокойно дослушать или нет?! – рассердился Густав Карлович. – Я что, отказываюсь тебе рассказать? Перегружаю рассказ ненужными подробностями? Говорю не по порядку? Нет! Так вот сиди и слушай, коли действительно хочешь во всем до конца разобраться…
Вернувшись из Сибири в полностью расстроенных чувствах, Иван, как я знаю, кинулся к тебе за объяснениями. Ты разъяснил ему, что продал концессию англичанам с соответствии с политикой Кабинета, наплел что-то еще и подбодрил сыночка морально и материально. Несколько успокоенный, Иван вернулся к своей светской жизни, писанию в газеты и к сотрудничеству с Охранкой, которая, как я знаю, несколько удивлена его сибирскими приключениями… Но при всем этом он продолжает избегать Любу. Она, как ей кажется, все понимает и чувствует себя сообщницей Николая… Однако, на сердце все равно тяжесть, и она пытается объясниться с возлюбленным. Самойлов, полагая убийцей ее, в ужасе отшатывается, кричит, что между ними все кончено и убегает. Люба, уже окончательно запутавшаяся, без денег, доведенная до крайнего отчаяния, едет к Софи Домогатской (они знакомы еще с сибирских времен) и ведет с ней полный околичностей и недомолвок разговор. Софи понимает из него только то, что Николай окончательно бросил Любу, и предлагает ей различные варианты устройства дальнейшей судьбы. Здесь надо заметить, что в усадьбе Софи живут две уцелевшие левретки Ксении, которых она взяла к себе из жалости. Увидев Любу и узнав в ней убийцу их мужа Роланда, мирные, трусливые собачонки с невозможной яростью набрасываются на женщину.
Неудовлетворенная и покусанная левретками, Люба уезжает.
Софи через некоторое время тоже отбывает в Петербург по литературным делам (Домогатская, если ты не знаешь, модная писательница).
В это время родные и приемные дети Домогатской (на данный момент их столько, что разобраться в них нет никакой возможности) приходят к потрясающему их выводу: левретки бросились на Любу единственно потому, что узнали в ней человека, убившего их хозяйку. Следовательно, Люба – убийца Ксении. Их последующий логический ход: Люба теперь тоже может догадаться о том, что ее тайна раскрыта и, следовательно, Софи прямо сейчас угрожает опасность. Надо ее предупредить. Какова мамаша, таковы и детки. Из усадьбы в Петербург тайком выезжают: самая старшая приемная девочка, которая только что прибыла из Сибири и боится города, восьмилетняя родная дочь Софи, приблизительно знающая городской адрес Домогатских, и малолетний приемный идиот, которого берут с собой просто затем, чтобы он не разболтал все остальным. Успешно прибыв в город на Варшавский вокзал, дети берут извозчика, но, как оказалось, не могут точно определить, куда ехать. В конце концов деньги у них кончаются, извозчику надоедает искать неизвестно что, и вся компания, окончательно потеряв направление, остается посреди вымерзшего ночного города…
Надо сказать, что размышления детей не лишены логики (чего никак не скажешь об их действиях). Уже на обратном пути из усадьбы Безбородок Люба приходит к тем же выводам относительно поведения левреток и понимает, что умная Софи рано или поздно подумает о том же.
Желая нанести превентивный удар, Люба является на квартиру к Софи и заявляет, что Ксению убил Николай. Софи возражает: Николай мог убить, но он наверняка забрал бы драгоценности Ксении (о деньгах она ничего не знает).
Чуть раньше Ирен Домогатская не находит себе места в усадьбе Ряжского. Она чувствует, что сестре угрожает какая-то неведомая опасность, и требует от жениха, чтобы он немедленно вез ее в Петербург, в квартиру Домогатских. Костя сначала сопротивляется. Ирен бьется в истерике и кричит, что одно убийство уже свершилось по ее вине и попустительству, а другое – не должно свершиться. Ирен – не истеричка, и потому не на шутку встревоженный Константин уступает желанию невесты. Сани, скрипя полозьями, мчатся в ночь…
Тем временем Софи наконец сопоставляет левреток и убийство Ксении и с великолепным презрением (надо знать Софи Домогатскую, чтобы себе это представить) делает «убийце» заявление, которое приводит Любу буквально в неистовство, и заставляет потерять остатки разума.
Ты удивлен тем, что Люба достала револьвер?
Я, лично, нет, потому что хорошо знаю Софью Павловну Домогатскую. Она из тех именно людей, которые, если возьмутся, конклав могут довести до людоедства.
Так вот, взбешенная, потерявшая все на свете Люба уже готова была нажать курок и совершить действительное убийство, но перед лицом неминуемой гибели у нашей Софьи Павловны оказалась неожиданно хорошая реакция: она ловко схватила с комода позолоченные часы и обрушила их на голову Златовратской. Женщина, естественно, повалилась замертво. Софи (вы только подумайте, какое самообладание!) оказала ей первую помощь, потом связала ее и отправила дворника известить полицию.
Именно в это время на сцене появляются Ирен и Константин. Убедившись, что с Софи все в порядке (если, конечно, это можно назвать так), младшая Домогатская тут же начинает «чувствовать» скитающихся по городу детей. Оставив служанку ждать полицию, обе сестры и Константин отправляются на поиски. К счастью, благодаря дару Ирен детей сравнительно быстро удается обнаружить возле одного из костров. Все возвращаются домой (Любу и ее револьвер в это время уже увезли в участок) и дружно празднуют воссоединение семьи.
Утром все в полном составе заявляются в полицию, и там-то и узнают, что я уже поймал настоящего убийцу, а Люба и Иван не имеют к смерти Ксении никакого отношения. Что же произошло?
После ухода Любы Акулина, разбуженная лаем Роланда, вышла из своей комнаты (где она спала не одна, а в обществе своего любовника – конюха из соседнего дома. Ксения попросту не обращала внимания на такие мелочи.), и с изумлением увидела на лестнице мертвую левретку. Не на шутку испугавшись, Акулина вернулась к себе и разбудила любовника. Вместе поднялись в гостиную. Там они обнаружили лежащую в глубоком обмороке Ксению, раскрытую книгу и… большую пачку ассигнаций на ломберном столике…
Соблазн оказался слишком велик. Немолодые любовники переглянулись и поняли друг друга без слов – вот, на столе, перед ними лежала спокойная, ленивая и обеспеченная старость. А чтобы достичь ее, надо было сделать такую малость… Убить человека… Только что они видели задушенную собачонку. А здесь немолодая, одинокая, никому не нужная… Служанка и конюх неграмотны и, вероятно, никогда даже не слышали про господина Раскольникова, но, тем не менее… Почти не колеблясь, конюх выдернул пояс из штанов и задушил Ксению… В самый последний момент несчастная, по-видимому, пришла в себя и пыталась сопротивляться…
Драгоценности брать не стали. Все они известны, и если что-то пропадет, в любом случае подумают на обнаружившую труп хозяйки служанку…
– А как же ты сам-то догадался, Гусик? – грустно и удивленно качая головой, спросил князь Мещерский. – Ведь полиция-то эту Акулину в первую голову десять раз допрашивала, но ничего в ней не нашла…
– Я просто сопоставил факты, – скромно заметил Густав Карлович. – Те самые, которыми полиция тоже располагала. Исчезнувшие деньги и оставленные на месте драгоценности (посторонний вор забрал бы и то, и другое). Данные эксперта: 1) собачонка и Ксения задушены по-разному (двумя разными людьми?) 2) Ксению задушили вовсе не шелковым шнурком или чем-то подобным (если предположить «мистическое» убийство), а какой-то грубой веревкой, вроде тех, которыми поддерживают штаны крестьяне.
Ищем поблизости бывшего крестьянина. Выходим на любовника Акулины. Следим за этой парочкой. Он берет расчет. Они вместе тихой сапой уезжают из города и покупают домик в Ораниенбауме. На какие шиши?… Дальше уже технические детали…
– Гусик, я восхищен! – уныло промолвил князь и допил вино.
В которой беседуют о литературе и прекращают старую вражду
– Так ты прочла. Ну, и что же ты можешь мне сказать? – с вызовом спросила Аннет и нервно зевнула. – С позиций, так сказать, литературного мэтра…
– Ну, Аня, какой я тебе мэтр!.. Это вон граф Толстой у нас… Да отчего ты так взвинчена? Хочешь, так я и вовсе ничего не скажу… Как тебе лучше…
– Как мне лучше… А тебе самой все равно, да? – едва ли не взвизгнула Аннет. – Тебе на всех, всё и всегда – все равно! Будто, кроме тебя, никого на свете и не существует!
– Аннет, нельзя ли спокойнее? – стараясь сдерживаться, спросила Софи. – Я, знаешь ли, устала, у меня действительно полно своих дел… Но мне тебя жаль, ты с Модестом Алексеевичем устаешь душою, и я готова говорить об твоем романе, если ты теперь того хочешь…
– Тебе понравилось?
– В общем, да, хотя это совсем не мое чтение. Я б сама такое читать не взяла, но не потому, что плохо, а потому же, почему ты про индейцев не станешь читать. Мне такие чувства и в жизни скучны, и в романах, но у других – не так. Для кого-то ты явно угадала, и он (точнее она) тебе спасибо сказал. Посоветовать же вот что: смотри за словами. Они у тебя вьются, как будто веревкой привязаны: кудрявые березы, песнь соловья, шелковые волосы, сияющие глаза… Попробуй их развязать, сама, не с чужого голоса увидеть, сразу все дышать начнет…
– Как это, я тебя не понимаю? – спросила серьезно слушавшая Аннет.
– Слово, когда пишешь, инструмент. Иголка – можно зашить дыру на лохмотьях и вышить золотое облачение. Топор – расколоть дрова и выточить деревянное кружево. Любой инструмент тонок в руках мастера. Язык – самый тонкий из всех. Сказать одно и то же, но по-разному. «Иди!» и «Ступай!» – есть разница? Никакой? Ну как же! Смотри. Вот человек идет. Обычное передвижение в пространстве. А вот он – ступает. Каждый шаг – в увеличительное стекло. Какая многозначительность! Она идет… Она – ступает!.. Или другое: вспомнить и помянуть. Вспомнить – официальное слово, холодная констатация, вырезанная из картона. Зачем вспоминали, по какому случаю, чем вспомнили, в конце концов? Контора, мощеная мостовая, сюртук… Ничего не понятно. Все скрыто. Помянуть – совсем другое. Луг, деревянные напиленные кругляшки, курчавая кашка в палисаде… Похоже на сдобную ватрушку, круглое, теплое слово, со слезой в морщинке, нетрезвостью, и лукавой интрижкой даже… «Как черта помянешь, так он и…» Столько всего… Ну же, поняла?
Аннет молчала, потупившись по-девичьи. Потом еще раз зевнула, прикрыв рот ладошкой.
– А Туманов, оказывается, не только жив-живехонек, но еще и на Дуне Водовозовой женат, – сказала Софи.
Аннет живо вскинула взгляд, улыбнулась.
– Вот как? А что, Софи, получается, что Дуня Водовозова считает еще лучше тебя. Ведь тот старичок с ушами, Поликарп Николаевич, он ведь ее не только учил, а еще и кровным родственником был. Вот она тебя и обсчитала! Так выходит?
Софи удивленно округлила глаза. «Сочувствия она от меня ждала, что ли?! – подумала Аннет. – Вот глупость-то! У меня муж старик-полутруп, сын без меня в городе живет, я от страха уж поседела и опухла вся, скука всю жизнь смертная, а я еще ей должна…»
– Да, это так, – кивнула Софи. – Только ведь и розы, ты знаешь, они не всегда красиво увядают, они иногда еще гниют, если лето холодное, прямо в бутонах… У Густава Карловича спроси, он знает…
– Софи! Ты здесь? – Алексей быстро вошел в комнату, огляделся. – Что вы тут делаете?
– Беседуем о литературе, – безмятежно откликнулась Софи. – Как два литератора…
– После! Аннет сказала тебе?
– О чем?
– О том, что у нас в усадьбе гостит барон Шталь, якобы сообщается с Кокой об энтомологии…
– Что-о? Ефим здесь?! – изумилась Софи. – Аннет, отчего же ты мне не сказала?!
Аннет молчала, злобно посверкивая выцветшими глазками.
– Но что же ему в действительности нужно?
– Если бы я мог знать! – воскликнул Алексей. – Приехал третьего дня в таком волнении, что едва на ногах стоял. Сейчас вроде спокойнее, но… Ничего не разберу… Маман с мигренью лежит. Модеста и беспокоить не стали. Аннет устранилась от всего. А у меня просто уже нервная горячка скоро начнется… Чего он тут вынюхивает? Ты можешь предположить? Что бы там ни было, но я никогда не поверю, что барон Евфимий Шталь на охранку работает…
– Людочка здесь?
– Здесь пока.
– А Гриша?
– Живет на даче у Арсения Владимировича.
– Они повидались?
– Да, конечно.
– Тогда – все, надо ему отсюда уезжать, пока его не застукали. Я тоже уеду.
– А… Евфимий Людвигович?
– Пусть себе остается, беседует с Кокой о жучках… Людочку потом в Люблино переправишь… Как она, кстати?
– Капризничает, как всегда…
– Ну вот и славно. Аннет за ней приглядит, а вы с Гришей приезжайте в Петербург, а уж оттуда – в княжество Финляндское. Финны с охранкой сотрудничают туго, потому…
Леша, войдя, не закрыл за собою дверь, и стучаться барону Шталь не потребовалось.
«Вот, оказывается, как выглядел бы теперь Михаил, если бы на нем не было шрамов и прочих следов прожитой жизни,» – подумала Софи.
Бледность и седые виски шли барону, как породистой лошади.
– Софи, я умоляю вас…
– Когда-то вы были похожи лицом на одного из юношей-укротителей на Аничковом мосту, – сказала Софи. – Теперь, Ефим, вы стали похожи на Клодтовского же коня…
Аннет ошеломленно поморгала глазами.
– Софи! Мы можем говорить теперь? Или вы меня сразу вышвырнете из этого дома?
– Я не могу вас отсюда вышвырнуть хотя бы потому, что это не мой дом, – сухо ответила Софи. – А Леша, насколько я понимаю, вовсе не отказал вам в гостеприимстве…
Алексей взял Аннет за руку и буквально выволок сестру из комнаты. Уже из коридора затворил за собою дверь.
Софи выжидательно взглянула на Ефима.
– Осенью как-то вечером дул сильный ветер, – тихо сказал барон. – Я на Петровском острове живу, вы знаете. Там низко. Один пушечный сигнал, другой. Вода прибывает. Я вышел пройтись. Знаете, тянет, когда стихии… Вода в Карповке черная, выше колец, бурлит, ветер воет в опустелых улицах… Дождь… К утру хлынуло, залило погреба, улицу, я спустился, приглядеть за слугами. Они что-то таскали снизу, а я вдруг вижу: в воде, кру́гом, плавают с полдюжины больших крыс. Морды только видны и хвосты… У них, понимаете, подвал-то залило, они всплыли, на воде держатся, а куда плыть, где найти спасения – не знают. Держатся одна за другой, надеются, получается – круг…
Я Фридриху, камердинеру своему, показал, он говорит: Экая гадость! Щас перетопим их! – Я отвечаю: постой, не надо. Не все ли мы так?…
Потом ночь, мокрая, ужасная, в тумане и вое, прошла. На все легла молочная дымка и затихло. Никого нет. Только фонари дрожат… Люди легли отдыхать, а я шел не знаю куда и вспоминал тех крыс: что с ними стало? Они ведь верили каждая каждой, и потому – держались…
Софи! Я, когда про Михаила от Самойлова узнал, вас ненавидел со всею страстью, даже убить хотел…
– А-а-а! – едва ли не обрадовано вскричала Софи. – Так эти пирожные или там конфеты в коробке – ваше произведение?! Это вы, Ефим, сочинили? А я уж думала, что все безумны кругом, как ваши крысы. И сестра, и Оля, и Игнат…
– Вы… вы знали?!
– Ну да, мир не без добрых людей…
– Я уничтожил их. Совсем. Лед, знаете, на пруду пробил и туда высыпал, чтобы кошка или собака не сожрали… Рыбы шоколад не едят…
– Вы уверены, Ефим? – с тревогой, по виду вполне серьезной, спросила Софи.
Ефим бледно улыбнулся.
– Я теперь в этом много разбираюсь, у нас в имении целый зверинец. А нынче, знаете, Стеша, моя приемная дочь, соорудила из трубы с камнями, корзины и керосиновой лампы инкубатор, взяла из-под куриц яйца и вывела в нем в Джонниной комнате цыплят. Теперь они там бегают, такие желтые яички на ножках, Джонни их сначала изо рта в клювики водичкой поил… Джонни, кстати, ваш племянник, Михаила и Саджун сын. Только он болен тяжко, врачи говорят, долго не проживет, но я думаю, может, на свежем воздухе…
– Софи…
– Ефим, поймите, нам нечего, нечего, нечего делить! – Софи вдруг протянула к нему руки, и он схватил их горячо, как будто бы она предлагала спасение или сам хотел спасти ее. – Я храню то ожерелье, что вы мне подарили… даже надеваю его иногда… Помните рыцаря в сияющих доспехах?
– Конечно, – сдавленным голосом пробормотал он.
– Вы… виделись с Михаилом?
– Нет. Нам нельзя встречаться. Мы с ним вроде двойников-антиподов, так нас жизнь сделала, нам лучше вообще существовать на двух разных половинках земли…
– Да… пожалуй, вы и правы, Ефим… Но ведь так, в сущности, и выходит… Мне жаль…
Он стоял, не выпуская ее рук. Кока заглянул в дверь и тут же тактично затворил ее.
– У вас с Михаилом… опять… ничего не вышло? – спросил Ефим.
– Да… Он женат на Дуне, у него дочь Ангелина. У меня же теперь… как бы не соврать… девять, что ли, детей…
– Ско-олько? – Ефим удивленно приподнял красивую бровь. – Откуда ж вы их взяли?
– Да так все как-то получилось, – улыбнулась Софи. – Хотя вообще-то я детей не люблю…
– Софи, вам, может быть, оттого легче не станет, но я все равно скажу. Вы еще тогда были, я и бесился поэтому… Вы с Михаилом – образец здравого чувства.
– Как это? Я не понимаю.
– Ну, знаете, говорят про кого-то или про что-то: образец здравого смысла. Это когда очень умно, правильно, практично. Никто так не живет, но как-то меряют себя по этому. Вот и здесь. Образец здравого чувства. Это невозможно в жизни, чтобы ничего вообще вмешаться не могло – ни расчет, ни корысть, ни плотская жадность, ни даже время с расстоянием… Один раз на вас взглянуть… и все… дальше можно было локти кусать (я так и делал), а можно… Просто помнить, что это есть на земле… И жить дальше… Понимаете теперь?
– Да, понимаю, – тихо сказала Софи. – Я сама видела такое, давно, почти в детстве. Моя горничная Вера и инженер Матвей Александрович…
– Вот видите… и вы ведь не разозлились на них, не стали завидовать, разрушить пытаться…
– Нет, конечно! Мне светло от них было… Еще и потом, много лет, пока сама не смогла полюбить…
– Софи, вы сможете когда-нибудь простить меня?
– Смогу. Мне это в нынешнем настроении несложно совсем. Подумаешь, конфеты отравленные и пара похищений в прошлом… Вот третьего дня в меня из револьвера стреляли… – Софи снова стала серьезной. – Я прощу. Но сначала вы должны сами простить себя, Ефим…
– Я попытаюсь, Софи…
– Попытайтесь… мой рыцарь…
(«Прощай, леди Вера… Моя леди…» – вспомнилось Софи. В груди что-то больно ворохнулось и тут же улеглось обратно.)
Ефим молча поцеловал ее руки, поклонился и вышел из комнаты.
Вслед за его уходом в дверь снова заглянул испуганный Кока.
Из соседней спальни слышались бурные рыдания Аннет. Софи поморщилась и потерла пальцами виски. Дел оставалось еще много…
В которой Софи пишет письмо, Дашка мечтает, оккультисты остаются при своем, а инженер Измайлов кается в грехах
– Хорошо, что она нынче не явилась… Учитель так много перенес из-за нее… – Патни Сати возвела подведенные глаза к потолку.
– Отчего же из-за нее? – осведомилась другая адептка, которая недавно получила-таки новое имя. Теперь ее звали Линга Шарира. – Ведь говорят, что Ришикеш убил какой-то грубый мужик, фактически из-за стечения обстоятельств…
– Вы верите в случайности, Линга? – Патни изумленно подняла бровь. – Невозможно. Должно быть, вы просто обмолвились… Все взаимосвязано и потому предопределено… Но она… Я случайно слышала все. Она сказала, что доверилась ему, а он… Вы только представьте, Ирина посмела обвинить учителя в том, что он не воспользовался в полной мере ее возможностями для того, чтобы предотвратить убийство Ришикеш, и якобы даже воспрепятствовал каким-то ее действиям. По ее словам, нет смысла в существовании общины, которая не может защитить… Учитель был белый, как его одежды. Мне хотелось задушить ее…
– Ахимса! Ахимса! (прим. авт. – в индуизме – отказ от причинения вреда любой живой особи) – испуганно воскликнула Линга Шарира.
– Да, – кивнула Патни. – Вы правы, Линга. Я чувствую, что еще далека от совершенства. Мне понадобится много перевоплощений, прежде чем… Но я все равно рада, что Ирина больше не появится здесь. Будь она хоть самым сильным медиумом на свете…
– Я слышала, что она собирается выйти замуж…
– Исполать ей… Если зов плоти ей милее зова духа – тем лучше. Закон кармы не оставляет места случайностям… Но ведь мы с вами выше этого, не так ли, дорогая Линга?
– Ну разумеется! – Линга Шарира, небольшого от природы роста, даже приподнялась на цыпочки.
– Идемте же слушать учителя… Но я не могу понять… – с нескрываемым раздражением добавила Патни. – Зачем только он приглашает на собрания людей, заведомо непригодных к духовному росту? Неужели печального опыта Ирины и Ришикеш ему мало? Вот эта… Вы только взгляните на ее ауру… Одно время она служила у нас горничной, а теперь… я даже не могу поверить слухам…
Дашка сидела на полу, подобрав под себя ноги и тщательно расправив оборку на скромной, темно-синей юбке. От непривычной позы сводило икры и чесалось между ляжками. Преодолевая боль и зуд, она внимательно слушала, следила за тем, чтобы попусту не открывался рот, и пыталась что-то если не понять, так хоть запомнить.
– В шестую послеатлантическую эпоху, – вещал Даса. – у людей откроются новые способности. Способность к материальному оккультизму будет характерна для людей англо-саксонской расы. Техническое развитие при этом достигнет невиданных высот. Причем, моторы, например, и иные сейчас непредставимые для нас машины будут приводиться в движение человеческим голосом или даже мыслью.
У русской нации разовьется евгеническая способность. Размножение людей при этом высвободится из-под власти произвола и случая. Зачатие ребенка станет осуществляться с созвучии с определенными звездными констелляциями.
Кроме того, можно назвать гигиеническую оккультную способность. Ее развитие позволит завершить ситуацию, при которой вся человеческая жизнь – суть процесс болезни. Оздоравливающие организм силы – это те же силы, которые сейчас используются, чтобы приобрести оккультные способности. После освоения управления этими силами отпадет надобность во внешней медицине… Гигиенические оккультные способности в первую очередь будут характерны для людей восточных рас…
Дашка отключилась, на несколько мгновений погрузившись в самый настоящий сон, и едва не повалилась набок. Однако, тут же встрепенулась и огляделась. Кажется, никто не заметил… Господи, ну как бы научиться хоть что-нибудь из всего этого понимать?
Ачарья Даса сказал, что готов объяснить Дашке все, что она у него спросит… Гм-м… Если бы она еще могла что-то спросить… Но как же он хорош в своих белых одеждах! И как сверкают его глаза, когда он говорит… Чем-то неуловимым Ачарья напоминал Дашке покойного Иосифа Нелетягу, и это придавало ей уверенности в себе. Ведь Нелетяге Дашка нравилась, и он часто не отказывался провести с ней время… Стало быть, можно надеяться, что и Даса рано или поздно…
В конце концов, Дашка уже сменила стиль, не носит больше бантиков, ягодок и птичек на своих нарядах, и даже немножко похудела от нервов. Софья Павловна сказала, что все это ей, Дашке, идет, и ее похудевшее лицо стало более значительным. Софье Павловне можно верить. Уж сколько она Дашке добра сделала… Салон «Персиковая ветвь» – просто прелесть! Дашка о таком и мечтать не могла. Конечно, пока она еще не очень годится на роль «мадам» заведения подобного уровня, но… Ради дела и ради Дасы Дашка сумеет всему научиться…
Сначала Софья Павловна отправила ее в «школу» своей подруги Элен Головниной, учиться манерам и одеваться. Дашка выдержала там всего два дня. Элен была с ней очень мила, но… в присутствии этой вылизанной аристократки Дашку начинала бить нервная дрожь, хотелось немедленно нахлобучить шляпку с фруктовой корзинкой и ругаться дурными словами… Софья Павловна о чем-то догадалась и послала Дашку к Варваре Остяковой, туда, где раньше жили девушки из гадательного салона. У Варвары милая девица Валерия Львовна приняла Дашку под свое покровительство. Здесь Дашке с первого взгляда все понравилось: убранство художественного салона, игрушки, ширмы, голубой с золотом костюм Валерии, ее стройная фигура и спокойные, сдержанные манеры. Именно Валерия и подбирала в результате Дашкин новый гардероб…
– … В тибетской медицине и в западной гомеопатии уже сейчас есть начатки…
– Совершенно верно, Осор.
– А как же будет с религиями, учитель? Все они сольются в одну? Вообще исчезнут?
– В России уже сегодня существует стремление к религиозности, но существует без того, чтобы ее содержание было пронизано интеллектуальной наукой, оставаясь как бы в туманной мистике. Это служит хорошим вспомогательным средством для установления господства Запада над Востоком. Одна из наших задач – воспрепятствовать этому процессу…
– Но христианская мистическая обрядность красива, – заметил врач Вельяминов.
– Отвращение к реальности всегда сопровождается любовью к грезам. На нас лежит слишком большая ответственность, чтобы мы могли себе это позволить…
– А как же Страшный Суд? – пискнула Линга Шарира. – Что же будет…
– Читайте Библию. Апостол Павел сказал: тот, кто не признает веру, будут судимы вне закона… Нам придется взять на себя эту ношу…
– Но ведь есть отработанные институты, так сказать, облегчения ноши… Исповедь, причастие…
– Лучше быть фикусом, чем луной.
– В каком это смысле, учитель?
– Малагасийская поговорка. Я много раз слышал ее на Мадагаскаре. Фикус дает плоды и умирает один раз. Луна многократно возрождается, но всегда остается одна…
– О, подумать только, он был и на Мадагаскаре… – прошептала Линга на ухо Юленьке Платовой.
– И как это мудро и глубоко… – ответила ей Патни.
Дискуссия продолжалась…
– Что мне сделать для тебя сегодня, Андрюшечка? – с деловитостью гимназистки-отличницы спросила Элен.
Измайлов улыбнулся. Конфетная кличка сначала раздражала его, но он всегда знал, что довольно будет лишь намека, и она станет называть его Андреем Андреевичем, или господином Измайловым или еще как ему будет угодно. Сделает вообще все для него, для него одного. И это уверенное, теплое, никогда доселе не испытанное им знание примиряло со всем. Впрочем, от того, что сбылись все мечты, иногда становилось тревожно. Измайлов гнал тревогу прочь, корил себя за недоверие к жизни.
– Мне ничего такого не надо, мне с тобою и так чудесно, родная, – сказал он, поцеловал ее глаза, и как будто бы ощутил на языке вкус изливающейся из них любви. Любовь была сладкая, похожая на сбитень, с чуть ощутимым мятным привкусом.
– И мне… – прошептала Элен, и все еще неумело, тыкаясь больше носом, чем губами, целовала его грудь, живот, бедра.
Он всегда боялся щекотки и потому теперь кусал губы, стараясь не корчиться и не хихикать.
– Ты самый лучший у меня, Андрюшечка, – говорила между тем Элен, прилежно продолжая целоваться. – Милый, славный, рыжий, самый красивый…
– Старый, плешивый, неуклюжий… – продолжил он, чтобы поддразнить ее и одновременно спровоцировать на продолжение комплиментов. Никто и никогда не говорил ему столько хороших слов, сколько наконец-то «проснувшаяся» Элен. В революционных кругах, где прошла его молодость, это считалось ненужным буржуазным «сюсюканьем».
– Не говори так! – едва ли не со слезами на глазах воскликнула женщина. – Я не хочу, чтобы ты так о себе… Ты для меня самый прекрасный мужчина на свете. У тебя такие красивые глаза, и губы, и все… – Элен, чуть-чуть стесняясь, лаской очертила границы «прекрасного Измайлова», постаравшись не обидеть ни одной части. – И руки у тебя сильные и нежные. Я просто вся дрожу от счастья, когда ты ко мне прикасаешься, даже просто смотришь на меня… Единственный мой, желанный…
Измайлов длинно вздохнул. Сейчас, конечно, не время, но… Когда-то ему все равно придется сказать. Он знал за собой эту манеру – все портить. Но никогда ничего не мог с собою поделать. Элен была искренна с ним до самого последнего предела – по другому она просто не умела. Стало быть, и он не должен, не имеет права ей лгать…
– Элен, я должен тебе сказать… – начал он.
Она, с ее невероятной чуткостью к его настроениям, сразу же перестала ласкаться и отстранилась, легла рядом и даже отвела взгляд, чтобы ему легче было говорить.
– Что, Андрюшечка?
В самом тоне ее голоса была такая покорность судьбе, что он чуть не расплакался. «Она тоже не верит в вечность нашего с нею счастья, – понял он. – Но скрывает это, чтобы меня не расстраивать».
– Элен, я… был с другой женщиной… – сказал он.
– Ну и что? – удивилась она, приподнявшись и прямо взглянув на него. – Я, до того, как тебя встретила, вообще 15 лет замужем была. Что ж с того?
– Я был с нею уже после того, как тебя встретил и… и мы признались друг другу в своих чувствах. Это случилось в Сибири… – упрямо сказал Измайлов, почему-то прикидывая, кем бы назвала его Софи Домогатская, если бы слышала сейчас его идиотское (он не мог не понимать этого, но и не признаваться не мог) признание.
«Как черта помянешь, так он и…»
– А! Я поняла! – с веселой, совершенно не идущей к случаю улыбкой воскликнула между тем Элен. – Софи! Она тебя, наверное, еще по дороге обольстила, от скуки. Ты ведь ей всегда близок был, по литературной части, она тебя чувствовала хорошо. Вот ей и стало любопытно… А что она сама тебе не нравилась, так это ее всегда еще больше возбуждало… Значит, так… А потом, когда Туманова встретила, наверняка тебя бросила сразу же… Михаил для нее – все… Как ты для меня, Андрюшечка… И… долго ты мне изменял?…
– Всего один раз, – ошеломленно сообщил Измайлов. – Но я…
– Да ладно! – махнула рукой Элен. – Я привыкла давно. Мне же чуть не с детства отвергнутые кавалеры Софи доставались. Ей, как кто надоедал, она того ко мне посылала: вон, глядите, Элен Скавронская скучает. И приглядитесь к ней, она ведь очень милая, и, как разойдется, так и скучна не слишком…
Элен очень похоже передразнила низкий по тону, слегка отрывистый говорок Софи, а Измайлов обалдело поморгал глазами, в корне меняя свои представления о женской дружбе.
– И ты… ты не злишься на меня? На… Софи?
– Да кто же перед Софи устроит, если она как следует за дело возьмется? – искренне удивилась Элен. – В ней любопытства к жизни много, такой ее Бог создал. Мне она плохого никак не хотела, ей же и в голову прийти не могло, что ты каяться станешь… А тебя мне жаль, вот ты-то, наверное, потом злился и на себя, и на нее, когда Михаил появился…
– Да нет, я только на себя злился…
– Ну и не надо этого… Но… Андрюшечка, ты только про меня плохо не думай, а я все равно спрошу… Я давно хотела знать, и, раз случай вышел… Софи… она намного лучше меня, там… ну, ты понимаешь, в постели…? Мы ведь с нею одинаково воспитывались, но она…
– Ни в какое сравнение не идет! – темпераментно воскликнул Андрей Андреевич. – Уж не знаю, как ей, а мне с Софи – ничуть не понравилось. Ты – намного лучше!
(С некоторой мстительностью инженер подумал о том, что теперь, при существующей степени открытости между подругами, Элен вполне может поинтересоваться у Софи, как ей показался Измайлов в постели, и с удовольствием представил себе оторопевшее лицо Домогатской в этот момент. Интересно, что она сделает? Станет клясться подруге, что между ней и Измайловым не было близости, прибежит бить его по лицу или… во всем признается и опишет жаждущей Элен подробности?)
– Любимый мой… – Элен счастливо засмеялась и спрятала лицо у него на груди.
Измайлов помотал башкой, как это делала собака Баньши. Сказать всю правду теперь не осталось никакой возможности – он это понимал, и смирился.
Декабря, 28 числа, 1899 год от Р. Х., С-Петербург
Здравствуй, милая Надя!
Во первых строках пишу о том, что тебя более всего волнует. Увы! Хороших новостей нету. Несмотря на все усилия дорогого и модного адвоката Смидовича, которого нанял Василий, суд присяжных признал Любочку виновной и назначил ей девять месяцев заключения. Николашу Полушкина вызывали свидетелем и обвинение, и защита, но он не явился. Люба, вроде бы, приговор приняла даже с каким-то облегчением. В общем-то я это понять могу, ей многое надо решить. Василий остался при ней, и как бы не поселился в тюрьме. Охранники относятся к нему с добродушной симпатией, правда, считают сумасшедшим. Он еще ходит в Университет вольнослушателем, и устроился смотрителем на кафедру в медицинском институте, с жалованьем пятнадцать рублей в месяц. Кажется довольным вполне, и недавно хвастался, что Любочка уже его от себя не гонит, и даже два раза с ним говорила. В Егорьевске, как я поняла, всеми Васиными делами и капиталами сейчас управляет по доверенности Иван Притыков, и то – неплохо, ибо Ванечка по моему понятию порядочен, унаследовал гордеевскую хватку в полной мере и без гроша приятеля не оставит. Я полагаю, что если у Васи это безумие и есть, то его безобидная разновидность, и особо о том печалиться не стоит…
Во всяком случае, Любочка, если пожелает, тут не одна.
Скоро наступает не только год, но и век новый, однако, моя жизнь течет без особых перемен и многообразия. На том и спасибо.
Соня Щукина собирается с весною ехать обратно в Егорьевск, думаю, что Матвею она уж о том написала. Стеше, помимо основных предметов, мы наняли учителем лужского изобретателя, слегка придурковатого, но забавного. То, что они теперь в усадьбе творят, заслуживает отдельного описания. Во всяком случае никто, ни в который день не может быть спокоен от их изобретений, открытий и механических приспособлений. В последнюю неделю она увлеклась химией. Что-то будет? Мой Павлуша привязался к ней на удивление, и во всем ее слушает. Она же полагает его умным и «столичным», и то и дело по разным вещам советуется. В общем, полная гармония.
Карпуша постепенно приручается, и даже живет теперь в доме, а не в сенном сарае, и спит на белье. Правда, на том же белье спит Баньши, так что сама понимаешь… Фаня хочет забрать его, или уж переехать в усадьбу и найти здесь работу. Пока ничего толкового не выходит, но время терпит – мальчишке все равно придется еще большой путь пройти, прежде чем он окончательно человеком сделается.
Людочка все также капризничает. Все ей не так. Как Соня уедет, прямо и не знаю, как мы будем с нею справляться… Иногда думаю, что надо было ее Машеньке Гордеевой оставить, право слово. Пусть бы себе в охотку возилась, у нее, по слухам, Шурочка маленький именно такой и был…
Инженер Измайлов… Право, даже не знаю, что тебе о нем и ответить. Лучше всего правду, наверное. Ты великодушна, и оценить сумеешь.
Мне кажется, что Андрей Андреевич, насколько для него возможно, счастлив. Он нынче живет с моей лучшей подругой, Элен Головниной. Поступил на службу. Она ради него бросила все, и теперь они друг на друга не надышатся. Впрочем, Элен с моей подачи тоже не сидит без дела (дай ей волю, так она бы с утра до ночи и с ночи до утра Измайлова облизывала от пяток до лысины и надоела бы ему, как любому умному человеку, до смерти).
Потому Элен открыла салон. Довольно оригинальный. Варвара, остяка Алеши дочь, ей в том помогла (а когда-то Элен помогала самой Варваре, так и выходит, что долг – платежом красен). Знаешь, в столице сейчас много богатых, но не знатных людей, которые хотят сами научиться или детей научить… ну, аристократическому обхождению, что ли… Тут все вместе: манера одеваться, говорить, ходить, с равными, с прислугою обходиться. Я-то полагаю, что этому научиться нельзя, можно только вырасти внутри и перенять, да еще и неизвестно… Впрочем, что нам с того, если есть те, кто готов учиться, и деньги платить…
Вот у Элен теперь и есть такая вроде бы как школа. А Варвара ей первых клиентов (точнее, клиенток) обеспечила. В основном, купеческие дочки. Смешно, где-то трогательно. Но Элен занята, и делает все на совесть, как привыкла. Наверное, кому-то и польза от того есть…
Елизавета делает в музыке и композиции хорошие успехи, все ей удивляются, многие готовы принять участие в ее профессиональной судьбе, и, думаю, ее ждет в этой области большое будущее с европейскими гастролями и прочим. Недавно два профессора из Консерватории и один известный композитор ее слушали и сказали, что такой природный феномен раз в сто лет рождается. Иван Парфенович был бы доволен, если бы услышал, я думаю… Волчонок учится в коммерческом училище, не блестяще, но вполне успевает. Впрочем, главное в его жизни, по-прежнему, – сестра. Я объясняю ему, что образованным человеком он ей – больший помощник, и он мне вроде бы верит. Хотя говорить с ним, да и с Елизаветой – весьма нелегко. Если сможешь, донеси про успехи Волчонка и Лисенка до Петра Ивановича и Элайджи и, обязательно, – до Аннушки. Я думаю, Лисенок ей сама пишет, но вряд ли – хвастается.
Наше общее дело движется к завершению. Остался последний, финляндский этап. Думаю, все пройдет благополучно.
На том кончаю. Приветы Ипполиту Михайловичу, Каденьке, Матвею и всем, всем, всем…
В которой есть и прощание, и надежды, и наступает новый век
Последние дни старого года выдались дымными и теплыми. На улицах пахло мокрым углем. Адмиралтейская игла пряталась в облаках.
Софи сидела, опустив руки вдоль тела, смотрела на распятую на кресте рождественскую елочку. В Люблино ставили для детей огромную ель, всю укутанную ватой, гирляндами, серебристой и золотой мишурой, уставленную свечами и обвешанную хрупкими шарами, шишками, конфетами и засахаренными фруктами. Здесь, в Петербурге так, символ…
Несмотря на размеры, он всегда умел ходить бесшумно. Но она почувствовала его присутствие еще до того, как увидела и услышала.
Туманов стоял на пороге в мокрой волчьей шубе, с всклокоченными волосами и бородой. Некрасивость его казалась сейчас болезненной.
– Я… мы уезжаем днями. Прости, но я не мог…
– Правильно сделал, что зашел попрощаться, – бесцветно сказала Софи. – Проходи. Только, вот досада, мне сейчас надо будет уходить. У меня с братьями встреча. Гриша под новый год уезжает, так проще…
– Можно мне пойти с тобой? Я не стану мешать, даже говорить не буду, если запретишь…
– Не надо, Михаил, тебе не идет…
– Хорошо, не стану. Так – можно?
– Иди, коли хочешь. Я через четверть часа буду одеваться и поедем… Знаешь, я видела Ефима Шталь, твоего брата. Он сначала прислал мне отравленные конфеты, а потом мы помирились…
– Хочешь, я его убью? – серьезно спросил Туманов. – На всякий случай, покуда у него опять что-нибудь не поменялось…
– Нет, спасибо, не надо, – так же серьезно ответила Софи. – Пусть останется мне на память.
– Дуня говорила мне, что вы встретились…
– Отчего ты не сказал мне…
– Я бы сказал. Но ты не спрашивала. Ни имени, ничего. Я думал, ты не хочешь знать…
– Наверное, ты прав, и так все и было…
Они разговаривали из разных углов комнаты, и разлука раскинула между ними свою сеть. В ней увязало все.
Встречались на Масляном буяне, который представлял собою обширные амбары на берегу моря, в устье Пряжки у Матисова моста. Здесь разгружались с кораблей бочки с салом и с маслом, сюда же для виноторговца Шитта доставлялись бочки с коньячным спиртом. Весною и осенью приходили из Архангельска шняки (род парусных судов) с соленою трескою, семгой и камбалой.
В это время года здесь было пусто. Высились темные стены складов, валялись полузанесенные снегом разбитые бочки, налетал ветер с залива, нес снежную пыль. В переулках и тупичках между складами, где не было ветра, остро пахло морем.
Кроме братьев Домогатских, Григория и Алексея, были еще инженер Измайлов и Элен Головнина. На Туманова, который пришел с Софи, взглянули с удивлением, но из тактичности даже ничего не спросили. Элен (которую он не видел ровно десять лет, с того самого вечера, когда она явилась в игорный дом просить его оставить Софи, а он отдал ей векселя ее мужа) сняла перчатки, молча взяла в свои руки огромную кисть Михаила и ласково погладила ее, как гладят замерзших зверьков. Туманов ничего не сказал, но был тронут.
У Гриши были с собой небольшой кофр и гитара в чехле. Кофр нес Алексей и спорил с Гришей о Боге и революции. Туманову было странно такое прощание, но он невольно прислушивался, чтобы окончательно не увязнуть в своем.
– Ради одного человека стал бы Христос жертвовать? – спрашивал Алексей. – Вот вопрос, в котором вся ересь революции себя с полной силой проявляет. Для Христа ближний – один, единственный, с ним завет. Для революционеров – масса, народ, в ней человек теряется, может стать неважным. Вот – различие!
Элен, которая явно была согласна с Алексеем, невольно шагнула ближе к нему. Гриша, горячо возражая, тоже подался к брату, Софи – к Грише, стремясь еще побыть с ним перед разлукой. Туманов с Измайловым оказались сбоку, вместе.
Прочие же стояли плечом к плечу, обернув лица к морю. Перед ними все прерывалось. По сине-серому небу кровавым зайчиком прыгала северная, зимняя, вечерняя заря. Как будто кто-то расплескал в небе вино или кровь.
– Глядите, – сказал Измайлов Туманову. – Аристократы и петербуржцы. Апостолы наслаждения и боли. Ветер дует им в лицо и это правильно…
– А кому же попутный? – спросил Туманов.
– Не знаю, – Измайлов пожал плечами. – Наверное, плебеям, вроде нас с вами, или пролетариату. Ветер революции дует в спину, раздувает паруса…
– Мне лично дует в ухо… – сказал Туманов. – Очень противно. Потом на досуге решу, что это значит в рамках вашей аллегории.
После отогревались в дешевой чайной, где уже заранее чадно праздновали новый год, пахло простым весельем, кренделями, дешевой водкой и юшкой из разбитого носа.
– Может, куда поприличнее… – спросил Туманов у Измайлова.
– Не надо, опасно, – возразил тот. – К тому же, это глупо получится. Ведь здесь именно, тот народ, ради которого они…
Гриша достал гитару из чехла, тихо перебрал струны, запел. Брат и сестра подхватили.
– … теплый локоть, взмах руки,
Но молчаньем путь отмерен,
Площадь, сад, ограда сада,
Мост над призраком реки…
Я умел терять, я верил,
Горькой логике разлуки,
Обретаешь, потеряв, –
Я боюсь теперь потери…
Потери не восполнишь.
След разлуки долголетен и кровав.
Но все ближе, все острее
Эти волны приближенья
Неизбежности потерь…
Парус наш – сигнал крушенья,
Плещет клочьями на реях…
Гул в чайной почти стих. Люди слушали, подперев ладонями щеки и думая каждый о своем.
– Я никогда не слыхал… Кто это сочинил? – тихо спросил Туманов.
– Пьер, мой муж, – ответила Софи.
Туманов скрипнул зубами.
Распрощавшись с Гришей и прочими, Туманов и Софи просто шли по улицам, избегая людных мест. Можно было взять извозчика, но в ходьбе имелась какая-то разрядка. Заходили во дворы, переулки, заглядывали в окна. Словно стремились за что-то удержаться.
В одном из дворов, похожем на огромный колодец, в подвальном окне, которое когда-то было заложено кирпичом, а теперь наполовину выкрошилось, в темноте, как в раме, неподвижно сидела молодая, остроухая, беременная кошка. У нее были желтые и чистые глаза, белый воротник. В ее позе – любое потребное количество надежды и горделивой трагичности одновременно. Что ее ждет? Кто ответит? Но она уверенно смотрела в мир и внутрь себя…
Туманов указал пальцем: рядом, стеною, почти невидно пробирался большеголовый серый кот, ветеран кошачьих боев и король помоек. Вся морда в шрамах, нету одного уха и половины хвоста. Он все знал о жизни… Кошка едва заметно скосила глаза и посмотрела на него…
– Гляди! – засмеялась Софи. – Это мы с тобою. Огромный помоечный кот и самоуверенная молодая кошка. Когда-то давно. Помнишь?
– Помню… – Туманов тоже улыбнулся. Пожалуй что, через силу.
Оба думали об одном, но никто не говорил первым.
Когда увидели вывеску, без претензий совершенно: «Гостиница Придорожная», переглянулись и свернули туда, не сказав ни слова.
В простом, почти аскетично убранном номере он посадил ее к себе на колени и долго держал, не отпуская. Служанка принесла заказанный ужин, но ни один из них даже не притронулся к еде. На столе, в бутыли синего стекла стояла еловая ветвь с одною ниткою серебряной мишуры.
– Если ты не хочешь, ничего не будет, – сказал он много позже.
– Ты же знаешь, что я хочу, – возразила она.
Простыни были влажными и холодными.
– Ложись на меня, – предложил он. – Я теплый, буду для тебя простынкой.
Она послушалась.
– Как ты хочешь? Я все сделаю, мне надо, чтоб тебе было хорошо, чтоб ты запомнила…
– А ты?
– А я и так запомню, – просто ответил Туманов. – Что б ни было…
– Я хочу все равно как, но чтобы долго, – доверчиво попросила Софи и уткнулась носом в ямочку между его ключиц.
Туманов зажмурился и всею силой, которая у него только была, сдержал стон.
…
– Как занятно получилось у Измайлова и Элен… – задумчиво сказал он время спустя. – Кто бы мог представить себе… Впрочем, если она перестанет все время смотреть на него как на пряник, который записному сладкоежке разрешили съесть перед казнью, то, пожалуй, может что-то из всего этого и выйти…
– Это только кажется, – Софи помотала головой. – Элен всегда была непроста, а сейчас стала еще сложнее. В ней появилась какая-то ядовитая лебединая изгибчивость… Ведь то, что она сделала, никому даром не проходит… Ты не можешь ее разгадать, как и все. А я – знаю… Она зовет его дурацкой кличкой: Андрюшечка. Ты слышал? – Туманов кивнул. – Все слышат и думают: сю-сю-сю, глупая курица. И он сам, быть может… Но это до тех пор, пока не попробует ее назвать: Ленюшечка, не натолкнется на ее взгляд и… больше никогда не станет повторять попыток… Она – Элен, Михаил, Элен Скавронская, за ней три века родовой спеси, чести и еще Бог или черт знает чего…
– Мне трудно себе представить… – медленно сказал он. – Хотя я всегда помню, как она тогда пришла ко мне в игорный дом в сопровождении дряхлого лакея, и… стояла… Да, быть может, ты и права…
– Знаешь, моя средняя сестра теперь тоже пишет. О любви. И вот я думаю: как все нереально в романах, когда описывают близость между мужчиной и женщиной.
– Почему нереально?
– Есть какие-то обороты, и их повторяют из раза в раз, как будто бы сами в постели никогда не лежали. Смотри: «охваченные пламенем страсти» (это как еретики на костре инквизиции, что ли?); «воспарили в небесам» (там же мокро и холодно, если я что-то понимаю); «заиграла божественная музыка» (а если у кого совсем музыкального слуха нет, как у меня, к примеру)…
Теперь уже он лежал сверху, опершись на локти, чтобы не раздавить ее своим весом, с любопытством смотрел ей в глаза:
– А как ты бы сказала?
– «Весь мир со всеми концессиями, архитектурой, философией и т. п. вышел из комнаты и закрыл дверь»…
– Ну, не знаю… Как-то это очень просто, не романтично, нет образности…
Софи рассмеялась, ухватившись за его шею, приподнялась и поцеловала Михаила в губы, в глаза и в нос.
– Тогда так: ты похож на огромную черную тучу, накрывшую прибрежный лужок. Вода в речке потемнела. Вот нынче гроза начнется… Каждый из детства помнит: и страшно, и сладко. И хочется одновременно: и спрятаться куда-то, и выбежать и закричать…
– Кричи, – хрипловато сказал он. – Только не прячься…
– Куда ж мне от тебя… – прошептала она. – Иди ко мне, Мишка мой… Я буду кричать…
– Сонька, родная…
Неподвижный воздух пах яблоками и елкой, и еле слышно звучала незнакомая музыкальная тема…
(прим. авт. – разумеется, это была тема из «Шербургских зонтиков», но до нее оставалось еще почти 60 лет, она звучала из далекого будущего, и потому нашим героям была едва слышна. К тому же у Софи, как мы знаем, не было музыкального слуха…)
В новогоднюю ночь, в преддверии праздника прохожих на улицах не было совершенно. Все сидели по домам или в ресторанах. Лихачи везли куда-то опаздывающую публику. Множество народу уехало на острова. Замерзший городовой на углу Пантелеймоновской и Соляного переулка, похожий на неудачный памятник, проводил их изумленным взглядом.
Они прошли мимо ее квартиры и дошли да цепного моста через Фонтанку к Летнему саду. Остановились возле портика-пилона, к которому крепились цепи, поддерживающие пролетную конструкцию. Дальше идти было нельзя. Падал легкий бутафорский снег. Петербург стоял торжественный и ироничный.
– Это все он, Город, – сказала Софи, указывая вдаль, где над Царицыным лугом мела поземка, и стояли голые черные деревья Летнего сада. – Петербург – вот истинный режиссер всех разворачивающихся на его фоне спектаклей. Точнее, даже не «на фоне». Надо сказать: в его чреве, так как он мало-помалу переваривает всех своих жителей, делая их с течением лет все более призрачными… Мы с тобой уже почти призраки, Туманов, персонажи из легенды… Знай: я всю жизнь любила и желала только тебя. С самой первой ночи.
– Я думал, тебе тогда не понравилось…
– Я говорю о той ночи, когда ты раненный валялся в Чухонской слободе в грязи и крови. А я застрелила несчастного оборванца, нанятого влюбленной в тебя Зинаидой, и привезла тебя в игорный дом… Ты метался в бреду, одурманенный опием, доктор кривой иглой штопал тебе физиономию, а я глядела на твое распростертое тело и… тогда я даже не понимала, что именно со мной происходит… Мне жаль, что я для тебя не была…
– Софья, это не так… Ты думаешь о Саджун… Я помню, ты говорила об этом, когда считала, что я не слышу тебя. Мне кажется, я могу объяснить. Человеческие души приходят в этот мир спящими. Достаточно взглянуть на ребенка, чтобы это понять. Наверное, некоторым удается проснуться самим. Многие так и спят всю жизнь, двигаются, едят, рожают детей, покупают вещи, делают карьеру, и так и умирают, не успев пробудиться. Но большинство из проснувшихся должен кто-нибудь разбудить. Для меня это была Саджун. Для тебя – Эжен Рассен… А мы с тобой повстречались уже проснувшимися. Это – редкость…
– Ну что ж… Теперь, когда между нами все ясно, прощай?
Софи усмехнулась темными губами, как будто бы разошлись края глубокой царапины.
Он понуро кивнул, но вдруг глаза его страшно расширились.
– Софья! – он схватил ее за плечи. – Скажи мне! Там, во дворе, кошка и кот… Ты сказала: это мы с тобой, когда-то давно… Но кошка была беременной! Она ждала котят, ты не могла этого не заметить! Софья! Ты… тогда… Скажи!
– Да, – сказала Софи, глядя ему в глаза. – Да. Пьер женился на мне, когда я ждала ребенка. Павлуша – твой сын, Михаил…
– Но почему…
– Какой смысл спрашивать… теперь?
– Да, – он снова переборол боль, спрашивая себя, отчего судьба отпустила им на двоих так много сил. Какая в этом была задумка? – Никакого смысла. Но… какой он?
– Странный, – ответила Софи. – Большой. Ужасно похож на тебя внешне. Наверное, будет финансистом…
Он уходил от нее по мосту. Чистый голубой снег бережно и неторопливо заштриховывал его фигуру. Навстречу шел какой-то прохожий в старомодной крылатке.
«Вот еще один человек, у которого нет пристанища в новогоднюю ночь, – подумала Софи. – А может быть, он тоже только что с кем-то расстался…»
Поравнявшись с ней, прохожий остановился и внимательно, словно узнавая после разлуки, взглянул ей в лицо темными, странно глубокими глазами.
– Простите, мы с вами знакомы? – прошептала Софи, чувствуя какую-то непонятную дрожь.
– Вы забыли… – проговорил незнакомец и улыбнулся. – Мы встречались здесь, неподалеку, но очень, по вашим меркам, давно… Тогда это было вам нужно. И теперь… Вспомните: Петербург – целиком сочиненный город. В реальности он существует едва ли на четверть. Он так живет, и его нужно досочинять непрерывно, в этом его особая связь с жителями. Их мысли, и чувства, и мечты, и надежды заново рождают его каждый день, каждый год, каждый век… Вы понимаете меня? Сейчас, в эту минуту, на рубеже веков почти все можно исправить, переписать…
Софи потрясенно смотрела на то место, где только что был говоривший с нею человек. На льду Фонтанки, как его глаза, темнели дымящиеся полыньи. Серо-каменное тело города поудобнее устраивалось на ночь на ложе дельты. Фигура Туманова почти скрылась в лиловой дымке…
– Михаил! – крикнула она, боясь, что голос изменит ей.
Он обернулся и сразу же пошел назад, все ускоряя шаг.
Она побежала ему навстречу.
В этот миг гулко ударила пушка Петропавловской крепости, оповещая жителей столицы о том, что наступил новый год и новый век.
– Мишка… он сказал… сам Город сказал мне… – запинаясь, шептала Софи. – Я когда-то говорила с ним… раньше… а теперь не узнала… Мишка…
– Сонька… Сонька… Сонька… – повторял он, слизывая ее слезы и целуя волосы.
Двадцатый век – удивительный, прекрасный и страшный – со всеми его кровавыми войнами и революциями, потрясающими открытиями и опаляющими душу разочарованиями, вступал в свои права.
Но двум людям, которые, обнявшись, стояли на мосту, не было до этого никакого дела.
Часы в холле, прозванные Ормсбийским вороном за пронзительный хрип, прокаркали семь раз. Спустя минуту прозвучал гонг, зовущий к столу. Главы семейства это не касалось: он давно приучил домашних к своему собственному распорядку, вернее, к полному отсутствию такового. Джайлс, старший внук, испытывал по этому поводу восхищение и жгучую зависть. Увы – на все его попытки уподобиться деду тот отвечал категорической латинской фразой: “Quod licet Jovi, non licet bovi”. Так говорил когда-то один его знакомый русский, исполненный, разумеется, иррациональной мудрости, перед которой простым смертным надлежало почтительно склониться.
Только что миновал Сочельник, и в комнатах и коридорах большого, всегда полутемного дома пахло хвоей и цукатами. Стоя на верхней площадке парадной лестницы, лорд Александер Лири смотрел, как его домочадцы шествуют через холл. Эмили, прямая и стройная, как всегда – будто пламя свечи, которого не дано коснуться ветру. Старший сын и его жена, погруженные в молчаливое выяснение отношений. Наверняка они будут заниматься этим, даже если в Ормсби разразится революция или с неба рухнет метеорит. Младший сын… Внуки, числом три: девяти, семи и четырех лет. Секретарь и гувернантка. Кто бы мог подумать, что под его началом разрастется эдакое замечательное, благообразное семейство!..
Леди Эмили подняла глаза вверх и, увидев супруга, послала ему краткий укоризненный взгляд.
– Я работаю! – счел нужным объявить лорд Александер. Кевин, младший сын, ухмыльнулся и помахал ему рукой. Милорд возмущенно фыркнул и возвратился в кабинет.
Вот чего они совершенно не желали понимать: он в самом деле работал! Стопка исписанных листков на бюро росла с каждым днем. Он никому не разрешал до нее дотрагиваться. Чтобы листки не разлетались, придавливал их роскошным пресс-папье. Лиловые и сиреневые кристаллы аметиста, слепленные природой в увесистую друзу – подарок еще одного русского, давно покойного князя, любителя шелковых галстуков и сладкой туалетной воды. Этот князь тоже вошел в повествование. Под измененным именем, разумеется, – лорд Александер отнюдь не планировал покушений на чью-либо приватность, даже если речь шла об обитателях такой мифической вселенной, как Россия.
Страна Сновидений – так любят выражаться современные этнографы.
Кабинет был невелик и полон того мрачноватого уюта, который так близок сердцу британца. Бюро – напротив жарко натопленного камина; лорд Александер, будучи законченным сибаритом, использовал его отнюдь не для работы, а только для складывания листков. Писал же, сидя в мягком кресле у камина, положив на колени, вместо доски, обширный том Гете в сером переплете, с виньетками и гравюрами Доре. Когда мысль не шла, он открывал том и разглядывал иллюстрации к «Фаусту», в которых, как ему казалось, главным было то же, что и в его романе. Иногда ему хотелось поговорить с кем-нибудь об этом. Просто, чтобы уточнить собственные ощущения. Увы: из собеседников к его услугам был только вертлявый и своенравный бордер-терьер с грозной кличкой Баньши. Россия Баньши не интересовала совершенно.
Сбоку от камина широкое французское окно открывалось на галерею, с которой очень удобно было любоваться вересковой пустошью и скалами, источенными ветром. Ветер дул всегда. Теплый и сырой – с запада, принося острый запах водорослей из Ирландского моря (Oceani Hibernici, как выразился бы тот же сибирский знаток латыни); с востока – холодный, звенящий от свежести. Лорду Александеру порой казалось, что восточный ветер пахнет кедровой хвоей. И запах этот отличался от того рождественского аромата, что царил сейчас в его доме, как русский меделян от бордер-терьера.
Нет, он отнюдь не был погружен в эту тему с утра до вечера. Однако же – работа есть работа. Или ты занимаешься ею всерьез, или не стоит и начинать. Лорд Александер мог сколько угодно игнорировать пятичасовой чай и месяцами не появляться в клубе. Но его писательская репутация была обязана оставаться безупречной.
Впрочем, этой репутации мало что угрожало – в силу ее нежного возраста. Поскольку никто, кроме немногих друзей и домашних, пока не знал о том, что лорд Александер Лири, известный путешественник, политик, основатель благотворительных фондов, член Верхней палаты, и т. д., и т. п. – еще и писатель.
Мягко скрипнул паркет в коридоре, Кевин, постучав, заглянул в кабинет с простодушным вопросом:
– Очень занят? Можно, зайду на минутку?
Кевин был куда больше похож на отца, чем старший сын: та же длинная физиономия с отстраненно-заинтересованным выражением. Правда, очков он не носил и гораздо активнее, чем лорд Александер в молодости, занимался спортом. Точнее – полетами на аэропланах. Сперва для себя, теперь для отечества. Он приехал домой в отпуск неделю назад, и о чем-то еще, кроме воздухоплавания и предстоящих ему боевых подвигов, говорил с трудом.
– Летать! – с радостной ухмылкой повторил он – в сотый, наверно, раз, – придвигая к камину еще одно кресло. – Эта война, может, еще и не будет выиграна в небесах, но уж следующая – точно.
Ответная усмешка лорда Александера была совсем не такой широкой.
– Постарайся, если возможно, до следующей дожить.
– Непременно. Что может угрожать летчику? Какой-нибудь сверхвезучий снайпер… Или коммунистический заговор механиков. Кстати, всем известно: русские – лучшие авиаторы. Ты, когда путешествовал по России, с ними встречался?
– Их тогда еще не существовало в природе.
– Не может быть! Впрочем… да, если посчитать – это было как раз года за три до Райтов. Время летит фантастически быстро. Как представишь, что всего двадцать лет назад не было самых обычных вещей… А что будет еще лет через двадцать? В этой твоей России, например?
Лорд Александер издал неопределенное мычание, что, скорее всего, означало: ничего хорошего.
– Ну, должны же они наконец успокоиться.
– А если, глядя на них, разволнуется вся Европа?
– Старая песня! В эти страшилки уже никто не верит, – Кевин щелкнул пальцами. – Для удачной революции, согласно твоей же собственной теории, необходимы: «а» – несчастное детство, «бэ» – несчастная любовь и что-то еще «цэ»… пространства, наверно?
– Начнем с того, что это не моя теория. Ее сформулировал один джентльмен в тот самый вечер, когда я решил отправиться в Россию.
– Да, и хотя ты после нее побывал еще в сотне разных мест, околдовали тебя именно там. По крайней мере, мама в этом уверена.
– Еще бы, – лорд Александер самодовольно хмыкнул; и завел, слегка грассируя и гнусавя, как это было в обычае у его супруги:
– Посмотрите на этого человека! С виду – вполне вменяем, а попробуйте рядом с ним существовать. Одержимость. Mania furiosa!
– А разве нет?
– Не отрицаю. Всякий чем-нибудь одержим, иначе жить не интересно. Ты – аэропланами, например. А я вот взялся портить бумагу.
– Хотелось бы почитать.
– Успеешь.
Лорд Александер подошел к окну, потянул за ручку. Стеклянная створка отворилась, впуская в кабинет сумерки и холодный ветер с улицы.
– Не уверен, что вам это будет интересно, – пробормотал он, щурясь от ветра.
Остановился в проеме, глядя, как в темном воздухе мелькают снежинки. Вересковая равнина уже слегка посветлела от снега. Должно быть, к утру станет еще холоднее, и снег не растает.
– Русская любовь как архетип… Мм-да…
– Любовь? – недоверчиво переспросил Кевин, глядя на отца как на внезапно возникшее явление природы. – Твоя книга о любви?..
– И что? О чем, по-твоему, должны быть книги? Исключительно о политэкономии или ирландском вопросе? – лорд Александер издал агрессивное фырканье. – Да, еще – двигатели!.. Как известно, любовь среди них не последний. И вообще… Не знаю, решусь ли я. Но на всякий случай будь в курсе.
Он обернулся и смерил сына скептическим взглядом, будто прикидывая, стоит ли говорить и какова будет реакция.
– Ладно. Слушай. Далеко отсюда, в первобытном лесу, который называется «тайга», есть маленький городок, а рядом с ним – совсем маленькое кладбище. На нем – четыре могилы. Женщина и трое мужчин.
Кевин слушал внимательно, даже слегка подался вперед, взявшись за подлокотники. И явно ничего не мог понять.
– Так вот. Вполне возможно, что согласно завещанию вы похороните меня именно там. Рядом с ними. С нею. Запомни: ее звали леди Вера.
Кевин перевел дыхание. Хотел уточнить: ты, конечно, шутишь? – но не рискнул, опасаясь получить ответ. Подумал растерянно: мама-то, пожалуй, права!
Лорд Александер отвернулся. Разумеется, именно такой реакции он и ожидал. Как это они до сих пор еще к нему не привыкли? Возможно, когда-нибудь ему наскучит их дразнить.
А, может, и в самом деле…
Снег летел с темного неба, делаясь все крупнее и гуще. В холодном восточном ветре сплетались запахи хвои, кожаных ремней, свежей крови, пороха. Собачьей шерсти, к которой примерзли комочки снега. Круглые медвежьи следы на снегу – собаки вьются вокруг них, подскуливая, охотник улыбается рассеянно и нетрезво: «Хозя-аин!..».
Ничего этого уже нет, – вспомнил лорд Александер. – А то, что там сейчас есть, отсюда, из окон старого замка, стоящего на краю вересковой пустоши, невозможно не только разглядеть, но даже и представить себе. Да и действительно ли было все то, что он теперь как будто бы помнит?
Наваждение, – усмехнулся лорд Александер Лири. – Наваждение…
Отличное название для будущего романа о России…
1
Я должен говорить? (лат.)
2
Быстрее, друг, быстрее! Изложи сему блюстителю законов все по порядку… (лат.)