Книга: Расшифрованный Достоевский. Тайны романов о Христе. Преступление и наказание. Идиот. Бесы. Братья Карамазовы.
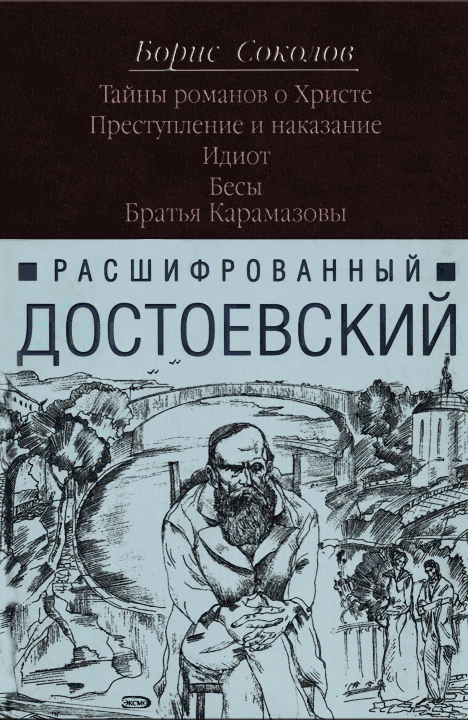
РАСШИФРОВАННЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ
Тайны романов о Христе
Преступление и наказание
Идиот
Бесы
Братья Карамазовы
•
Достоевский и христианство
Комментарий к Бердяеву
Федор Михайлович Достоевский — не просто один из величайших русских писателей. Это тот человек, по произведениям которого весь мир судит о России, о таинственной русской душе. О нем написаны тысячи книг, десятки тысяч статей, но каждая новая работа, если она действительно серьезна и глубока, лишь умножает число загадок в жизни и творчестве писателя. Не раз романы Достоевского переносились на экран, инсценировались в театрах. Их ставили великие режиссеры, персонажей Достоевского играли великие актеры, но что-то неуловимое и вместе с тем важное уходит даже из самых талантливых постановок, не постигается в самых фундаментальных исследованиях, не улавливается самыми выдающимися философами, самыми просвещенными психологами и психиатрами.
В заслугу Достоевскому ставят как небывалое до него проникновение в глубины человеческой психики, так и открытие всечеловеческого религиозного переживания страдания и любви, собственной греховности и темных страстей вместе со светлой верой в счастливую судьбу человечества и вселенскую миссию русского народа. Четыре романа заслуженно признаются вершиной творчества Достоевского, и как раз в них христианская тема выражена наиболее отчетливо в виде искупления через страдание. Это — «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». К данным романам и приковано прежде всего внимание читателей и исследователей.
В Достоевском видели первого философа-экзистенциалиста и еще при жизни писателя сравнивали его со знаменитым маркизом де Садом. И так и не поняли до конца, сознавал ли он себя великим грешником, которому потребно раскаяние, или он просто настолько сжился со своими героями, что переживал их грехи как свои собственные.
Достоевского называют также настоящим предтечей Ницше и Фрейда, первым развенчавшим комплекс сверхчеловека и заглянувшим в глубины подсознания. В то же время тягу к болезненным состояниям человеческой души связывали у Достоевского не только с тяжелейшим жизненным опытом (смертным приговором, каторгой, смертью детей), но и с его заболеванием — эпилепсией, или, как говорят на Руси, падучей болезнью, сильно повлиявшей на психику писателя.
Я попытаюсь приоткрыть завесу тайны только над некоторыми образами и героями Достоевского, ограничившись четырьмя вышеназванными романами. Как известно, в Средние века родилась теория «двойственной истины», которую на Арабском Востоке придумал Ибн-Рушд (или Аверроэс, на испанский манер, поскольку арабской тогда была большая часть Испании), а в Европе — английский богослов, философ и математик Уильям Оккам. Согласно данной теории, есть два рода истины, истина веры и истина знания, причем первая неизмеримо выше второй. Божественное откровение постигается только верой, и к нему неприменимы критерии познания окружающего нас материального мира, который, напротив, познается лишь средствами науки, грубым, эмпирическим путем. В этом мире ни одна истина не принимается на веру без доказательства. Но бесполезно искать доказательств бытия Божьего или каких-либо Божественных проявлений. В это можно только верить, в противном случае мы профанируем Бога, сольем его с нашей грешной землей.
Таким образом, истины двух родов никак нельзя смешивать в науке, иначе она не сможет развиваться. А вот в художественной литературе еще как можно. И Достоевский это блестяще сделал в своем творчестве.
Известно, что его герои нередко иллюстрируют конкретные евангельские образы и максимы. Однако при этом они остаются вполне живыми людьми и воспринимаются как реальные, хотя и довольно необычные типы. Достоевский первым открыл, что за внешне благополучной оболочкой семейной или социальной жизни могут скрываться такие психологические изломы, такие темные страсти, что современникам во второй половине XIX века они внушали подлинный ужас. Вера у Достоевского сливается с жизнью, познается через жизнь и становится главной жизнестроительной силой. Затем, когда в России меньше чем через сорок лет после смерти Достоевского грянула революция и Гражданская война и в результате к власти пришли «бесы» — большевики, творчество писателя стало восприниматься как пророчество, как предупреждение, к которому не прислушались. Позднее же, когда мир узнал кошмар Второй мировой войны, Освенцим и ГУЛАГ, романы и публицистику Достоевского сочли пророчеством уже во всемирном масштабе, пророчеством насчет того, что должно произойти от недостатка братской, христианской любви между народами.
В России настоящее понимание Достоевского пришло вскоре после его смерти. При жизни писателя его произведения были объектом полемики между либерально-народнической и консервативно-охранительной критикой. Одни отрицали антинигилистический пафос Достоевского, другие подчеркивали его почвенничество, нелюбовь к «малому народу» и полякам и лозунг «Крест на святую Софию!». Только на рубеже XIX–XX веков, когда вслед за Владимиром Соловьевым в России возникла оригинальная религиозная философия, часть интеллигенции обратилась к Богу, тогда как во времена Достоевского в ней господствовало неверие. Вот тогда и были оценены религиозные прозрения Достоевского, его предвидение революции, глубокое постижение писателем души русского народа и страстной религиозности русского нигилизма и атеизма, постановка им последних «проклятых вопросов», за полвека предвосхитившая европейский экзистенциализм. В своей книге я старался как можно полнее представить те суждения отечественных философов о Достоевском, которые, на мой взгляд, сохраняют актуальность и сегодня.
Как мне кажется, из всех философов, критиков и литературоведов глубже и точнее всех Достоевского понял Николай Александрович Бердяев. В «Мировоззрении Достоевского» он утверждал: «Искусство Достоевского все — о глубочайшей духовной действительности, о метафизической реальности, оно менее всего занято эмпирическим бытом. Конструкция романов Достоевского менее всего напоминает так называемый „реалистический“ роман. Сквозь внешнюю фабулу, напоминающую неправдоподобные уголовные романы, просвечивает иная реальность. Не реальность эмпирического, внешнего быта, жизненного уклада, не реальность почвенных типов реальны у Достоевского. Реальна у него духовная глубина человека, реальна судьба человеческого духа. Реально отношение человека и Бога, человека и дьявола, реальны у него идеи, которыми живет человек Те раздвоения человеческого духа, которые составляют глубочайшую тему романов Достоевского, не поддаются реалистической трактовке. Потрясающе гениальная обрисовка отношений между Иваном Карамазовым и Смердяковым, через которые открываются два „я“ самого Ивана, не может быть названа „реалистической“. И еще менее реалистичны отношения Ивана и черта. Достоевский не может быть назван реалистом и в смысле психологического реализма. Он не психолог, он — пневматолог и метафизик-символист. За жизнью сознательной у него всегда скрыта жизнь подсознательная, и с нею связаны вещие предчувствия. Людей связывают не только те отношения и узы, которые видны при дневном свете сознания. Существуют более таинственные отношения и узы, уходящие в глубину подсознательной жизни. У Достоевского иной мир всегда вторгается в отношения людей этого мира. Таинственная связь связывает Мышкина с Настасьей Филипповной и Рогожиным, Раскольникова со Свидригайловым, Ивана Карамазова со Смердяковым, Ставрогина с Хромоножкой и Шатовым. Все прикованы у Достоевского друг к другу какими-то нездешними узами. Нет у него случайных встреч и случайных отношений. Все определяется в ином мире, все имеет высший смысл. У Достоевского нет случайностей эмпирического реализма. Все встречи у него — как будто бы нездешние встречи, роковые по своему значению. Все сложные столкновения и взаимоотношения людей обнаруживают не объективно-предметную, „реальную“ действительность, а внутреннюю жизнь, внутреннюю судьбу людей. В этих столкновениях и взаимоотношениях людей разрешается загадка о человеке, о его пути, выражается мировая „идея“. Все это мало походит на так называемый „реалистический“ роман. Если и можно назвать Достоевского реалистом, то реалистом мистическим».
Великий русский религиозный философ творил уже в эпоху символизма. И в образах Достоевского он увидел символы иного мира, мистическое проникновение в суть отражения в тварном мире Божьего промысла.
Как заметил современный немецкий философ Райнхард Лаут, «от Достоевского начинается новое развитие. Он пробудил религиозное сознание и порыв, он указал на Христа, радикально поставив трагичность души в сердцевину жизни. Как мощный пророк, он разбудил дремлющих и позволил им заглянуть в бездну, над которой они, не подозревая того, стояли; он показал заблудшим, что их пути не ведут к небытию, и обозначил отчаявшимся дорогу к освобождению. Он разделяет с нами нашу вину, обучая нас нести виновность и в то же время показывая нам, что в темноте есть реальная возможность света. Ты и я, говорит он читателю, мы оба переживаем бездну мучений, но мы существуем, мы есть. В темнице сидим мы, но в нас есть жизнь и мы видим солнце. Если не видим его, то все же знаем, что оно есть, „а знать, что есть солнце, — это уже вся жизнь“. И потому его мощный призыв обращен к любой ищущей и во мраке страждущей душе…»
Достоевский не только совершил революционный переворот в литературе, философии, в восприятии христианства. Его творчество лежало в русле традиции русской литературы, идущей от Гоголя В связи с этим Бердяев подчеркивал: «Из великих русских писателей Достоевский непосредственно примыкает к Гоголю, особенно в первых своих повестях. Но отношение к человеку у Достоевского существенно иное, чем у Гоголя. Гоголь воспринимает образ человека разложившимся, у него нет людей, вместо людей — странные хари и морды. В этом близко к Гоголю искусство Андрея Белого. Достоевский же целостно воспринимал образ человека, открывал его в самом последнем и падшем. Когда Достоевский стал во весь свой рост и говорил свое творческое новое слово, он уже был вне всех влияний и заимствований, он — единственное, небывалое в мире творческое явление…»
Тезис о том, что Достоевский вырос из Гоголя, в особенности из гоголевской «Шинели», весьма распространен в русском литературоведении. Так, А. С. Долинин подчеркивал в статье о Достоевском в Энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, что «он начинает как верный ученик Гоголя, автора „Шинели“, и понимает обязанности художника-писателя, как учил Белинский. „Самый забитый последний человек есть тоже человек и называется брат твой“ (слова, сказанные им в „Униженных и оскорбленных“)… Даже мир — тот же гоголевский, чиновничий, по крайней мере, в большинстве случаев. И распределен он у него, согласно идее, почти всегда на две части: на одной стороне слабые, жалкие, забитые „чиновники для письма“ или честные, правдивые, болезненно чувствительные мечтатели, находящие утешение и радость в чужом счастии, а на другой — надутые до потери человеческого облика „их превосходительства“, по существу, может быть, вовсе не злые, но по положению, как бы по обязанности коверкающие жизнь своих подчиненных, и рядом с ними чиновники средней величины, претендующие на бонтонность, во всем подражающие своим начальникам».
А В. Я. Кирпотин вспоминал, как единственный раз беседовал с Михаилом Булгаковым: «Он спросил меня: кого я люблю из русских писателей? Я ответил: „Пушкина и Толстого“. Он сказал: „А я Гоголя и Достоевского“. И немного подумав, добавил: „Я давно заметил: человеку, любящему Пушкина, непременно нравится Толстой, а человеку, любящему Гоголя, Достоевский“. В общем, я согласен с ним».
Действительно, давно замечено, что в русской литературе всегда сосуществовали две линии, от Пушкина к Толстому и от Гоголя к Достоевскому, причем у каждого из этих писателей есть свой специфический круг читателей. Толстого с особенным удовольствием читают люди относительно благополучные, «правильные», ценящие стабильность жизни. Характеры у толстовских героев цельные, описания природы и людей радуют глаз. Напротив, у Достоевского герои всегда раздвоены, раздираемые духовными противоречиями, мучающиеся от сознания собственной греховности, от душевного разлада. Природу Достоевский почти не описывает, больше — замкнутые городские пространства. А если речь все же заходит о живой, не каменной природе, то пейзажи Достоевского неизменно вызывают у читателей тревогу и беспокойство. Толстой любил выводить в своих романах помещиков, хорошо знал быт дворянских усадеб. У Достоевского герои обычно не дворяне, а разночинцы. А если дворяне и выступают на сцену — в лице Свидригайлова, Ставрогина, Карамазовых, то они-то как раз и демонстрируют высшую степень душевной раздвоенности и оказываются во власти темных страстей.
Достоевский, в отличие от графа Толстого, вынужден был зарабатывать на жизнь литературным трудом. Достоевский был дворянином, поскольку его отец, Михаил Андреевич Достоевский, военный лекарь, выйдя в отставку коллежским советником в 1837 году, получил потомственное дворянство (право на него тогда давал уже чин коллежского асессора, на два класса ниже, чем коллежский советник). После этого, как водится, у Достоевских появилась фантастическая родословная (точно так же, кстати сказать, как и у Гоголя). Например, предки Федора Михайловича будто бы восходили к родовитой литовской шляхте XVI века. Якобы родоначальником рода Достоевских считается Данило Иванович Иртищ (Ртищевич, Артищевич — по другим источникам). Ему за верную службу у князя Федора Ивановича Ярославича было пожаловано село Достоево в Каменец-Подольской губернии. При этом дед писателя Андрей Михайлович каким-то образом оказывается православным священником села Войтовицы все в той же Подольской губернии, причем задолго до того, как часть польской и литовской шляхты, не имевшая крепостных, в начале XIX века была царским указом переведена в однодворцы. До этого же переход из дворянского звания в священническое был событием крайне редким, почти невероятным. Резонно предположить, что на самом деле род Достоевских был из сельских священников, а к литовскому шляхтичу Даниле Иртищу его возвели только после получения отцом писателя потомственного дворянства, чтобы внести в родословную книгу родословие побогаче. Такие фальшивые родословия широко ходили на Украине по весьма умеренной цене во времена жизни Гоголя и отца Достоевского. Отец Гоголя, когда службой заслужил право на потомственное дворянство, точно так же купил себе родословную, возводящую род Яновских к мифическому казацкому полковнику середины XVII века Андрею Гоголю, будто бы получившему шляхетство от короля Яна Казимира, но только через шесть лет после отречения последнего от престола. Очевидно, тот же случай мы имеем и с Достоевским. Так что в отличие от действительно столбовых дворян Пушкина и Толстого Гоголь и Достоевский были дворянами с более чем сомнительной родословной и, вероятно, сознавали это, хотя Гоголь порой пытался доказать окружающим ее подлинность.
Достоевский, думается, всегда считал себя разночинцем в душе. Отец ведь его дворянство приобрел службой. И самому ему пришлось год тянуть офицерскую лямку в Инженерном департаменте, затем отставка, жизнь литературным трудом, арест, смертная казнь, замененная каторгой, лишение всех прав состояния, пребывание в Мертвом доме, солдатская служба и опять существование на литературные заработки. Поэтому Достоевский и не чувствовал своей принадлежности к дворянству, хотя новый император и возвратил ему права состояния. Писатель описывал тот слой, который еще при его жизни начали называть русской интеллигенцией. Интеллигенты Раскольников, Разумихин, отец и сын Верховенские, да и другие «бесы», не исключая Ставрогина, и, конечно же, Иван Карамазов. Теми страданиями, которые он сам перенес, Достоевский щедро наделил своих героев. Потому давно замечено, что Достоевского гораздо лучше понимают и гораздо больше любят люди с изломанной судьбой, с проблемами в личной жизни, подверженные страстям, тогда как люди более спокойные и благополучные предпочитают Толстого.
Бердяев писал в «Мировоззрении Достоевского»: «В Достоевском достигает вершины русская литература, и в творчестве его выявляется этот мучительный и религиозно серьезный характер русской литературы. В Достоевском сгущается вся тьма русской жизни, русской судьбы, но в тьме этой засветил свет. Скорбный путь русской литературы, преисполненный религиозной болью, религиозным исканием, должен был привести к Достоевскому. Но в Достоевском совершается уже прорыв в иные миры, виден свет. Трагедия Достоевского, как и всякая истинная трагедия, имеет катарсис, очищение и освобождение. Не видят и не знают Достоевского те, которых он исключительно повергает в мрак, в безысходность, которых он мучит и не радует. Есть великая радость в чтении Достоевского, великое освобождение духа. Это — радость через страдание. Но таков христианский путь. Достоевский возвращает веру в человека, в глубину человека.
Этой веры нет в плоском гуманизме. Гуманизм губит человека. Человек возрождается, когда верит в Бога. Вера в человека есть вера во Христа, в Бого-Человека. Через всю жизнь свою Достоевский пронес исключительное, единственное чувство Христа, какую-то исступленную любовь к лику Христа. Во имя Христа, из бесконечной любви к Христу порвал Достоевский с тем гуманистическим миром, пророком которого был Белинский. Вера Достоевского во Христа прошла через горнило всех сомнений и закалена в огне. Он пишет в своей записной книжке: „И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и Его исповедую. Через большое горнило сомнений моя Осанна прошла“. Достоевский потерял юношескую веру в „Шиллера“ — этим именем символически обозначал он все „высокое и прекрасное“, идеалистический гуманизм. Вера в „Шиллера“ не выдержала испытания, вера в Христа выдержала все испытания. Он потерял гуманистическую веру в человека, но остался верен христианской вере в человека, углубил, укрепил и обогатил эту веру. И потому не мог быть Достоевский мрачным, безысходно-пессимистическим писателем. Освобождающий свет есть и в самом темном и мучительном у Достоевского. Это — свет Христов, который и во тьме светит. Достоевский проводит человека через бездны раздвоения — раздвоение основной мотив Достоевского, но раздвоение не губит окончательно человека. Через Бого-Человека вновь может быть восстановлен человеческий образ…
Достоевский опьянен мыслью, он весь в огневом вихре мысли. Диалектика идеи у Достоевского опьяняет, но в опьянении этом острота мысли не угасает, мысль достигает последней остроты. Те, которые не интересуются идейной диалектикой Достоевского, трагическими путями его гениальной мысли, для кого он лишь художник и психолог, те не знают много в Достоевском, не могут понять его духа. Все творчество Достоевского есть художественное разрешение идейной задачи, есть трагическое движение идей. Герой из подполья — идея, Раскольников — идея, Ставрогин, Кириллов, Шатов, П. Верховенский — идеи, Иван Карамазов — идея. Все герои Достоевского поглощены какой-нибудь идеей, опьянены идеей, все разговоры в его романах представляют изумительную диалектику идей. Все, что написано Достоевским, написано им о мировых „проклятых“ вопросах. Это менее всего означает, что Достоевский писал тенденциозные романы a these для проведения каких-либо идей. Идеи совершенно имманентны его художеству, он художественно раскрывает жизнь идей. Он — „идейный“ писатель в платоновском смысле слова, а не в том противном смысле, в каком это выражение обычно употреблялось в нашей критике. Он созерцает первичные идеи, но всегда в движении, в динамике, в трагической их судьбе, а не в покое. О себе Достоевский очень скромно говорил: „Шваховат я в философии (но не в любви к ней, в любви к ней силен)“. Это значит, что академическая философия ему плохо давалась. Его интуитивный гений знал собственные пути философствования. Он был настоящим философом, величайшим русским философом. Для философии он дает бесконечно много…
К человеку должна быть применена не арифметика, а высшая математика. Судьба человеческая никогда не основывается на той истине, что дважды два четыре. Человеческая природа никогда не может быть рационализирована. Всегда остается иррациональный остаток, и в нем — источник жизни. Невозможно рационализировать и человеческое общество. И в обществе всегда остается и действует иррациональное начало. Человеческое общество не муравейник, и не допустит человеческая свобода, которая влечет к тому, чтобы „по своей глупой воле пожить“, превращения общества в муравейник Джентльмен с ретроградной и насмешливой физиономией и есть восстание личности, индивидуального начала, восстания свободы, не допускающей никакой принудительной рационализации, никакого навязанного благополучия. Туг уже определяется глубокая вражда Достоевского к социализму, к Хрустальному Дворцу, к утопии земного рая. Это потом до глубины раскроется в „Бесах“ и в „Братьях Карамазовых“. Человек не может допустить, чтоб его превратили в „фортепианную клавишу“ и в „штифтик“. У Достоевского было исступленное чувство личности. Все его миросозерцание проникнуто персонализмом. С этим была связана и центральная для него проблема бессмертия. Достоевский — гениальный критик современного эвдемонизма, он раскрывает несовместимость его со свободой и достоинством личности».
Стоит обратить внимание на очень важную особенность творчества Достоевского, верно подмеченную Бердяевым: радость через страдание. Есть и другое название этого явления: мазохизм. А учитывая, что сам знаменитый маркиз де Сад оказал существенное влияние на автора «Бесов», «Братьев Карамазовых» (об этом — дальше), то все это вполне укладывается в классический садо-мазохистский комплекс. Достоевскому претил рационализм современной Европы, он верил, что человеческие чувства нельзя описать никакими арифметическими формулами или с помощью романтических либо сентименталистских схем. Достоевский делал это, проникая в глубины психологии и поверяя жизнь персонажей христианским учением.
Бердяев подчеркивал в «Мировоззрении Достоевского», что в творчестве писателя практически нет счастливой любви: «У Достоевского нет ни прелести любви, ни благообразия жизни семейной. Он берет человека в тот момент его судьбы, когда пошатнулись уже все устои жизни. Он не раскрывает нам высшей любви, которая ведет к подлинному соединению и слиянию. Тайна брачная не осуществляется. Любовь есть исключительно трагедия человека, раздвоение человека. Любовь есть начало в высшей степени динамическое, накаляющее всю атмосферу и вызывающее вихри, но любовь не есть достижение, в ней ничего не достигается. Она влечет к гибели. Достоевский раскрывает любовь как проявление человеческого своеволия. Она раскалывает и раздваивает человеческую природу. Поэтому она никогда не есть соединение и к соединению не приводит. В творчестве Достоевского есть лишь одна тема — трагическая судьба человека, судьба свободы человека. Любовь лишь один из моментов в этой судьбе. Но судьба человека есть лить судьба Раскольникова, Ставрогина, Кириллова, Мышкина, Версилова, Ивана, Дмитрия и Алеши Карамазовых. Это не есть судьба Настасьи Филипповны, Аглаи, Лизы, Елизаветы Николаевны, Грушеньки и Екатерины Николаевны. Это — мужская судьба. Женщина есть лишь встретившаяся в этой судьбе трудность, она не сама по себе интересует Достоевского, а лишь как внутреннее явление мужской судьбы. У Достоевского нельзя найти культа вечной женственности. И то особенное отношение, которое у него было к матери — сырой земле и к Богородице, не связано никак с его женскими образами и с изображением любви. Лишь в образе Хромоножки как будто что-то приоткрылось. Но и это обычно слишком преувеличивают. Достоевского интересует Ставрогин, а не Хромоножка. Она была лишь его судьбой. В своем творчестве Достоевский раскрывает трагический путь своего мужского духа, который был для него путем человека. Женщина играла большую роль на этом пути. Но женщина есть лишь соблазн и страсть мужчины. У Достоевского нет ничего подобного проникновению Толстого в женские образы Анны Карениной или Наташи. Анна Каренина не только имеет самостоятельную жизнь, но она главное центральное лицо. Настасья Филипповна и Грушенька — лишь стихии, в которые погружены судьбы мужчин, они не имеют своей собственной судьбы. Судьба Мышкина и Рогожина интересует Достоевского, а Настасья Филипповна есть то, в чем осуществляется эта судьба. Он не способен жить с Настасьей Филипповной так, как Толстой жил с Анной Карениной. Женская инфернальность интересует Достоевского лишь как стихия, пробуждающая мужскую страсть и раздваивающая личность мужчины. Мужчина оказывается замкнутым в себе, он не выходит из себя в другое, женское бытие. Женщина есть лишь сведение мужских счетов с самим собою, лишь решение своей мужской, человеческой темы.
Судьба человека для Достоевского есть судьба личности, личного начала в человеке. Но личное начало есть по преимуществу мужское начало. Поэтому у Достоевского такой исключительный интерес к мужской душе и незначительный интерес к душе женской. По истории женской души нельзя проследить судьбы человеческой личности. И поэтому женщина может быть интересна лишь как стихия и атмосфера, в которой протекает судьба мужчины, судьба личности по преимуществу. Мужчина у Достоевского приковывается к женщине страстью. Но это остается как бы его делом с самим собой, со своей страстной природой. Он никогда не соединяется с женщиной. И потому, быть может, так истерична женская природа у Достоевского, потому так надрывна, что она обречена на несоединенность с природой мужской. Достоевский утверждает безысходный трагизм любви. Он так и не раскрывает нам андрогинной человеческой природы. Человек остается у него трагически раздвоенным мужчиной, не имеющим своей Софии, своей Девы. Достоевский недостаточно сознавал, что природа человека — андрогинна, как то открывалось великим мистикам, Якову Беме и другим. И глубока у него была только постановка темы, что женщина — судьба человека. Но он сам оставался разъединенным с женской природой и познал до глубины лишь раздвоение. Человек для него — мужчина, а не андрогин».
Не приходится спорить, что у Достоевского мужские образы значительно ярче женских. Последние в романах Достоевского по большей части играют служебную роль. И в этом — тоже отличие от Толстого, у которого и мужские, и женские образы по крайней мере равнозначны. Между прочим, женские образы весьма слабы и у Гоголя, который, по всей видимости, никогда не имел сексуальных отношений, и нет уверенности, что он знал даже платоническую любовь. Хотя кандидатуры для такой любви и имеются, будь то графиня Анна Михайловна Виельгорская или Александра Осиповна Смирнова (Россет).
Также и у Михаила Булгакова, одного из самых талантливых продолжателей Гоголя и Достоевского, женские образы гораздо слабее мужских. Пилат, Воланд, братья Турбины значительно ярче Маргариты, Геллы или Елены Турбиной. Но о Булгакове никак нельзя сказать, что он никого и никогда не любил. У писателя было три жены, к каждой из которых он в определенный период времени испытывал сильное чувство.
Достоевский тоже любил, и любил сильно и страстно свою первую жену, Марию Исаеву, Аполлинарию Суслову, вторую жену Анну Сниткину. Об этих возлюбленных Достоевского мы подробно поговорим дальше. Пока же отметим, что общая слабость женских образов у писателей гоголевско-достоевского типа, очевидно, связана с какими-то важными психологическими качествами, отличающими их от Пушкина или Толстого.
Сразу бросается в глаза, что и Александр Сергеевич, и Лев Николаевич были изрядными донжуанами (Толстой — в первой половине жизни, до женитьбы на С. А. Берс). Ни Достоевский, ни Булгаков, ни тем более Гоголь в подобном замечены не были. И Федор Михайлович, и Михаил Афанасьевич, несомненно, знали страстную, чувственную любовь, но к немногим женщинам, и любовь эта не перегорала так быстро, как у Пушкина или Толстого. Те, кто написал «Евгения Онегина» и «Войну и мир», «Капитанскую дочку» и «Анну Каренину», в любви видели женщину как равноправного с мужчиной в чувствах партнера. А вот для Булгакова и Достоевского любимые женщины были прежде всего средством выражения их собственной писательской личности, исполняли, так сказать, служебную роль. Для Гоголя же женщин в его личной жизни вообще не существовало, он их боялся и воспринимал как «сосуд греховный». Соответственно, и женские образы у данных писателей служебны, в особенности у Гоголя.
Революция 1917 года была воспринята многими современниками как сбывшееся пророчество Достоевского. И первым об этом написал тот же Николай Бердяев. В 1918 году в статье «Духи русской революции» он отмечал: «Бессмертные образы Хлестакова, Петра Верховенского и Смердякова на каждом шагу встречаются в революционной России и играют в ней немалую роль, они подобрались к самым вершинам власти. Метафизическая диалектика Достоевского и моральная рефлексия Толстого определяют внутренний ход революции…
В образах Гоголя и Достоевского, в моральных оценках Толстого можно искать разгадки тех бедствий и несчастий, которые революция принесла нашей родине, познания духов, владеющих революцией. У Гоголя и Достоевского были художественные прозрения о России и русских людях, превышающие их время. По-разному раскрывалась им Россия, художественные методы их противоположны, но у того и у другого было поистине что-то пророческое для России, что-то проникающее в самое существо, в самые тайники природы русского человека. Толстой как художник для нашей цели не интересен. Россия, раскрывавшаяся его великому художеству, в русской революции разлагается и умирает. Он был художником статики русского быта, дворянского и крестьянского, вечное же открывалось ему как художнику лишь в элементарных природных стихиях. Толстой более космичен, чем антропологичен. Но в русской революции раскрылся и по-своему восторжествовал другой Толстой — Толстой моральных оценок, обнаружилось толстовство как характерное для русских миросозерцание и мировоззрение. Много есть русских бесов, которые раскрывались русским писателям или владели ими, — бес лжи и подмены, бес равенства, бес бесчестья, бес отрицания, бес непротивления и многие, многие другие. Все это — нигилистические бесы, давно уже терзающие Россию. В центре для меня стоят прозрения Достоевского, который пророчески раскрыл все духовные основы и движущие пружины русской революции…
Достоевскому дано было до глубины раскрыть диалектику русской революционной мысли и сделать из нее последние выводы. Он не остался на поверхности социально-политических идей и построений, он проник в глубину и обнажил метафизику русской революционности. Достоевский обнаружил, что русская революционность есть феномен метафизический и религиозный, а не политический и социальный. Так удалось ему религиозно постигнуть природу русского социализма. Русский социализм занят вопросом о том, есть ли Бог или нет Бога. И Достоевский предвидел, как горьки будут плоды русского социализма. Он обнажил стихию русского нигилизма и русского атеизма, совершенно своеобразного, не похожего на западный. У Достоевского был гениальный дар раскрытия глубины и обнаружения последних пределов. Он никогда не остается в середине, не останавливается на состояниях переходных, всегда влечет к последнему и окончательному. Его творческий художественный акт апокалиптичен, и в этом он — поистине русский национальный гений. Метод Достоевского иной, чем у Гоголя. Гоголь более совершенный художник Достоевский прежде всего великий психолог и метафизик Он вскрывает зло и злых духов изнутри душевной жизни человека и изнутри его диалектики мысли. Все творчество Достоевского есть антропологическое откровение, — откровение человеческой глубины, не только душевной, но и духовной глубины. Ему раскрываются те мысли человеческие и те страсти человеческие, которые представляют уже не психологию, а онтологию человеческой природы. У Достоевского в отличие от Гоголя всегда остается образ человека и раскрывается судьба человека изнутри. Зло не истребляет окончательно человеческого образа. Достоевский верит, что путем внутренней катастрофы зло может перейти в добро. И потому творчество его менее жутко, чем творчество Гоголя, которое не оставляет почти никакой надежды…
Для Достоевского проблема русской революции, русского нигилизма и социализма, религиозного по существу, это — вопрос о Боге и о бессмертии. „Социализм есть не только рабочий вопрос или так называемого четвертого сословия, но по преимуществу есть атеистический вопрос, вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся именно без Бога, не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю“ („Братья Карамазовы“), Можно было бы даже сказать, что вопрос о русском социализме и нигилизме — вопрос апокалиптический, обращенный к всеразрешающему концу. Русский революционный социализм никогда не мыслился как переходное состояние, как временная и относительная форма устроения общества, он мыслился всегда как окончательное состояние, как царство Божие на земле, как решение вопроса о судьбах человечества. Это — не экономический и не политический вопрос, а прежде всего вопрос духа, вопрос религиозный. „Ведь русские мальчики как до сих пор орудуют? Вот, наприм., здешний вонючий трактир, вот они и сходятся, засели в угол… О чем они будут рассуждать? О мировых вопросах, не иначе: есть ли Бог, есть ли бессмертие? А которые в Бога не веруют, ну, те о социализме и об анархизме заговорят, о переделке всего человечества по новому штату, так ведь это один же черт выйдет, все те же вопросы, только с другого конца“. Эти русские мальчики никогда не были способны к политике, к созиданию и устроению общественной жизни. Все перемешалось в их головах, и, отвергнув Бога, они сделали Бога из социализма и анархизма, они захотели переделать все человечество по новому штату и увидали в этом не относительную, а абсолютную задачу. Русские мальчики были нигилисты-апокалиптики. Начали они с того, что вели бесконечные разговоры в вонючих трактирах. И трудно было поверить, что эти разговоры о замене Бога социализмом и анархизмом и о переделке всего человечества по новому штату могут стать определяющей силой в русской истории и сокрушить Великую Россию. Русские мальчики давно уже провозгласили, что все дозволено, если нет Бога и бессмертия. Осталось блаженство на земле, как цель. На этой почве и вырос русский нигилизм, который казался многим наивным и благожелательным людям очень невинным и милым явлением».
Конечно, стиль у Достоевского по сравнению с Гоголем гораздо более тяжеловесный, грубый, необработанный. Это во многом объяснялось тем, что Достоевскому, для которого критически важны были литературные заработки, приходилось торопиться, чтобы в срок сдавать очередные порции текстов для журналов. Поэтому многие предложения Достоевского так и хочется подредактировать. Однако шероховатости стиля не мешали читателям воспринимать его главные идеи о бесах, терзающих Россию и русское сознание. Достоевский первым понял, что в России социализм — это не рациональное политическое учение, как на Западе, а род религии, призванной заменить христианство, а потому нуждающейся в утверждении в обществе нехитрой максимы: «Бога нет, и все дозволено!»
И еще одно дьявольское искушение Достоевский видел в деньгах. Помните, как в «Идиоте» Настасья Филипповна искушает Ганю Иволгина стотысячной пачкой, брошенной в камин? Иосиф Бродский в статье «О Достоевском» настаивал: «Наравне с землей, водой, воздухом и огнем, — деньги суть пятая стихия, с которой человеку чаще всего приходится считаться. В этом одна из многих — возможно, даже главная причина того, что сегодня, через сто лет после смерти Достоевского, произведения его сохраняют свою актуальность. Принимая во внимание вектор экономической эволюции современного мира, т. е. в сторону всеобщего обнищания и унификации жизненного уровня, Достоевского можно рассматривать как явление пророческое. Ибо лучший способ избежать ошибок в прогнозах на будущее — это взглянуть в него сквозь призму бедности и вины. Именно этой оптикой и пользовался Достоевский».
И он же утверждал: «Конечно же, Достоевский был неутомимым защитником Добра, то бишь Христианства. Но если вдуматься, не было и у Зла адвоката более изощренного. У классицизма он научился чрезвычайно важному принципу: прежде чем изложить свои доводы, как сильно ни ощущаешь ты свою правоту и даже праведность, следует сначала перечислить все аргументы противной стороны. Дело даже не в том, что в процессе перечисления опровергаемых доводов можно склониться на противоположную сторону: просто такое перечисление само по себе процесс весьма увлекательный. В конце концов, можно и остаться при своих убеждениях; однако, осветив все доводы в пользу Зла, постулаты истинной Веры произносишь уже скорее с ностальгией, чем с рвением. Что, впрочем, тоже повышает степень достоверности.
Но не одной только достоверности ради герои Достоевского с почти кальвинистским упорством обнажают перед читателем душу. Что-то еще заставляет Достоевского выворачивать их жизнь наизнанку и разглядывать все складки и морщинки их душевной подноготной. И это не стремление к Истине. Ибо результаты его инквизиции выявляют нечто большее, нечто превосходящее саму Истину: они обнажают первичную ткань жизни, и ткань эта неприглядна. Толкает его на это сила, имя которой — всеядная прожорливость языка, которому в один прекрасный день становится мало Бога, человека, действительности, вины, смерти, бесконечности и Спасения, и тогда он набрасывается на себя».
Достоевский одним из первых в мире понял, что величие и подлинное значение добра можно оценить только тогда, когда поймешь все мрачное величие и ужас зла. Он же открыл обольстительную привлекательность зла, его завораживающую силу. Не случайно же порок всегда легче воплотить в художественные образы, нежели добродетель. И давно замечено, что у Достоевского отрицательные герои куда ярче положительных, злодеи куда эффектнее праведников. И дело здесь в том, что для отрицательных героев Достоевского характерен всегда душевный разлом, внутренние противоречия, за их души ведут борьбу Бог и дьявол. Впрочем, чисто отрицательных и чисто положительных героев у Достоевского нет. Разве можно назвать, например, отрицательным героем Раскольникова, несмотря на весь ужас совершенного им преступления! А Иван Карамазов, идеолог, отстаивающий тезис, что раз Бога нет, то все дозволено, и одновременно делающий высшим мерилом нравственности слезинку невинного ребенка? Достоевский совмещал то, что прежде казалось несовместимым. И у таких злодеев, как Ставрогин или Свидригайлов, можно найти и существенные положительные черты, ибо они пребывают в состоянии душевного разлада и у них нет безоговорочного принятия зла.
В «Дневнике писателя» за 1877 год Достоевский писал: «Ясно и понятно до очевидности, что зло таится в человеке глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой…» Писатель осознал страшную трагедию: душа человеческая не может без зла. Раскольников, Свидригайлов, Ставрогин, Карамазовы и другие герои Достоевского иллюстрируют эту жуткую истину.
А в «Дневнике писателя» за 1873 год Достоевский утверждал: «Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русского народа есть потребность страдания, всегдашнего и неутолимого, везде и во всем. Этою жаждою страдания он, кажется, заражен искони веков».
Учитель и предтеча Бердяева Владимир Соловьев писал в «Трех речах о Достоевском»: «Достоевский никогда не идеализировал народ и не поклонялся ему как кумиру. Он верил в Россию и предсказывал ей великое будущее, но главным задатком этого будущего была в его глазах именно слабость национального эгоизма и исключительности в русском народе. Две в нем черты были особенно дороги Достоевскому. Во-первых, необыкновенная способность усваивать дух и идеи чужих народов, перевоплощаться в духовную суть всех наций — черта, которая особенно выразилась в поэзии Пушкина. Вторая, еще более важная черта, которую Достоевский указывал в русском народе, — это сознание своей греховности, неспособность возводить свое несовершенство в закон и право и успокаиваться на нем, отсюда требование лучшей жизни, жажда очищения и подвига. Без этого нет истинной деятельности ни для отдельного лица, ни для целого народа. Как бы глубоко ни было падение человека или народа, какою бы скверной ни была наполнена его жизнь, он может из нее выйти и подняться, если хочет, т. е. если признает свою дурную действительность только за дурное, только за факт, которого не должно быть, и не делает из этого дурного факта неизменный закон и принцип, не возводит своего греха в правду. Но если человек или народ не мирится с своей дурной действительностью и осуждает ее как грех, это уж значит, что у него есть какое-нибудь представление, или идея, или хотя бы только предчувствие другой, лучшей жизни, того, что должно быть. Вот почему Достоевский утверждал, что русский народ, несмотря на свой видимый звериный образ, в глубине души своей носит другой образ — образ Христов — и, когда придет время, покажет Его въявь всем народам, и привлечет их к Нему, и вместе с ними исполнит всечеловеческую задачу.
А задача эта, т. е. истинное христианство, есть всечеловеческое не в том только смысле, что оно должно соединить все народы одной верой, а, главное, в том, что оно должно соединить и примирить все человеческие дела в одно всемирное общее дело, без него же и общая вселенская вера была бы только отвлеченной формулой и мертвым догматом. А это воссоединение общечеловеческих дел, по крайней мере самых высших из них, в одной христианской идее Достоевский не только проповедовал, но до известной степени и показывал сам в своей собственной деятельности. Будучи религиозным человеком, он был вместе с тем вполне свободным мыслителем и могучим художником. Эти три стороны, эти три высшие дела не разграничивались у него между собою и не исключали друг друга, а входили нераздельно во всю его деятельность. В своих убеждениях он никогда не отделял истину от добра и красоты, в своем художественном творчестве он никогда не ставил красоту отдельно от добра и истины. И он был прав, потому что эти три живут только своим союзом. Добро, отделенное от истины и красоты, есть только неопределенное чувство, бессильный порыв, истина отвлеченная есть пустое слово, а красота без добра и истины есть кумир. Для Достоевского же это были только три неразлучные вида одной безусловной идеи. Открывшаяся в Христе бесконечность человеческой души, способной вместить в себя всю бесконечность божества, — эта идея есть вместе и величайшее добро, и высочайшая истина, и совершеннейшая красота.
Истина есть добро, мыслимое человеческим умом; красота есть то же добро и та же истина, телесно воплощенная в живой конкретной форме. И полное ее воплощение уже во всем есть конец, и цель, и совершенство, и вот почему Достоевский говорил, что красота спасет мир».
Достоевский отождествлял истину с красотой, но не с красотой вообще, а с красотой Бога. Он же первым в русской литературе открыл красоту, привлекательность зла (в мировой литературе это сделал маркиз де Сад).
Польский писатель и поэт Чеслав Милош в статье «Достоевский и религиозное воображение Запада» утверждал: «Воплощение Бога в человека можно выразить единственно языком символов и мифов. Когда вошло в обыкновение использовать язык, апеллирующий сугубо к очевидности, Воплощение оказалось наиболее непонятным. Более того, образ бесчисленных планет, кружащих в абсолютном ньютоновском пространстве, оказался труден для согласования с верой в особую привилегию, которой Бог наделил Землю. В то время как деисты превращали Бога-Отца в абстракцию, „здраво“ интерпретированное христианство делало из Иисуса произносителя воодушевительных проповедей и, в лучшем случае, этический идеал. Поэтому также христианское вероучение искало нового видения для противопоставления его идее человека-бога, призванного стать собственным своим спасителем. В восемнадцатом веке отдельные умы приходят к необычной мысли, не лишенной, быть может, сродства с идеей Адама Кадмона, предвечного, докосмического человека каббалистов. Согласно Сведенборгу, Бог на небе имеет человеческий облик, следовательно, человечество Христа есть совершенное исполнение Божества. „Человеческая божественная форма“ и Бог-человек в качестве единого Бога были заимствованы у Сведенборга Блейком. Эти два фундаментальных понятия: Божественного Человечества и Человеческого Божества по прохождении некоторого времени до того сблизились, что сегодня некоторые исследователи ошибочно интерпретируют Блейка кем-то вроде поэтического Гегеля. Достоевский был, так сказать, лишен Бога-Отца, и единственной его надеждой было полагаться на Иисуса. Противоположность между Человеком-богом и Богом-человеком выразительно обозначена в его произведениях и показательна для его биографии. Принадлежа к кружку петрашевцев, он верил в Человеко-бога, после уверовал в Бого-человека. Однако он так никогда и не смог переступить через противоречие, содержащееся в его высказывании о выборе между Христом и истиной…
Его ересь имела причиной равно любовь к России и опасения за будущее христианства. Если образованные русские сжали несколько столетий западных интеллектуальных перемен до нескольких десятилетий, то подобным же образом они, как кажется, обогнали Запад и устами Достоевского поставили человечество перед дилеммой, которую Запад должен был открыть намного позже. Дилемма эта гласила: либо общественная справедливость ценой террора, лжи и несвободы, либо невыносимая свобода, поскольку требуют ее отсутствующий Бог и невмешивающийся Христос, как в „Легенде о Великом инквизиторе“. Достоевский был убежден, что вся западная цивилизация изберет веру в человека как самоспасителя и, таким образом, окончит несвободой. Не называл ли он папу вождем коммунизма? В то же самое время, однако, он наблюдал в России отвержение христианства всей европеизированной интеллигенцией. Припертый к стене, он искал выход из ситуации, которую сам сознавал как безвыходную. Он позволил себя обольстить своей эсхатологической страсти и провозгласил русских мужиков-христиан единственной надеждой человечества. Его ересь, ересь русского Христа, засвидетельствовала, что хоть он и противился другим искушениям ради разрешения своих проблем, но противостоять искушению мессианско-националистическому он оказался не в состоянии».
Строго говоря, еретической была сама мысль о возможности противопоставления Христа и Истины, ибо для христианина два этих понятия сливаются воедино. Достоевский же, обещая в случае возникновения подобной дилеммы остаться с Христом, а не с Истиной, практически загонял себя в нравственный тупик К счастью, ему не пришлось реализовать собственную максиму о том, что Бог выше Истины, ни в литературе, ни в жизни.
И тут же Милош признает: «Однако ныне мы не можем считать религиозную мысль Достоевского лишь респектабельным памятником. Осовременивают ее грозные последствия антиномии, определившейся между наукой и миром ценностей. Многое из того, что в его времена считалось объективной, научной истиной, приоткрыло свои глубинные метафизические посылки, и наша цивилизация должна встать не перед выбором между верой и разумом, но между двумя комплексами ценностей, выступают они приоткрыто или нет. Возможно, биологи, такие как Жак Монод, заходят слишком далеко, осмеливаясь предполагать, что „анимистическая традиция была записана в генетический код нашего вида“. Но даже если забыть о генетике, история двадцатого века способна подтвердить точность уравнения, выведенного в „Легенде о Великом инквизиторе“ Достоевского. Прискорбно. Уравнение сводится к следующему: люди могут сколь угодно упорствовать, но все же принуждены выбирать — и не имеют большого выбора».
В XX веке человечество слишком часто оказывалось в ситуации дьявольского выбора между плохим и скверным, чтобы не понять героев Достоевского. В то же время в трудах Федора Михайловича отразились многие черты русского национального характера. Известный поэт и критик русской эмиграции Сергей Маковский незадолго до смерти говорил: «Мы сотворены по образу и подобию героев Достоевского. Нам бы учиться, а мы все в учителя норовим, весь мир хотим переделать», имея в виду отсутствие у русских порядка, ясности и верности данным обещаниям. До сих пор идут споры, зло или благо русский мессианизм, так ярко изображенный Достоевским. Но что интересно: если в своей публицистике писатель вдохновенно проповедовал русскую идею, призванную оздоровить мир, то в прозе героями-мессиями оказывались отнюдь не положительные герои вроде Раскольникова, Свидригайлова, Ставрогина или даже младшего Верховенского. Думаю, что Федора Михайловича до самой кончины мучили сомнения, действительно ли русский народ — народ-мессия и не выступят ли от его имени лжемессии.
Для Достоевского атеизм был абсолютным злом, он и роман под таким названием задумывал. Истинными же христианами и носителями добродетели у него могли быть только люди православные. На самом-то деле жизнь гораздо сложнее, что, кстати сказать, отразилась в романах Достоевского. История знает множество примеров, когда люди, верившие в Бога и считавшие себя христианами или представителями иных конфессий, совершали чудовищные злодеяния. В то же время многие убежденные атеисты не только совершали, например, выдающиеся научные открытия, но и оставили нам образцы гражданского мужества и высокого гуманизма. Что, разумеется, не отвергает того обстоятельств что среди христиан и других людей, верующих в Бога, были люди весьма достойные, а среди атеистов и агностиков нередко встречались законченные злодеи. Давно замечено, что атеизм — это род веры, пусть и отрицательной. Если верующие верят в то, что Бог есть (хотя в его восприятии различные конфессии весьма сильно различаются между собой), то атеисты верят, что Бога нет, агностики же не верят ни в существование Бога, ни в его отсутствие. И беда наступает не от веры или атеизма как таковых. Беда наступает тогда, когда люди ударяются в человекобожие, воздвигают себе земных кумиров. Страшны не вера или атеизм сами по себе, а те выводы, которые из них делаются. И Достоевский, может быть, помимо своей воли показал это в своих произведениях. Из атеистов безусловным носителем зла из главных героев у него оказывается только Петр Верховенский. Другие же атеисты либо в конечном счете приходят к Богу, как Раскольников, либо мечутся между верой и неверием (что было свойственно в разные периоды жизни самому Достоевскому) и в конце концов погибают (Свидригайлов, Ставрогин). Что же касается наиболее убежденного атеиста в последнем романе писателя, Ивана Карамазова, то этот герой в финале приходит к пагубности даже не атеизма как такового, а тех следствий, которые он из него делал: «Если Бога нет, то все дозволено!» И рука не поднимается зачислить Ивана в настоящие злодеи. Зато истинным злодеем оказывается Великий инквизитор, вроде бы верующий, но вздумавший себя поставить на место Христа. Так что Достоевский боролся в сущности не против атеизма, католицизма и социализма, которые считал главным злом современного мира, а против человекобожия. При этом Достоевский-психолог в романах брал верх над Достоевским-идеологом. Наиболее идеологизированные его герои, вроде Раскольникова, Свидригайлова, Ставрогина, Ивана Карамазова, Великого инквизитора, в то же время — очень психологически убедительные образы, сотканные из душевных противоречий и борений, не укладывающиеся в стереотипы отрицательных или положительных героев.
Бердяев и другие русские религиозные философы вскрыли в романах и образах Достоевского прежде всего именно это сочетание религиозности и психологизма, доказав, что экзальтированная религиозность свойственна у писателя и заведомым атеистам, что религиозный взгляд пронизывает у Достоевского все сугубо жизненные и житейские проблемы, что у него впервые с такой остротой поставлены последние, проклятые, никогда до конца не разрешимые человечеством вопросы.
•
Родион Раскольников: воскрешение великого грешника
Роман «Преступление и наказание» был впервые опубликован в 1866 году в журнале «Русский вестник» и сразу же вызвал живейший интерес публики, так что в следующем году последовало отдельное издание.
17 сентября 1863 года возлюбленная Достоевского А. П. Суслова, находившаяся вместе с ним в Турине, записала в дневнике: «Когда мы обедали, смотря на девочку, которая брала уроки, сказал: „Ну вот, представь себе, такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит: „Истребить весь город“. Всегда так было на свете“. Здесь уже присутствует идея нового Наполеона, готового на убийство ради утверждения своего права убивать, т. е. быть великой личностью, а не „тварью дрожащей“.
8 июня 1865 года перед отъездом за границу Достоевский предложил А. А. Краевскому — редактору журнала „Отечественные записки“ и газеты „Голос“ — роман „Пьяненькие“, который „будет связан с теперешним вопросом о пьянстве. Разбирается не только вопрос, но представляются и все его разветвления, преимущественно картины семейств, воспитание детей в этой обстановке и проч. Листов будет не менее двадцати, но может быть и более“. Оттуда в „Преступление и наказание“ вошли образ „пьяненького“ чиновника Мармеладова, трагические картины жизни его семьи и описание участи его детей.
Проблема пьянства на Руси волновала Достоевского на всем протяжении его творческого пути. Мягкий и несчастный Снегирев произносит: „…в России пьяные люди у нас и самые добрые. Самые добрые люди у нас и самые пьяные. Добрыми становятся люди в ненормальном состоянии. Каков же нормальный человек? Злой. Пьют добрые, но плохо поступают тоже добрые. Добрые забыты обществом, жизнью правят злые. Если в обществе процветает пьянство, то это означает, что в нем не ценятся лучшие человеческие качества“.
В „Дневнике писателя“ автор обращает внимание на пьянство фабричных после отмены крепостного права: „Народ закутил и запил — сначала с радости, а потом по привычке“. Достоевский показывает, что и при „переломе огромном и необыкновенном“ не все проблемы решаются сами собою. И после „перелома“ необходима правильная ориентация людей. Многое тут зависит от государства. Однако государство фактически поощряет пьянство и рост числа кабаков: „Чуть не половину теперешнего бюджета нашего оплачивает водка, т. е. по-теперешнему народное пьянство и народный разврат — стало быть, вся народная будущность. Мы, так сказать, будущностью нашей платим за наш величавый бюджет европейской державы. Мы подсекаем дерево в самом корне, чтобы достать поскорее плод“.
Достоевский показывает, что это происходит от неумения вести хозяйство страны. Случись чудо, — люди все разом перестанут пить, — государству пришлось бы выбирать: либо заставить их нить силой, либо — финансовый крах По Достоевскому причина пьянства социальна. Если государство отказывается заботиться о будущем народа, о нем будет думать художник: „Пьянство. Пусть ему те радуются, которые говорят: чем хуже, тем лучше. Таких теперь много. Мы же не можем без горя видеть отравленными корни народной силы“. Эта запись была сделана Достоевским в черновиках, а по существу эта мысль изложена в „Дневнике писателя“: „Ведь иссякает народная сила, глохнет источник будущих богатств, бледнеет ум и развитие, — и что вынесут в уме и в сердце своем современные дети народа, взросшие в скверне отцов своих“.
Исследователи давно уже пришли к выводу, что семейство Мармеладовых во многом списано Достоевским с семейства его первой жены МД Исаевой, в которой обыкновенно видят прототип Катерины Ивановны Мармеладовой. Но, похоже, Мария Дмитриевна послужила прототипом не только этой героини в „Преступлении и наказании“.
Для прояснения этого вопроса обратимся к истории знакомства и любви Достоевского и М. Д. Исаевой. Они познакомились в Семипалатинске, куда Достоевский был направлен после освобождения из каторжной тюрьмы в Омске. 2 марта 1854 года он был зачислен рядовым в местный 7-й саперный линейный батальон.
Прототипом Мармеладова послужил муж первой жены Достоевского. Сам Достоевский характеризовал время каторги как „страдание невыразимое, бесконечное“. Через несколько недель после переезда в Семипалатинск он сообщал брату Михаилу: „Покамест я занимаюсь службой и припоминаю старое. Здоровье мое довольно хорошо, и в эти два месяца много поправилось“. Достоевский физически окреп, нервные припадки стали редкими.
Начальник Достоевского, подполковник Беликов, читать не любил, предпочитая слушать. Вот Достоевский и занимался у него „чтением вслух“ книг и газет. Благодаря Беликову началось знакомство Достоевского с семипалатинским обществом. Позднее ему разрешено было снять комнату „с пансионом“. Хозяйка квартиры открыто торговала молодостью и красотой двоих своих дочерей 20 и 16 лет.
Достоевскому, по его словам, пришлось испытать среди каторжан „все мщение и преследование, которыми они (каторжане) живут и дышат к дворянскому сословию“. „Но вечное сосредоточение в самом себе, — писал он брату 22 февраля 1854 года, — куда я убегал от горькой действительности, принесло свои плоды“. Достоевский пришел к вере в Бога. Барон А. Е. Врангель взял его там под свое покровительство, во многом облегчи» его положение.
Супруги Исаевы приехали из Астрахани в Петропавловск в 1851 году, где Александр Иванович получил место чиновника особых поручений при начальнике Сибирского таможенного округа Но уже на следующий год семья Исаевых обустраивается в Семипалатинске. На момент знакомства с Ф. М. Достоевским Исаев лишился места по конфликту с начальством из-за участившихся запоев При этом он, по словам Достоевского, был «натура сильно развитая, добрейшая. Он был образован, понимал все».
Сама Мария Дмитриевна происходила из довольно обеспеченной семьи потомков французских эмигрантов, ее отец Д. С. Констант был директором Астраханского карантинного дома. Мария родилась в Таганроге в 1824 году, получила хорошее домашнее воспитание, училась в женском пансионе, а затем в Астраханском институте благородных девиц, где особенно отличилась на выпускных экзаменах по классу музыки и французскому языку. В 1846 году она вышла замуж за чиновника особых поручений при Астраханском комитете по перевозке казенного провианта А. И. Исаева, выходца из потомственных дворян Олонецкой губернии. В следующем году у них родился сын Паша.
Ко времени знакомства с Достоевским муж Исаевой уже несколько месяцев был без работы и сильно пил. Состояния Исаевы не имели, а кое-какие сбережения таяли, и нужда стучала в дверь их дома.
Почти все свободное время писатель проводил у Исаевых. В Марии Дмитриевне его привлекала необычайная впечатлительность, резкие порывистые движения, манера говорить. Достоевский писал брату о своей возлюбленной: «Эта дама еще молодая, 28 лет, хорошенькая, очень образованная, очень умная, добра, мила, грациозна, с превосходным, великодушным сердцем… Характер ее, впрочем, был веселый и резвый. Я почти не выходил из их дома. Что за счастливые вечера проводил я в ее обществе! Я редко встречал такую женщину».
Барон Александр Егорович Врангель, друг Достоевского, занимавший в Семипалатинске должность стряпчего по уголовным и гражданским делам, т. е. прокурора, в своих мемуарах наиболее полно описал, как развивался роман Марии Дмитриевны и Федора Михайловича. Он вспоминал: «Особенно часто он (Достоевский. — Б. С.) навещал семью Исаевых. Сидел у них по вечерам и согласился давать уроки их единственному ребенку — Паше, шустрому мальчику восьми-Девяти лет. Мария Дмитриевна Исаева была, если не ошибаюсь, дочь директора гимназии в Астрахани и вышла там замуж за учителя Исаева. Как он попал в Сибирь — не помню. Исаев был больной, чахоточный и сильно пил. Человек он был тихий и смирный. Марии Дмитриевне было лет за тридцать; довольно красивая блондинка среднего роста, очень худощавая, натура страстная и экзальтированная. Уже тогда зловещий румянец играл на ее бледном лице, и несколько лет спустя чахотка унесла ее в могилу. Она была начитанна, довольно образованна, любознательна, добра и необыкновенно жива и впечатлительна. В Федоре Михайловиче она приняла горячее участие, приласкала его, не думаю, чтобы глубоко оценила его, скорее пожалела несчастного, забитого судьбою человека. Возможно, что даже привязалась к нему, но влюблена в него ничуть не была. Она знала, что у него падучая болезнь, что у него нужда в средствах крайняя, да и человек он „без будущности“, говорила она. Федор же Михайлович чувство жалости и сострадания принял за взаимную любовь и влюбился в нее со всем пылом молодости. Достоевский пропадал у Исаевых по целым дням…
Однажды Федор Михайлович является домой хмурый, расстроенный и объявляет мне с отчаянием, что Исаев переводится в Кузнецк, верст за 500 от Семипалатинска. „И ведь она согласна, не противоречит, вот что возмутительно!“ — горько твердил он.
Действительно, вскоре состоялся перевод Исаева в Кузнецк. Отчаяние Достоевского было беспредельно; он ходил как помешанный при мысли о разлуке с Марией Дмитриевной; ему казалось, что все для него в жизни пропало. А тут у Исаевых оказались долги, пришлось все распродать — и двинуться в путь все же было не на что. Выручил их я, и собрались они наконец в путь-дорогу…
Сцену разлуки я никогда не забуду. Достоевский рыдал навзрыд, как ребенок Много лет спустя он напоминает мне об этом в своем письме от 31 марта 1865 года. Да! памятный это был день.
Мы поехали с Федором Михайловичем провожать Исаевых, выехали поздно вечером, чудною майскою ночью; я взял Достоевского в свою линейку. Исаевы поместились в открытую перекладную телегу — купить кибитку у них не было средств. Перед отъездом они заехали ко мне, на дорожку мы выпили шампанского. Желая доставить Достоевскому возможность на прощание поворковать с Марией Дмитриевной, я еще у себя здорово накатал шампанским ее муженька. Дорогою, по сибирскому обычаю, повторил; тут уж он был в полном моем распоряжении; немедленно я его забрал в свой экипаж, где он скоро и заснул как убитый. Федор Михайлович пересел к Марии Дмитриевне. Дорога была как укатанная, вокруг густой сосновый бор, мягкий лунный свет, воздух был какой-то сладкий и томный. Ехали, ехали… Но пришла пора и расстаться. Обнялись мои голубки, оба утирали глаза, а я перетаскивал пьяного, сонного Исаева и усаживал его в повозку; он немедленно же захрапел, по-видимому, не сознавая ни времени, ни места. Паша тоже спал. Дернули лошади, тронулся экипаж, поднялись клубы дорожной пыли, вот уже еле виднеется повозка и ее седоки, затихает почтовый колокольчик., а Достоевский все стоит как вкопанный, безмолвный, склонив голову, слезы катятся по щекам. Я подошел, взял его руку — он как бы очнулся после долгого сна и, не говоря ни слова, сел со мною в экипаж Мы вернулись к себе на рассвете. Достоевский не прилег — все шагал и шагал по комнате и что-то говорил сам с собою. Измученный душевной тревогой и бессонной ночью, он отправился в близлежащий лагерь на учение. Вернувшись, лежал весь день, не ел, не пил и только нервно курил одну трубку за другой…
Время взяло свое, и это болезненное отчаяние начало улегаться. С Кузнецком началась усиленная переписка, которая, однако, не всегда радовала Федора Михайловича. Он чуял что-то недоброе. К тому же в письмах были вечные жалобы на лишения, на свою болезнь, на неизлечимую болезнь мужа, на безотрадное будущее — все это не могло не угнетать Федора Михайловича. Он еще более похудел, стал мрачен, раздражителен, бродил как тень. Он даже бросил свои „Записки из Мертвого дома“, над которыми работал так недавно с таким увлечением. Любимое времяпрепровождение было, когда мы в теплые вечера растягивались на траве и, лежа на спине, глядели на мириады звезд, мерцавших из синей глубины неба. Эти минуты успокаивали его. Созерцание величия Творца, всеведомой, всемогущей Божеской силы наводило на нас какое-то умиление, сознание нашего ничтожества, как-то смиряло наш дух. О религии с Достоевским мы мало беседовали. Он был скорее набожен, но в церковь ходил редко и попов, особенно сибирских, не любил. Говорил о Христе с восторгом…
Конечно, нужда материальная изводила его, а тут еще из Кузнецка шли безотрадные вести, одна тревожнее другой. М. Д. Исаева, уехав в глушь с мужем, пьяным и вечно больным, томилась и скучала. Все письма ее были переполнены жалобами на свое полное одиночество, на страшную потребность обменяться живым словом, отвести душу. В последующих письмах все чаще и чаще ею стало упоминаться имя нового знакомого в Кузнецке, товарища мужа Марии Дмитриевны, симпатичного молодого учителя. С каждым письмом отзывы о нем становились все восторженнее и восторженнее, восхвалялась его доброта, его привязанность и его высокая душа. Достоевский терзался ревностью; жутко было смотреть на его мрачное настроение, отражавшееся на его здоровье.
Мне страшно стало жаль его, и я решился устроить ему свидание с Марией Дмитриевной на полпути между Кузнецком и Семипалатинском в Змиеве, куда еще недавно нас так радушно зазывал горный генерал Гернгросс.
Очень я рассчитывал также, что эта встреча и объяснение положат конец несчастному роману Достоевского. Но вот в чем была задача: как довезти Федора Михайловича туда, за 160 верст от Семипалатинска, так, чтобы эта поездка осталась тайной. Как я уже говорил выше, начальство таких дальних поездок не разрешало, губернатор и батальонный командир Федора Михайловича наотрез уж два раза отказали отпустить его со мною в Змиев. Ну, думаю, была не была. Открыл мой план Достоевскому. Он радостно ухватился за него; совсем ожил мой Федор Михайлович, больно уж влюблен был бедняга. Немедля я написал в Кузнецк Марии Дмитриевне, убеждая ее непременно приехать к назначенному дню в Змиев. В городе же распустил слух, что после припадка Федор Михайлович так слаб, что лежит. Дал знать и батальонному командиру Достоевского; говорю: „болен бедняга, лежит, и лечит его военный врач Lamotte“. А Lamotte, конечно, за нас, друг наш был, чудной, благородной души человек, поляк, студент бывшего Виленского университета, выслан был сюда на службу из-за политического какого-то дела. Прислуге моей было приказано всем говорить, что Достоевский болен и лежит у нас. Закрыли ставни, чтобы как будто не потревожить больного. Велено никого не принимать. На счастье наше все высшее начальство, начиная с военного губернатора, только что выехало в степи…
Еще в половине августа, находясь по делам службы в Бийске, я неожиданно получил очень возбужденное письмо от Достоевского. Он извещал меня о смерти Исаева. Все письмо дышит самой трогательной заботливостью о Марии Дмитриевне…
Привязанность Достоевского к Исаевой всегда была велика, но теперь, когда она осталась одинока, Федор Михайлович считает прямо целью своей жизни попечение о ней и ее сироте Паше. Надо знать, что ему хорошо было известно в то время, что Марии Дмитриевне нравится в Кузнецке молодой учитель Вертунов, товарищ ее покойного мужа, личность, как говорили, совершенно бесцветная. Я его не знал и никогда не видал. Не чуждо, конечно, было Достоевскому и чувство ревности, а потому тем более нельзя не преклоняться перед благородством его души: забывая о себе, он отдавал себя всецело заботам о счастии и спокойствии Исаевой.
А как тягостно было его состояние духа, удрученное желанием устроить Марию Дмитриевну, видно из его писем; например, вот несколько строк из письма Достоевского к Майкову от 18 января 1856 года:
„Я не мог писать. Одно обстоятельство, один случай, долго медливший в моей жизни и наконец посетивший меня, увлек и поглотил меня совершенно. Я был счастлив, я не мог работать. Потом грусть и горе посетили меня“.
Какая высокая душа, незлобивая, чуждая всякой зависти была у Федора Михайловича, судите сами, читая его заботливые хлопоты о своем сопернике — учителе В<ергунове>. Водном письме ко мне, о котором упоминает Орест Миллер в своем сборнике и которое затеряно, Достоевский пишет: „на коленях“ готов за него (за учителя В<ергунова>) просить. Теперь он мне дороже брата родного, не грешно просить, он того стоит… Ради Бога, сделайте хоть что-нибудь — подумайте, и будьте мне братом родным». Много ли найдется таких самоотверженных натур, забывающих себя для счастья другого.
Но вот 21 декабря 1856 года судьба наконец улыбнулась Федору Михайловичу. В письме от 21 декабря 1856 года Достоевский пишет мне: «Если не помешает одно обстоятельство, то я до масленицы женюсь, — Вы знаете на ком. Она же любит меня до сих пор… Она сама мне сказала: „Да“. То, что я писал Вам об ней летом, слишком мало имело влияния на ее привязанность ко мне. Она меня любит. Это я знаю наверно. Я знал это и тогда, когда писал Вам летом письмо мое. Она скоро разуверилась в своей новой привязанности… Еще летом по письмам ее я знал это. Мне было все открыто. Она никогда не имела тайн от меня. О, если б Вы знали, что такое эта женщина!»
Так благополучно, наконец, завершился роман Достоевского, который захватил его всего, стоил ему бессонных ночей, тревоги, здоровья и денег, но… едва ли дал ему настоящее счастье.
П. П. Семенов-Тянышанский, знавший Достоевского еще по кружку петрашевцев, навестил его в Семипалатинске. Он вспоминал: «Тут только для меня окончательно выяснилось все его нравственное и материальное положение. Несмотря на относительную свободу, которой он уже пользовался, положение было бы все же безотрадным, если бы не светлый луч, который судьба послала ему в его сердечных отношениях к Марье Дмитриевне Исаевой, в доме и обществе которой он находил себе ежедневное прибежище и самое теплое участие.
Молодая еще женщина (ей не было и тридцати лет), Исаева была женой человека достаточно образованного, имевшего хорошее служебное положение в Семипалатинске и скоро, по водворении Ф. М. Достоевского, ставшего к нему в приятельские отношения и гостеприимно принимавшего его в своем доме. Молодая жена Исаева, на которой он женился еще во время своей службы в Астрахани, была астраханская уроженка, окончившая свой курс учения с успехом в Астраханской женской гимназии, вследствие чего она оказалась самой образованной и интеллигентной из дам семипалатинского общества. Но независимо от того, как отзывался о ней Ф. М. Достоевский, она была „хороший человек“ в самом высоком значении этого слова Сошлись они очень скоро. В своем браке она была несчастлива. Муж ее был недурной человек, но неисправимый алкоголик, с самыми грубыми инстинктами и проявлениями во время своей невменяемости. Поднять его нравственное состояние ей не удалось, и только заботы о своем ребенке, которого она должна была ежедневно охранять от невменяемости отца, поддерживали ее. И вдруг явился на ее горизонте человек с такими высокими качествами души и с такими тонкими чувствами, как Ф. М. Достоевский. Понятно, как скоро они поняли друг друга и сошлись, какое теплое участие она приняла в нем и какую отраду, какую новую жизнь, какой духовный подъем она нашла в ежедневных с ним беседах и каким и она в свою очередь служила для него ресурсом во время его безотрадного пребывания в не представлявшем никаких духовных интересов городе Семипалатинске.
Во время моего первого проезда через Семипалатинск в августе 1856 года Исаевой уже там не было, и я познакомился с ней только из рассказов Достоевского. Она переехала на жительство в Кузнецк (Томской губернии), куда перевели ее мужа за непригодность к исполнению служебных обязанностей в Семипалатинске. Между нею и Ф. М. Достоевским завязалась живая переписка, очень поддерживавшая настроение обоих. Но во время моего проезда через Семипалатинск осенью обстоятельства и отношения обоих сильно изменились. Исаева овдовела, и хотя не в состоянии была вернуться в Семипалатинск, но Ф. М. Достоевский задумал о вступлении с ней в брак Главным препятствием к тому была полная материальная необеспеченность их обоих, близкая к нищете…
В январе 1857 года я был обрадован приездом ко мне Ф. М. Достоевского. Списавшись заранее с той, которая окончательно решилась соединить навсегда свою судьбу с его судьбой, он ехал в Кузнецк с тем, чтобы устроить там свою свадьбу до наступления Великого поста. Достоевский пробыл у меня недели две в необходимых приготовлениях к своей свадьбе. По нескольку часов в день мы проводили в интересных разговорах и в чтении, глава за главой, его в то время еще не оконченных „Записок из Мертвого дома“, дополняемых устными рассказами.
Понятно, какое сильное, потрясающее впечатление производило на меня это чтение и как я живо переносился в ужасные условия жизни страдальца, вышедшего более чем когда-либо с чистой душой и просветленным умом из тяжелой борьбы, в которой „тяжкий млат, дробя стекло, кует булат“. Конечно, никакой писатель такого масштаба никогда не был поставлен в более благоприятные условия для наблюдения и психологического анализа над самыми разнообразными по своему характеру Людьми, с которыми ему привелось жить так долго Одной жизнью. Можно сказать, что пребывание в „Мертвом доме“ сделало из талантливого Достоевского великого писателя-психолога.
Но не легко достался ему этот способ развития своих природных дарований. Болезненность осталась у него на всю жизнь. Тяжело было видеть его в припадках падучей болезни, повторявшихся в то время не только периодически, но даже довольно часто. Да и материальное положение его было самое тяжелое, и, вступая в семейную жизнь, он должен был готовиться на всякие лишения и, можно сказать, на тяжелую борьбу за существование».
Как видим, роман Достоевского с Исаевой был бурным, отнюдь не гладким, и даже после того, как 4 августа 1855 года А. И. Исаев скоропостижно скончался, влюбленные, разделенные сотнями километров сибирских степей, далеко не сразу соединились. При этом у Федора Михайловича появился соперник, который вначале, казалось, был удачливее его и значительно состоятельнее в материальном отношении.
По свидетельству З. А. Сытиной (Гейбович), дочери ротного командира 7-го Сибирского линейного батальона, под чьим командованием служил Достоевский, в Семипалатинске писатель расходовал свои более чем скромные средства на помощь бедным: «Получаемые им из России деньги расходовались, кроме домашних нужд, которые были очень умеренны, большею частью на бедных. Я очень хорошо знаю, что Достоевский долго содержал в Семипалатинске слепого старика татарина с семейством, и я сама несколько раз ездила с Марьей Дмитриевной, когда она отвозила месячную провизию и деньги этому бедному слепому старику».
Итак, романтическая драма, согласно воспоминаниям современников и сохранившимся письмам, развивалась следующим образом. В конце мая 1855 года семейство А. И. Исаева переезжает из Семипалатинска в город Кузнецк Томской губернии, где Исаев получил должность заседателя по корчемной части (т. е. по управлению трактирами). В августе 1855 года Достоевский получает от Марии Дмитриевны извещение о смерти мужа. Овдовевшая женщина рассказывала, что похоронила мужа на чужие деньги, что у нее ничего не осталось, кроме долгов, что кто-то прислал ей три рубля. «Достоевский немедленно выслал Марии Дмитриевне значительную сумму денег, которую сам занял с трудом. Тогда он начал хлопотать о приеме ее старшего сына в учебное заведение на казенный счет. Исаевой также помогла жена местного исправника, богача и хлебосола, Анна Николаевна Катанаева.
Узнав, что Мария Дмитриевна свободна, Достоевский отправил в Кузнецк письмо, в котором просил ее руки. Но Исаева опасалась выходить замуж за человека без средств, лишенного всех прав состояния.
А в письмах любимой Достоевский теперь заметил сдержанность и даже некоторый холодок. В одном из писем Маша спрашивала, как ей поступить и что ответить человеку, который сделал ей предложение. Этим человеком был учитель рисования местного уездного училища Николай Борисович Вергунов, уроженец Томска, не так давно переведенный в Кузнецк. Молодой человек приятной наружности, с твердым жалованьем и непьющий, был благосклонно принят вдовой, которая была старше его на восемь лет. Но ответа на предложение руки и сердца она ему не давала, не решаясь сделать выбор между ним и Достоевским.
Весть о предполагаемом замужестве Исаевой взволновала Достоевского. И он решился съездить в Кузнецк, хотя, как ссыльный, и не имел на это права. В июне 1856 года, отправившись по служебным делам в Барнаул, Достоевский на обратном пути рискнул заехать в Кузнецк „Я готов под суд идти, только бы с ней видеться“, — признавался впоследствии писатель. Два дня пребывания в Кузнецке пролетели быстро. Достоевский уехал с тяжелым сердцем. Хотя Мария Дмитриевна снова говорила, что никто не разлучит их, но он знал, что пройдет несколько дней — и все может измениться.
И едва он вернулся в Семипалатинск, как сразу получил несколько писем, в которых Мария Дмитриевна писала, что она, вероятно, выйдет замуж за Вергунова. Федор Михайлович сделал благородный жест — хлопотал перед А. Е. Врангелем о предоставлении Вергунову более выгодного места в Томске с окладом в 1000 рублей годовых.
1 октября 1856 года, после долгих и настойчивых хлопот его друзей, писатель наконец получил приказ о производстве его в прапорщики. Мария Дмитриевна сердечно поздравила его, но по-прежнему не говорила ни „да“, ни „нет“. И тогда Достоевский в конце ноября 1856 года, получив недельный отпуск, едет в Кузнецк Возвратившись в Семипалатинск, Достоевский писал Врангелю: „Если не помешает одно обстоятельство, то я до масленицы женюсь — Вы знаете на ком. Никто, кроме этой женщины, не составит моего счастья…“
Денег на свадьбу не было, но опять помогла А. Н. Катанаева. Время, пока он дожидался свадьбы, Достоевский назвал „самым критическим моментом всей жизни“.
В конце января 1857 года он в третий раз выезжает в Кузнецк, чтобы сочетаться браком с М. Д. Исаевой. 6 февраля 1857 года, в день, назначенный для бракосочетания, Одигитриевская церковь была полна народу. Благодаря Катанаевой свадьба вышла довольно пышная. Дочь чиновника Т. М. Темезова, которая присутствовала в церкви, вспоминала: „За народом едва можно было протолкаться вперед… Конечно, присутствовало в церкви все лучшее кузнецкое общество. Достоевский был в веселом расположении духа, шутил, смеялся“. Это довольно интересный факт. Как известно, Достоевский отличался характером необщительным, даже мрачным. Очевидно, здесь, в Кузнецке, под влиянием близости любимого существа, вдали от служебных обязанностей, Федор Михайлович чувствовал себя если не вполне счастливым, то удовлетворенным более или менее. Когда устраивались карты, Федор Михайлович не отказывался принимать участия, случалось ему, как другим, выигрывать или проигрывать.
Нередко видели Достоевского в его военном плаще, гуляющим по улицам города вместе с Марией Дмитриевной. Посещал он часто венчавшего его священника Евгения Тюменцева, которому после прислал в подарок свою автобиографию.
В метрической книге Одигитриевской церкви под № 17 появилась запись: „Повенчаны: служащий в Сибирском линейном батальоне № 7, прапорщик Федор Михайлович Достоевский, православного вероисповедания, первым браком, 34 лет. Невеста его: вдова Мария Дмитриевна, жена умершего заседателя по корчемной части, коллежского секретаря Александра Исаева, православного вероисповедания, вторым браком“.
Шафером со стороны жениха выступал Николай Вергунов. И это сообщало большую напряженность бракосочетанию и раскрывало в празднике венчания сложную внутреннюю драму соперничества, ревности и вражды. К какому жестокому и грозному финалу мог бы привести такой накал страстей? К бегству невесты из-под венца, к убийству мучительницы любовником, к сумасшествию покинутого жениха? Через 12 лет Достоевский увековечит эту драму в своем гениальном романе о грешнице, полюбившей праведника и убитой сладострастником».
Здесь имеется в виду судьба Настасьи Филипповны в «Идиоте».
Перед самым отъездом из Кузнецка на могилу Исаева была положена чугунная плита, изготовленная по распоряжению Марии Дмитриевны.
Вергунов же по ходатайству Достоевского получил-таки искомое место в Томске. 21 декабря 1856 года, когда вопрос о свадьбе был решен, Достоевский писал Врангелю: «…Еще просьба об ней прошу Вас на коленях. Помните, я Вам писал летом про Вергунова. Я просил Вас ходатайствовать за него у Гасфорта. Теперь он мне дороже брата родного».
Однако со стороны место Вергунову в Томске выглядело как отступное. Вскоре после свадьбы тот перебрался из Томска в Семипалатинск, где жили Достоевский с Машей. Правда, когда Достоевский в начале июля 1859 года выехал с женой и пасынком в Тверь, Вертунов за ними не последовал, остался в Семипалатинске, затем в 1863 году переехал в Барнаул, где женился, но в 1869 году опять вернулся в Семипалатинск. Там он и умер в следующем году, прожив всего лишь 38 лет. Быть может, его здоровье было подорвано несчастной любовью к Исаевой.
Дочь Достоевского Любовь, появившаяся на свет в 1869 году, через пять лет после смерти Марии Дмитриевны, утверждала в мемуарах, будто ночь накануне свадьбы Исаева провела с Вергуновым, а потом их связь возобновилась в Семипалатинске. Откуда получила такие сведения Любовь Федоровна, неизвестно. Во всяком случае, версия о том, что в самый канун свадьбы Мария Дмитриевна изменила жениху с прежним любовником, больше походит на легенду. Кузнецк тогда был городом маленьким, все про всех всё знали, и такая скандальная подробность, как измена невесты накануне свадьбы, вряд ли бы прошла мимо ушей кузнецких обывателей. Маловероятно также, чтобы Мария Дмитриевна и Николай Борисович решились на связь в Семипалатинске, где ее вряд ли можно было бы скрыть от Достоевского. Скорее всего Вергунов последовал за ускользнувшим от него предметом его любви с чисто платоническими чувствами.
Федор Михайлович любил Марию Дмитриевну, но брак их не был счастливым. После смерти жены Достоевский признался: «Мы не жили с ней счастливо». Но в женские образы своих романов он вложил черты женщины, впервые подарившей ему любовь, но заставившей страдать.
16 апреля 1864 года умерла жена. После ее смерти Достоевский записал в дневнике: «Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей?»
Е. Ф. Соловьева писала в посвященном Достоевскому биографическом очерке павленковской серии «ЖЗЛ», появившейся в 1912 году: «Хотя Достоевский и вышел из острога больной (у него появилась падучая), без денег, но жажда жизни была сильнее всего, он поспешил влюбиться. Его любовь, как, кажется, первая в жизни, была настоящей страстью. Как страсть, она вызывала ужасные муки томления, ревности. По-видимому, и М. Д была не из спокойных людей, а такая же подозрительная, ревнивая, мучительная натура, как и Достоевский. Легко вообразить себе их взаимные отношения, особенно если припомнить, что оба в то время были буквально нищие люди, что еще увеличивало их и так уже тревожное настроение. Достоевский любил, по-видимому, с каким-то самоотвержением. По крайней мере, когда после одной из бесчисленных ссор и „расставаний“ будущая жена его увлеклась кем-то другим, вот что писал он о ней барону Врангелю, не совсем удачно приняв на себя (вернее, вообразив) роль друга: „Нельзя ли пошевелить это дело (то есть выдачу пособия), чтобы оно разрешилось в пользу Марьи Дмитриевны. В ее положении такая сумма целый капитал, а в теперешнем положении — ее единственный выход. Я трепещу, чтобы она, не дождавшись этих денег, не вышла замуж У него (кто это он — неизвестно) ничего нет, у ней — тоже“. После этой ссоры влюбленные, однако, примирились. Через несколько месяцев Достоевский пишет тому же Врангелю: „Если не помешает одно обстоятельство, то я до масленицы женюсь — Вы знаете, на ком. Она же (Марья Дмитриевна) любит меня до сих пор. Она сама сказала мне „да“. То, что я писал Вам об ней летом (об ее увлечении другим), мало имело влияния на ее привязанность ко мне. Она скоро разуверилась в своей новой привязанности. Еще летом, по письмам ее, я знал об этом. Мне было все открыто. Она никогда не имела тайн от меня. О, если б Вы знали, что это за женщина!“ Это уже тон восторженно влюбленного. Повторяю, эпизод очень характерный, хотя и страшно скомканный, как в биографии, так и в воспоминаниях и даже в письмах. Любопытна вот какая черта: Достоевский, сам страстно влюбленный, берет на себя роль друга во время разрыва, устраивает, по крайней мере, заботится о чужом благополучии наперекор собственному, и это несмотря на свою страсть, на всю свою ревность. Момент сложный, едва затронутый самим Достоевским в его романе „Бесы“… Что это — самопожертвование, психопатическое смирение или, наконец, невероятная способность самосочинения, которой так много у Достоевского? Вообразил себя человек вот таким-то, потом и действует по воображаемому образцу.
Но все же несомненно, что Достоевский любил. Сам он впоследствии (1865 г.), в письме к Врангелю, так характеризует свою семейную жизнь с Марьей Дмитриевной: „Другое существо, любившее меня и которое я любил без меры, жена моя, умерла в Москве, куда переехала за год до смерти своей от чахотки. Я переехал вслед за нею, не отходил от ее постели всю зиму 1864 г., и 16 апреля прошлого года она скончалась, в полной памяти, прощаясь, вспоминала всех, кому хотела в последний раз от себя поклониться, вспомнила и об вас. Помяните ее хорошим, добрым воспоминанием. О друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с нею счастливо. Все расскажу вам при свидании, — теперь же скажу только то, что, несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно-фантастическому характеру), мы не могли перестать любить друг друга, даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. Как ни странно это, а это было так. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я знал во всю жизнь. Когда она умерла, — я хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть я ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, — но никак не мог вообразить, до какой степени стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею. И вот уж год, и чувство все то же, не уменьшается“.
Сцену смерти от чахотки Катерины Ивановны Мармеладовой в „Преступлении и наказании“, согласно замечанию второй жены писателя, Анны Григорьевны Сниткиной, „Федор Михайлович мог наблюдать у одра болезни его первой жены Марии Дмитриевны“.
Однако вряд ли М. Д. Исаева была прототипом супруги Мармеладова в основных характеристиках этой героини, кроме того, что Екатерина Ивановна, как и Мария Дмитриевна, была женой пьяницы-чиновника. Ей переданы связанные с этим переживания, равно как и все внешние признаки туберкулеза. И возраст героини — тридцать лет — совпадает с возрастом Марии Дмитриевны в тот момент, когда она впервые встретилась с Достоевским. У Катерины Ивановны, как и у первой жены Достоевского, присутствует, есть и образованность, и благородство происхождения, хотя жена Мармеладова оказывается дочерью военного, а не гражданского чиновника.
Но вот страстной любви у Катерины Ивановны к Семену Захаровичу Мармеладову в романе Достоевского нет и в помине. Думаю, что свою страстную любовь с Исаевой писатель передал Раскольникову и Соне Мармеладовой, падчерице Катерины Ивановны.
О своей жене Достоевский писал брату: „Это доброе и нежное создание, немного быстрая, скорая, сильно впечатлительная прошлая жизнь оставила на ее душе болезненные следы. Переходы в ее ощущениях быстры до невозможности“. В жизни это проявлялось в том, что Мария Дмитриевна обижалась молниеносно, повсюду видела подвохи, в гневе кричала и рыдала до обмороков, потом смиренно просила прощения, являя кротость и доброту.
Достоевский писал о своей встрече с Марией Дмитриевной: „Одно то, что женщина протянула мне руку, уже было целой эпохой в моей жизни“.
А вот как в эпилоге вспыхивает любовь между Раскольниковым и Соней, после чего каторжник наконец раскаивается полностью и сам впервые по душевному зову обращается к Евангелию:
„Вдруг подле него очутилась Соня. Она подошла едва слышно и села с ним рядом. Было еще очень рано, утренний холодок еще не смягчился. На ней был ее бедный, старый бурнус и зеленый платок Лицо ее еще носило признаки болезни, похудело, побледнело, осунулось. Она приветливо и радостно улыбнулась ему, но, по обыкновению, робко протянула ему свою руку.
Она всегда протягивала ему свою руку робко, иногда даже не подавала совсем, как бы боялась, что он оттолкнет ее. Он всегда как бы с отвращением брал ее руку, всегда точно с досадой встречал ее, иногда упорно молчал во все время ее посещения. Случалось, что она трепетала его и уходила в глубокой скорби. Но теперь их руки не разнимались; он мельком и быстро взглянул на нее, ничего не выговорил и опустил свои глаза в землю. Они были одни, их никто не видел. Конвойный на ту пору отворотился.
Как это случилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье; она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее и что настала же наконец эта минута…
Они хотели было говорить, но не могли. Слезы стояли в их глазах. Они оба были бледны и худы; но в этих больных и бледных лицах уже сияла заря обновленного будущего, полного воскресения в новую жизнь. Их воскресила любовь, сердце одного заключало бесконечные источники жизни для сердца другого.
Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще семь лет; а до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастия! Но он воскрес, и он знал это, чувствовал вполне всем обновившимся существом своим, а она — она ведь и жила только одною его жизнью!“
Можно с полным основанием предположить, что именно любовь Марии Дмитриевны в Семипалатинске окончательно обратила Достоевского к христианству вместо социализма. Только у Достоевского сначала была страсть, которая позднее сменилась постепенным охлаждением и взаимными попреками, что усугублялось болезнями обоих: эпилепсией у Достоевского, чахоткой у его жены. В результате в последние годы жизни Марии Дмитриевны у Достоевского на горизонте уже появилась молоденькая Аполлинария Суслова, которой в момент знакомства с Достоевским в 1861 году было 22 года. В „Преступлении и наказании“ же Раскольников и Соня проходят обратный путь — от споров и упреков до страстной любви.
Образ Раскольникова и общая идея романа „Преступление и наказание“ в том виде, в каком мы его знаем, родились у Достоевского осенью 1865 года. В середине сентября он из Висбадена писал редактору журнала „Русский вестник“ М. Н. Каткову, предлагая ему повесть на сюжет, совпадающий с основной фабульной линией „Преступления и наказания“. Достоевский утверждал, что работает над этой повестью уже два месяца, очевидно, имея в виду здесь и работу над первоначальным замыслом „Пьяненьких“, и что собирается ее закончить не позже чем через месяц. Объем ее, как предполагал писатель, будет составлять „от пяти до шести печатных листов“. Достоевский так излагал в письме свой новый замысел:
„Это — психологический отчет одного преступления. Действие современное, в нынешнем году. Молодой человек, исключенный из студентов университета, мещанин по происхождению и живущий в крайней бедности, по легкомыслию, по шатости в понятиях, поддавшись некоторым странным „недоконченным“ идеям, которые носятся в воздухе, решился разом выйти из скверного своего положения. Он решился убить одну старуху, титулярную советницу, дающую деньги на проценты. Старуха глупа, глуха, больна, жадна, берет жидовские проценты, зла и заедает чужой век, мучая у себя в работницах свою младшую сестру. „Она никуда не годна“, „для чего она живет?“, „полезна ли она хоть кому-нибудь?“ и т. д. Эти вопросы сбивают с толку молодого человека. Он решает убить ее, обобрать, с тем чтоб сделать счастливою свою мать, живущую в уезде, избавить сестру, живущую в компаньонках у одних помещиков, от сластолюбивых притязаний главы этого помещичьего семейства — притязаний, грозящих ей гибелью, докончить курс, ехать за границу и потом всю жизнь быть честным, твердым, неуклонным в исполнении „гуманного долга к человечеству“, чем уже, конечно, „загладится преступление“… Почти месяц он проводит после того до окончательной катастрофы. Никаких на него подозрений нет и не может быть. Тут-то и развертывается весь психологический процесс преступления. Неразрешимые вопросы восстают перед убийцею, неподозреваемые и неожиданные чувства мучают его сердце. Божия правда, земной закон берет свое, и он кончает тем, что принужден сам на себя донести. Принужден, чтобы хотя погибнуть на каторге, но примкнуть опять к людям; чувство разомкнутости и разъединенности с человечеством, которое он ощутил тотчас же по совершении преступления, замучило его. Закон правды и человеческая природа взяли свое… Преступник сам решает принять муки, чтобы искупить свое дело…
В повести моей есть, кроме того, намек на ту мысль, что налагаемое юридическ(ое) наказание за преступление гораздо меньше устрашает преступника, чем думают законодатели, отчасти потому, что он и сам его нравственно требует Это видел я даже на самых неразвитых людях, на самой грубой случайности. Выразить мне это хотелось именно на развитом, на нового поколения человеке, чтоб была ярче и осязательнее видна мысль. Несколько случаев, бывших в самое последнее время, убедили, что сюжет мой вовсе не эксцентричен. Именно, что убийца развитой и даже хороших наклонностей молодой человек Мне рассказывали прошлого года в Москве (верно) об одном студенте, выключенном из университета… — что он решился разбить почту и убить почтальона. Есть еще много следов в наших глазах о необыкновенной шатости понятий, подвигающих на ужасные дела… Одним словом, я убежден, что сюжет мой отчасти оправдывает современность“.
После возвращения в Петербург, в конце ноября 1865 г., когда с августа по октябрь было уже „много написано и готово“ для предполагаемого романа „Пьяненькие“, Достоевский, по его словам, „все сжег“ и „начал сызнова“, по „новому плану“.
История Родиона Раскольникова увлекла писателя. Уже через месяц Достоевский выслал его начало в „Русский вестник“, продолжая лихорадочно работать над продолжением романа до конца 1866 года.
Достоевский так охарактеризовал новый замысел: „Перерыть все вопросы в этом романе. Рассказ от себя, а не от него. Если же исповедь то уж слишком до последней крайности, надо все уяснять. Чтоб каждое мгновение рассказа все было ясно… Исповедью в иных пунктах будет не целомудренно и трудно себе представить, для чего написано. Но от автора. Нужно слишком много наивности и откровенности. Предположить нужно автора существом всеведущим и не погрешающим, выставляющим всем на вид одного из членов нового поколения“.
Особый интерес представляет черновая запись к „Преступлению и наказанию“ от 2 января 1866 года: „ПРАВОСЛАВНОЕ ВОЗЗРЕНИЕ, В ЧЕМ ЕСТЬ ПРАВОСЛАВИЕ: Нет счастья в комфорте, покупается счастье страданием. Таков закон нашей планеты, но это непосредственное сознание, чувствуемое житейским процессом, — есть такая великая радость, за которую можно заплатить годами страдания… Человек не родится для счастья. Человек заслуживает свое счастье, и всегда страданием.
Тут нет никакой несправедливости, ибо жизненное знание и сознание (т. е. непосредственно чувствуемое телом и духом, т. е. жизненным всем процессом) приобретается опытом pro и contra, которое нужно перетащить на себе“.
И здесь же Достоевский писал по поводу Раскольникова:
„В его образе выражается в романе мысль непомерной гордости, высокомерия и презрения к этому обществу Его идея: взять во власть это общество. Деспотизм — его черта. Она ведет напротив.
NB. В художественном исполнении не забыть, что ему 23 года.
Он хочет властвовать — и не знает никаких средств. Поскорей взять во власть и разбогатеть. Идея убийства и пришла ему готовая.
Чем бы я ни был, что бы я потом ни сделал. — был ли бы я благодетелем человечества или сосал бы из него, как паук, живые соки — мне нет дела. Я знаю, что я хочу владычествовать и довольно“.
А вот как писатель на подготовительном этапе видел Разумихина:
„Разумихин очень сильная натура и, как часто случается с сильными натурами, весь подчиняется Авд(отье) Ром(ановне). (NB. Еще и та черта, которая часто встречается у людей, хоть и благороднейших и великодушных, но грубых буянов, много грязного видевших бамбошеров — что, например, он сам себя как-то принижает перед женщиной, особенно если эта женщина изящна, горда и красавица.)
Разумихин сначала стал рабом Дуни (расторопный молодой человек, как называла его мать); принизился перед нею. Одна мысль, что она может быть его женою, казалась ему сначала чудовищною, а между тем он был влюблен беспредельно с 1-го вечера, как ее увидал. Когда она допустила возможность того, что она может быть его женой, он чуть с ума не сошел (сцена). Он хоть и любит ее ужасно, хоть по натуре самоволен и смел до нелепости, но перед ней, несмотря даже на то, что он жених, он всегда дрожал, боялся ее, а она, как избалованная, сосредоточенная и мечтательная, хоть и любила его, но иногда как будто презирала. Он не смел с ней говорить. И потому с 1 — го разу он возненавидел Соню, так как и Дуня возненавидела и оскорбила ее (зашел далеко) и поссорился через это с ним. Но потом (со 2-й половины романа), поняв, что такое Соня, он вдруг перешел на ее сторону, а Дуне сделал страшную сцену, рассорился и закутил. Но когда узнал, что Дуня была у Сони и проч. (и когда не перенес сам своего отчаяния), Дуня нашла его и спасла. Она теперь его больше уважать стала за характер. Одним словом, Разумихин — характер“.
Будущий Свидригайлов в тот момент представлялся писателю следующим образом:
„Страстные и бурные порывы, клокотание и вверх и вниз; тяжело носить самого себя (натура сильная, неудержимые, до ощущения сладострастия, порывы лжи (Иван Грозный), много подлостей и темных дел, ребенок (NB умерщвлен), хотел застрелиться. Три дня решался. Измучил бедного, который от него зависел и которого он содержал. Вместо застрелиться — жениться. Ревность. (Оттягал 100 000.) Клевета на жену. Выгнал или убил приживальщика. Бес мрачный, от которого не может отвязаться. Вдруг решимость изобличить себя, всю интригу; покаяние, смирение, уходит, делается великим подвижником, смирение, жажда претерпеть страдание. Себя предает. Ссылка. Подвижничество.
„Гнусно подражать народу не хочу“. Все-таки нет смирения, борьба с гордостью.
Страстные и бурные порывы. Никакой холодности и разочарованности, ничего пущенного в ход Байроном. Непомерная и ненасытимая жажда наслаждений. Жажда жизни неутолимая. Многообразие наслаждений и утолений. Совершенное сознание и анализ каждого наслаждения, без боязни, что оно оттого ослабеет, потому что основано на потребности самой натуры, телосложения. Наслаждения артистические до утонченности и рядом с ними грубые, но именно потому, что чрезмерная грубость соприкасается с утонченностию (отрубленная голова). Наслаждения психологические. Наслаждения уголовные нарушением всех законов. Наслаждения мистические (страхом ночью). Наслаждения покаянием, монастырем (страшным постом и молитвой). Наслаждения нищенские (прошением милостыни). Наслаждения Мадонной Рафаэля. Наслаждения кражей, наслаждения разбоем, наслаждения самоубийством. (Получив наследство 35 лет, до тех пор был учителем или чиновником, боялся начальства). (Вдовец). Наслаждения образованием (учится для этого). Наслаждения добрыми делами“.
Примечательна и авторская характеристика Лужина:
„При тщеславии и влюбленности в себя, до кокетства, мелочность и страсть к сплетне. Он вошел душою и сердцем во вражду к Соне, назло Раскольникову, единственно потому, что тот сказал, что он мизинца ее не стоит, и с жаром говорил о ее подвиге. Лужин смеялся тогда над этим подвигом и потом возненавидел Соню до личной ненависти и даже вошел в интересы Лебезятникова и связался с ним, чтоб унизить Соню.
Раскольникова же он постоянно считает врагом своим злейшим. Даже делами неглижирует своими, увлекаемый этой враждою.
Он связывается с Рейслер и грозит Соне.
Но Лужин, человек, выбившийся из семинаристов, из низкого звания и из рутины, — все-таки человек не ординарный. Назло себе все-таки он не может не признать достоинств в Соне и вдруг влюбляется и пристает к ней до последнего (трагедия).
Он связался с следователем, чтоб вредить Раскольникову. Сплетни Рейслер.
Он потому было влюбился в Дуню, что та красива и горда, а его тщеславию лестно было, что вот, дескать, какая у меня жена, и 2) лестно было самому, до сладострастия, что вот, дескать, я господствую и деспотирую над такой прекрасной, гордой, добродетельной и сильного характера.
Он скуп. В его скупости нечто из пушкинского Скупого барона. Он поклонился деньгам, ибо все погибает, а деньги не погибнут; я, дескать, из низкого звания и хочу непременно быть на высоте лестницы и господствовать. Если способности, связи и проч. мне манкируют, то деньги зато не манкируют, и потому поклонюсь деньгам“.
Уже на этой ранней стадии работы над романом Достоевский провозглашает, что „покупается счастье страданием“. Поэтому ни в „Преступлении и наказании“, ни в „Бесах“, ни в „Идиоте“, ни в „Братьях Карамазовых“ не может быть банального хеппи-энда. Свидригайлова Достоевский уже представлял бесом, а одну из причин торжества злого начала в его душе писатель видел в том, что он презирает народ и не желает „гнусно подражать“ ему.
Место жительства Раскольникова в романе — район Столярного переулка (здесь, на углу Малой Мещанской ул., в доме И. М. Алонкина жил, в 1864–1867 гг. и сам писатель) — это след неосуществленного замысла „Пьяненькие“. „В Столярном переулке, — писала газета „Петербургский листок“ в марте 1865 года, — находится 16 домов (по 8 с каждой стороны улицы).
В этих 16 домах помещается 18 питейных заведений, так что желающие насладиться подкрепляющей и увеселяющей влагой, придя в Столярный переулок, не имеют даже никакой необходимости смотреть на вывески: входи себе в любой дом, даже на любое крыльцо, — везде найдешь вино“. Рядом, на Вознесенском проспекте, помещалось еще 6 трактиров (один из них посещает в романе Свидригайлов), 19 кабаков, 11 пивных, 10 винных погребов и 5 гостиниц.
Однако в процессе работы над романом Достоевский решил, что „наполеоновский комплекс“ у многих представителей современной молодежи представляет куда большую опасность, чем исконное, природное русское пьянство.
В основе преступления Раскольникова лежит действительный случай. В 1861 году по инициативе Достоевского в журнале „Время“ был опубликован отчет об одном уголовном деле во Франции под заглавием „Процесс Ласенера“. Некий Пьер Франсуа Ласенер — убийца и вор, приговоренный в 1835 году к смертной казни, объявил себя в изданных посмертно мемуарах и стихах „идейным убийцей“, борцом с социальной несправедливостью, „жертвой своего века“, „человекобогом“, сбросившим „нравственные оковы“. В примечании к публикации отчета об этом процессе Достоевский писал, что процессы, подобные делу Ласенера. „занимательнее всевозможных романов, потому что освещают такие темные стороны человеческой души, которых искусство не любит касаться, а если и касается, то мимоходом, в виде эпизода… Дело идет о личности человека феноменальной, загадочной, страшной и интересной. Низкие источники и малодушие перед нужной сделали его преступником, а он осмеливается выставлять себя жертвой своего века…> В поэме „Ласенер-поэт“, вошедшей в его сборник „Незабудка“ (1838), Моро с негодованием обрушился на Ласенера, который осмелился называть себя поэтом, „в старушечьей крови сбирая луидоры“. Ласенер утверждал, что „идея“ индивидуального мщения обществу родилась у него под влиянием революционных и утопических социалистических идеалов эпохи, что он поэт-революционер, мститель обществу. Отсюда же проистекает и идейность Раскольникова. Ласенер с помощью своего подручного Аврила 14 декабря 1834 года (н. ст.) убил 60-летнюю больную старуху Шардон, прикованную к постели, и ее сына. Ласенер подозревал, что у нее припрятаны 10 000 франков и серебряные вещи. Орудием убийства послужил трехгранный терпуг; заостренный с обоих концов. Аврил же орудовал молотком. Но нашли они только 500 франков и несколько серебряных столовых приборов, плащ и черную шелковую шапку. В последний момент убийцы прихватили статую Мадонны из слоновой кости, думая, что это дорогая вещь. Но когда антиквары дали за нее только три франка, Ласенер и Аврил предпочли ее уничтожить, чтобы не оставлять улик.
Раскольников же первоначально приносит в заклад старухе-процентщице серебряные часы, а затем якобы собирается отдать в заклад серебряный портсигар, чтобы иметь повод встретиться со старухой и убить ее. Родион Романович рассчитывает раздобыть у Алены Ивановны три тысячи рублей что ассоциируется с христианской Троицей Но его реальная добыча оказывается гораздо скромнее. Как и Ласенер, Раскадьников убивает двоих — противную старуху процентщицу и ее кроткую сестру Лизавету, и тоже использует довольно нетрадиционное орудие убийства, отказавшись от классического ножа. Но если Ласенер взял с собой на дело напильник (терпуг), то Раскольников воспользовался более подходящим для мужицкой России орудием убийства. Писатель как бы спародировал здесь Н. Г. Чернышевского и его товарищей, звавших Русь к топору. Но, потрясенный гибелью Лизаветы, которую он хотел освободить от тирании сестры, герой Достоевского, не заметив крупной суммы денег на комоде, довольствуется грошовыми серьгами и колечками, а также кошельком с небольшой суммой денег, которой так и не воспользовался.
Уже на суде выяснилось, что „в кошельке оказалось триста семнадцать рублей серебром и три двугривенных; от долгого лежанья под камнем некоторые верхние, самые крупные, бумажки чрезвычайно попортились“. Сумма оказывается почти в 10 раз меньше, чем рассчитывал Раскольников, но и в ней назойливо дважды повторяется цифра „три“, опять заставляя вспомнить о Божественной Троице.
Между прочим, А. Г. Достоевская вспоминала: „Ф.М. в первые недели нашей брачной жизни, гуляя со мной, завел меня во двор одного дома и показал камень, под которым его Раскольников спрятал украденные у старухи вещи. Двор этот находится по Вознесенскому проспекту, второй от Максимилиановского переулка, на его месте построен громадный дом, где теперь редакция немецкой газеты. На мой вопрос: зачем же ты забрел на этот пустынный двор? — Федор Михайлович ответил: а за тем, за чем заходят в укромные места прохожие“.
В 1862 году в журнале братьев Достоевских „Время“ была помещена статья Н. Н. Страхова „Дурные признаки“, в которой автор критиковал предисловие французской переводчицы К. О. Руайе к ее переводу „Происхождения выдов“ Чарльза Дарвина. Страхов предостерегал против механического перенесения учения об естественном отборе в науку об обществе, порицая Руайе за ее попытку с помощью ложно истолкованного ею учения Дарвина доказать „естественное“ происхождение и вечный характер неравенства между расами, общественными классами, а также отдельными индивидами. Защищая „естественное“ происхождение и неустранимость в будущем обществе личного и социального неравенства, Руайе утверждала, что стремление содействовать равенству между людьми разных классов и рас является вредной утопией, и, предвосхищая Ницше, резко ополчалась против идей сострадания и милосердия. „Предисловие Наполеона III к "Истории Юлия Цезаря" и предисловие Руайе к ее переводу стали источниками теории "двух разрядов людей", которую отстаивает Родион Раскольников.
На основе этих носящихся в воздухе "недоконченных идей" Раскольников создает свою собственную довольно стройную теорию. Он так излагает ее основы: "..Люди, по закону природы, разделяются вообще на два разряда: на низший (обыкновенных), то есть так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и собственно на людей; то есть имеющих дар или талант сказать в среде свое новое слово Подразделения тут, разумеется, бесконечные, но отличительные черты обоих разрядов довольно резкие: первый разряд, то есть материал, говоря вообще: люди по натуре своей консервативные, чинные, живут в послушании и любят быть послушными. По-моему, они и обязаны быть послушными, потому что это их назначение, и тут решительно нет ничего для них унизительного. Второй разряд, все преступают закон, разрушители или склонны к тому, судя по способностям. Преступления этих людей, разумеется, относительны и многоразличны; большею частию они требуют в весьма разнообразных заявлениях, разрушения настоящего во имя лучшего. Но если ему надо, для своей идеи, перешагнуть хотя бы и через труп, через кровь, то он внутри себя, по совести, может, по-моему дать себе разрешение перешагнуть через кровь, — смотря, впрочем, по идее и по размерам ее, — это заметьте. В этом только смысле я и говорю в моей статье об их праве на преступление. Впрочем, тревожиться много нечего; масса никогда почти не признает за ними этого права, казнит их и вешает (более или менее). Первый разряд всегда — господин настоящего, второй разряд — господин будущего. Первые сохраняют мир и приумножают его численно; вторые двигают мир и ведут его к цели. И те и другие имеют совершенно одинаковое право существовать".
Однако при столкновении с живой жизнью теория двух разрядов людей начинает рушиться. Измотанный страхом разоблачения Раскольников пересматривает если не саму теорию, то свое место в ней: …Он с омерзением почувствовал вдруг, как он ослабел, физически ослабел.
"Я это должен был знать, — думал он с горькою усмешкой, — и как смел я, зная себя, предчувствуя себя, брать топор и кровавиться. Я обязан был заранее знать… Э! Да ведь я же заранее и знал!.." — прошептал он в отчаянии.
Порой он останавливался неподвижно перед какой-нибудь мыслию:
"Нет, те люди не так сделаны; настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона людей в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне; и ему же, по смерти, ставят кумиры, — а стало быть, и все разрешается. Нет, на этаких людях, видно, не тело, а бронза!"
Одна внезапная посторонняя мысль вдруг почти рассмешила его:
"Наполеон, пирамиды, Ватерлоо — и тощая гаденькая регистраторша, старушонка, процентщица, с красною укладкою под кроватью, — ну каково это переварить хоть бы Порфирию Петровичу!.. Где ж им переварить!.. Эстетика помешает: "полезет ли, дескать, Наполеон под кровать к "старушонке"! Эх, дрянь!.."
Главный герой "Преступления и наказания" уже понимает, что он — отнюдь не Наполеон, что, в отличие от своего кумира, спокойно жертвовавшего жизнями десятков тысяч людей, не в состоянии справиться со своими чувствами после убийства одной "гаденькой старушонки". Раскольников чувствует, что его преступление, в отличие от кровавых деяний Наполеона. — стыдное, неэстетичное. Позднее в романе "Бесы". Достоевский развил тему "некрасивого преступления" — там его совершает Ставрогин, персонаж, родственный Свидригайлову в "Преступлении и наказании". Раскольников же пытается определить, где же он сделал ошибку: <Старушонка вздор! — думал он горячо и порывисто, — старуха, пожалуй что, и ошибка, не в ней и дело! Старуха была только болезнь… я переступить поскорее хотел… я не человека убил, я принцип убил! Принцип то я и убил, а переступить-то не переступил, на этой стороне остался… Только и сумел. что убить. Да и того не сумел, оказывается". Принцип, через который пытается переступить Родион Романович, — это совесть. Стать "властелином" ему мешает всячески заглушаемый зов добра. Раскольников все больше думает о раскаянии и не случайно заставляет Соню Мармеладову читать евангельскую притчу воскрешении Лазаря. Преступник мучается, любовь к Соне в конце концов побуждает его донести на самою себя, признаться в двойном убийстве. Однако и на каторге Раскольников все еще уверен, что теория двух разрядов людей правильна, просто он себя ошибочно не к тому разряду отнес, за что и расплачивается. Лишь приезд Сони и новое обращение к Евангелию побуждает Родиона в корне пересмотреть всю прежнюю жизнь и отказаться от следования теории, рассматривающей большинство человечества только как материал для немногочисленных наполеонов. Раскольников приходит к христианским моральным ценностям, и в финале эпилога "Преступления и наказания" "начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью". В этом новом мире христианской нравственности для теории двух разрядов людей уже нет места.
Как отмечает В. Свинцов в статье "Вера и неверие: Достоевский, Толстой, Чехов и другие", "Порфирий Петрович спрашивает Раскольникова (уже подозревая в нем убийцу), верит ли тот в Бога, и, получив утвердительный ответ, продолжает: "И-и в воскресение Лазаря веруете?" "Ве-верую, — не совсем твердо отвечает Раскольников. — Зачем вам все это?" — "Буквально веруете?" — "Буквально" Почему именно о Лазаре спрашивает Порфирий, да еще и уточняет, буквально ли понимает Раскольников воскресение?.. Как известно, Иоанн — единственный из четырех евангелистов, повествующий о воскресении Лазаря; Матфей, Лука и Марк не говорят об этом. В знаменитом личном Евангелии Достоевского именно Благовествование от Иоанна привлекало особое внимание писателя, а 11-я глава буквально испещрена различными пометами. Так чем же привлекал Достоевского этот факт? Почему из трех мертвецов, воскрешенных Христом в его земном существовании — кроме Лазаря, это еще дочь начальника синагоги Иаира и сын вдовы из Наина, — выбирается случай с Лазарем? Тут все дело в том, что воскрешенный Лазарь был Лазарь четверодневный. "Иисус говорит; отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смердит, ибо четыре дня, как он во гробе" (Ин. 11,39).
Достоевсковеды, рассчитавшие по дням и едва ли не по часам последовательность всех событий в "Преступлении", высказывают мнение, что Соня не случайно зачитывает Раскольникову евангельский текст на четвертый день после убийства. Тем самым, полагают они, Достоевский как бы сопоставляет четверодневного убийцу с четверодневным мертвецом и показывает, что Раскольников, подобно Лазарю, не безнадежен. Вся сцена становится как бы прологом к духовному воскресению Раскольникова".
В Петербурге в период с 1853 по 1857 год число преступлений удвоилось. Одних краж и мошенничеств совершалось ежегодно на 140 тыс. рублей. Число арестантов достигло 40 000 человек ежегодно, что составляло одну восьмую часть населения тогдашней столицы.
Достоевский был знаком и с рядом преступлений, почерпнутых из российской уголовной хроники и сильно напоминавших убийство Раскольниковым старухи-процентщицы. В августе 1865 года в Москве проходил военно-полевой суд над приказчиком, купеческим сыном Герасимом Чистовым, 27 лет, раскольником по вероисповеданию. Преступник обвинялся в предумышленном убийстве в Москве в январе 1865 г. двух старух — кухарки и прачки — с целью ограбления их хозяйки. Преступление было совершено между 7 и 9 часами вечера. Убитые были найдены сыном хозяйки квартиры, мещанки Дубровиной, в разных комнатах в лужах крови. В квартире были разбросаны вещи, вынутые из окованного железом сундука, откуда были похищены деньги, серебряные и золотые вещи. Как сообщала петербургская газета, старухи были убиты порознь, в разных комнатах и без сопротивления с их стороны одним и тем же орудием — посредством нанесения многих ран, по-видимому, топором, очень острым и насаженным на короткую ручку. Добыча преступника составила 11 260 рублей.
Еще большую известность в свое время получило "дело студента Данилова". Первое сообщение о нем появилось в момент публикации начальных глав "Преступления и наказания" и поразило современников и самого писателя сходством преступления Раскольникова с обстоятельствами убийства, совершенного образованным преступником, о незаурядной внешности и уме которого говорилось в газетных публикациях. В целях наживы Данилов убил ростовщика Попова и его служанку М. Нордман. Крестьянин М. Глазков хотел принять его вину на себя, но был изобличен. Это преступление произошло 12 января 1866 года, перед самым выходом январской книги "Русского вестника", и было воспринято как свидетельство гениальной прозорливости Достоевского. Но данный факт, вероятно, повлиял на последующую эволюцию замысла романа, в котором появился человек, пытающийся взять на себя вину Раскольникова, — красильщик Миколка, нашедший оброненные Раскольниковым серьги, пропивший их, а затем арестованный по подозрению в убийстве, принявший вину на себя, чтобы "страдание принять". Правда, само дело по обвинению Данилова слушалось в Московском окружном суде только 14 февраля 1867 года, уже после завершения "Преступления и наказания", но ранее оно широко освещалось в газетах. Приговор был — 9 лет каторжных работ, почти столько же, сколько получил и Раскольников — 8 лет каторги, из которых в эпилоге романа ему остается отсидеть семь. "Семь", замечу, число сакральное, связанное с Космосом, ходом небесных тел (вспомним 7-дневные фазы Луны), а следовательно, по древним поверьям, и с судьбой человека. Но, в отличие от героя Достоевского, Данилов никогда не был идейным убийцей, а совершил преступление из чисто корыстных побуждений, поскольку был вполне обеспеченным франтом, но хотел еще больше денег для веселой жизни.
Сам Достоевский в письме к А. Н. Майкову от 11 (23) декабря 1868 года писал, имея в виду дело Данилова и противопоставляя свое понимание реализма пониманию его задач своими современниками: "Ихним реализмом — сотой доли реальных, действительно случившихся фактов не объяснишь. А мы нашим идеализмом пророчили даже факты". О своей авторской гордости, вызванной тем, что своим романом он художественно предвосхитил реальные явления, подобные преступлению Данилова, Достоевский тогда же говорил Страхову.
Достоевский в преступлении Раскольникова запечатлел столь типичное преступление эпохи, что невольно оказался провидцем в отношении трагической судьбы собственной сестры. Варвара Михайловна Достоевская (в замужестве Карепина), вероятно, послужила одним из прототипов старухи-процентщицы в "Преступлении и наказании". Свое наследство она получила еще в 1850 году, в возрасте 28 лет. Можно сказать, что Достоевский в данном случае оказался трагическим провидцем. В 1893 году Варвара Михайловна была зарезана в своем доме грабителями, полностью повторив судьбу героини "Преступления и наказания".
Также и в "Идиоте" Достоевским были запечатлены реальные преступления, очень схожие с тем, что совершил герой "Преступления и наказания". Князь Мышкин рассказывает Рогожину: "Вечером я остановился в уездной гостинице переночевать, и в ней только что одно убийство случилось, в прошлую ночь, так что все об этом говорили, когда я приехал. Два крестьянина, и в летах, и не пьяные, и знавшие уже давно друг друга, приятели, напились чаю и хотели вместе, в одной каморке, ложиться спать. Но один у другого подглядел, в последние два дня, часы, серебряные, на бисерном желтом шнурке, которых, видно, не знал у него прежде. Этот человек был не вор, был даже честный, и, по крестьянскому быту, совсем не бедный. Но ему до того понравились эти часы и до того соблазнили его, что он наконец не выдержал: взял нож и, когда приятель отвернулся, подошел к нему осторожно сзади, наметился, возвел глаза к небу, перекрестился и, проговорив про себя с горькою молитвой: "Господи, прости ради Христа!" — зарезал приятеля с одного раза, как барана, и вынул у него часы.
Рогожин покатился со смеху. Он хохотал так, как будто был в каком-то припадке. Даже странно было смотреть на этот смех после такого мрачного недавнего настроения.
— Вот это я люблю! Нет, вот это лучше всего! — выкрикивал он конвульсивно, чуть не задыхаясь: — Один совсем в Бога не верует, а другой уж до того верует, что и людей режет по молитве… Нет, этого, брат-князь, не выдумаешь! Ха-ха-ха! Нет, это лучше всего!.."
Об этом преступлении в октябре 1867 года писала газета "Голос". Крестьянин Ярославской губернии Балабанов убил мещанина Суслова. Балабанов приехал в Петербург на заработки и познакомился с Сусловым в доме акушера Штольца. Убийство произошло во время их встречи за чаем. Достоевский отметил в записной книжке: "Зарезал за часы Суслова, раздувавшего самовар, со словами: "Господи, прости ради Христа". В романе обыгрывается тот факт, что Балабанов на вырученные за серебряные часы деньги хотел вернуться в деревню и помочь находившейся там в нищете семье, что роднило его с Раскольниковым.
Позднее еще одно нашумевшее убийство отразилось в "Братьях Карамазовых". Вспомните, как Федор Павлович Карамазов обращается к игумену: "Ваше преподобие, знаете вы, что такое фон-Зон? Процесс такой уголовный был: его убили в блудилище — так, кажется, у вас сии места именуются, — убили и ограбили, и несмотря на его почтенные лета, вколотили в ящик, закупорили и из Петербурга в Москву отослали в багажном вагоне, за нумером. А когда заколачивали, то блудные плясавицы пели песни и играли на гуслях, то есть на фортоплясах". В данном случае он как бы пророчит собственную гибель от руки Смердякова.
Речь здесь идет об убийстве богатого старика — отставного надворного советника Николая фон Зона, дело о котором разбиралось в С.-Петербургском окружном суде 28 и 29 марта 1870 года. Фон Зона в ночь с 7 на 8 ноября 1869 года заманили в притон в центре Петербурга, недалеко от Сенной площади, отравили, зверски убили и ограбили. Во время убийства, когда, по показаниям одного из участников, "пошли в ход ремень, плед, утюги", — одна из соучастниц преступления, как говорил потом ее защитник, "садится за фортепияно, стучит руками и ногами и заглушает крики и стоны несчастной жертвы". В середине декабря, благодаря явке с повинной петербургского ремесленника Александра Иванова, преступление было раскрыто. Ремесленник заявил, что фон Зон убит в его присутствии на квартире Максима Иванова, с которым они не родственники, а однофамильцы. Труп убитого был уложен в чемодан и отправлен 8 ноября по железной дороге в Москву. Криминалист И. Ф. Крылов так описал подробности преступления:
"Заявление Александра Иванова получило подтверждение: из Москвы телеграммой было сообщено, что на станции железной дороги действительно находится чемодан, адресованный на имя Кольцова, никем не востребованный. При вскрытии чемодана в нем найдено мертвое тело неизвестного мужчины. Этим мужчиной и был Николай фон Зон.
В результате произведенного расследования были установлены следующие обстоятельства: инициатор и основной исполнитель убийства Максим Иванов держал квартиру, в которой на полном его иждивении проживали несколько женщин, промышлявших проституцией. Вырученные деньги они полностью отдавали хозяину квартиры. Не довольствуясь получаемыми таким путем "доходами", Максим Иванов задумал отравлять с целью грабежа своих "гостей". Предварительно он занялся опытами, отравляя кошек и собак. Убедившись в эффективности данного способа убийства, Иванов решился применить его к людям. Первой жертвой и стал престарелый фон Зон, с которым днем 7 ноября Иванов встретился в увеселительном заведении "Эльдорадо".
Приведя фон Зона на свою квартиру, Иванов организовал "угощение". Вино и водка быстро подействовали, фон Зон охмелел. Одна из женщин отвела его в спальню, где искусно похитила имевшиеся при нем деньги и передала их Максиму Иванову. Но фон Зон, несколько отрезвев, вернулся в общую залу и потребовал вернуть похищенные деньги. Ему заявили, что деньги целы, что над ним лишь пошутили, и предложили "на мировую" выпить еще бутылку вина. Незаметно от фон Зона Иванов влил в нее раствор ядовитого вещества. После первого же глотка фон Зон повалился на диван. Желая быстрейшего наступления смерти, находившемуся в бесчувственном состоянии фон Зону насильно влили новую порцию яда. Не ограничиваясь этим, преступники начали душить свою жертву, а затем нанесли ей несколько ударов утюгом по голове. Убийство было совершено".
Между прочим, экспертом на суде над Максимом Ивановым и его сообщниками выступал тогда еще мало кому известный химик Д. И. Менделеев, автор периодической системы. Николай Зон же может рассматриваться как один из прототипов старика Карамазова.
И еще одно громкое дело, напоминавшее как реальное преступление Данилова, так и придуманное преступление Раскольникова, отразилось в последнем романе писателя.
В "Братьях Карамазовых" в речи обвинителя на суде упоминается: "молодой блестящий офицер высшего общества, едва начинающий свою жизнь и карьеру, подло, в тиши, безо всякого угрызения совести, зарезывает мелкого чиновника, отчасти бывшего своего благодетеля, и служанку его, чтобы похитить свой долговой документ, а вместе и остальные денежки чиновника: "пригодятся-де для великосветских моих удовольствий и для карьеры моей впереди". Зарезав обоих, уходит, подложив обоим мертвецам под головы подушки".
Речь идет об отставном прапорщике лейб-гвардии саперного батальона Карле Христофорове фон Ландсберге, совершившем убийство надворного советника Власова и мещанки Семенидовой. Дело слушалось на заседании Петербургского окружного суда 5 июля 1879 года и подробно освещалось в "Голосе". Суд приговорил Ландсберга к лишению всех прав состояния и ссылке в каторжную работу в рудниках на 15 лет. А. Ф. Кони вспоминал: "12 января 1866 г., когда первая часть романа уже была напечатана, но еще не вышла в свет ("Русский вестник" всегда выходил со значительным опозданием), в Москве студент Данилов зарезал ростовщика и его служанку, — а через тринадцать лет то же самое по отношению к своему кредитору и его прислуге совершил молодой и блестящий гвардейский офицер Ландсберг".
Совершенное Раскольниковым убийство писатель переживал так, как будто совершил его сам. М. А. Иванова вспоминала: "Лето 1866 года Ф. М. Достоевский провел в Люблине у Ивановых. Ивановы занимали большую деревянную дачу невдалеке от парка. Их большая семья летом еще увеличивалась: А. П. Иванов брал к себе на дачу гостить студентов, которым некуда было уезжать, детям разрешалось приглашать товарищей и подруг. Так как Ф. М. Достоевскому нужен был ночью полный покой (он обычно писал по ночам), а в даче Ивановых слишком было людно для этого — то заплачет ребенок, то молодежь вернется поздно с гулянья, то встанут чуть свет, чтобы идти на рыбную ловлю, — Достоевский поселился рядом, в пустой каменной двухэтажной даче, где занял только одну комнату. К нему ходил ночевать лакей Ивановых, потому что боялись его оставлять одного, зная о его припадках. Но в течение этого лета припадок был всего один раз.
Однажды лакей, ходивший ночевать к Достоевскому, решительно отказался это делать в дальнейшем. На расспросы Ивановых он рассказал, что Достоевский замышляет кого-то убить — все ночи ходит по комнатам и говорит об этом вслух (Достоевский в это время писал "Преступление и наказание")".
Эти и другие уголовные дела нашли свой отзвук и в следующем романе Достоевского. В "Идиоте" упоминаются среди ряда других характерных знамений времени два преступления, о которых Достоевский прочел в "Голосе" незадолго до начала или в период работы над "Идиотом". В частности, большой общественный резонанс вызвало убийство восемнадцатилетним гимназистом польским дворянином Витольдом Горским в Тамбове с целью ограбления в доме купца Жемарина, где он давал уроки его одиннадцатилетнему сыну, шести человек (жены Жемарина, его матери, сына, родственницы, дворника и кухарки). Достоевского потрясло, что Горский характеризовался учителями как умный юноша, любивший чтение и сам не чуждый литературному творчеству. Он тщательно подготовился к преступлению, достал не совсем исправный пистолет и починил его у слесаря, а также по специально сделанному рисунку заказал у кузнеца кистень, объяснив, что он ему нужен для гимнастических упражнений. Горский объявил себя на суде атеистом.
В конце ноября 1867 г., в период обдумывания замысла "Идиота", стала известна знаменательная подробность, относящаяся к преступлению Данилова. По показаниям арестанта М. Глазкова, которого убийца вынуждал принять на себя вину, Данилов совершил убийство после разговора с отцом. Сообщив ему о своем намерении жениться, Данилов получил совет "не пренебрегать никакими средствами и, для своего счастья, непременно достать денег, хотя бы и путем преступления". В "Идиоте" это обстоятельство отразилось в эпизоде с племянником Лебедева, которого дядя называет убийцей "будущего второго семейства Жемариных".
Само название "Преступление и наказание" отражает христианскую тему воздаяния за содеянное. Родион Раскольников, не самый плохой человек к мире, но подпавший под влияние материалистических и атеистических взглядов, убивает жутко плохую старуху-процентщицу и, волею обстоятельств, также и ее очень хорошую сестру. Убил не только из-за бедности, сильнейшей нужды в деньгах, но и чтобы ответить на вопрос, тварь он последняя или право имеет. Сам он уверен в своем праве убивать плохих, не приносящих пользы обществу людей, поскольку превосходит других по умственным и волевым способностям. Эволюция, которую претерпевает Раскольников к эпилогу романа, отражает мысль Достоевского о необходимости страдания не только для искупления греха, но и для обретения подлинного счастья. Сначала герой мучается страхом, что окружающие знают о его преступлении, что его подозревают и вот-вот могут схватить. Перелом в душе Раскольникова начинается, когда Соня Мармеладова впервые знакомит его с Новым Заветом. Он просит ее найти и прочесть притчу о воскресении Лазаря. В душе Родиона Романовича уже подсознательно присутствует надежда на подобное воскрешение к нему самому. Выясняется что именно притчу о Лазаре Соня уже читала на панихиде по Лизавете. Соня сначала колеблется: "Зачем вам? Ведь вы не веруете?.." — но потом все же читает. "Раскольников обернулся к ней и с волнением смотрел на нее: да, так и есть! Она уже вся дрожала в лихорадке. Он ожидал этого. Она приближалась к слову о величайшем и неслыханном чуде, и чувство великого торжества охватило ее. Голос ее стал звонок, как металл; торжество и радость звучали в нем и крепили его. Строчки мешались перед ней, потому что в глазах темнело, но она знала наизусть, что читала. При последнем стихе: "не мог ли сей, отверзший очи слепому…" — она, понизив голос, горячо и страстно передала сомнение, укор и хулу неверующих, слепых иудеев, которые сейчас, через минуту, как громом пораженные, падут, зарыдают и уверуют… "И он, он — тоже ослепленный и неверующий, — он тоже сейчас услышит, он тоже уверует, да, да! сейчас же, теперь же", — мечталось ей, и она дрожала от радостного ожидания".
Раскольников говорит Соне, что оба они прокляты, что оба преступили некую черту, она — сделавшись проституткой, он — убив двух женщин (но в убийстве еще не признается). А на истерический вопрос Мармеладовой, что же делать, отвечает: "Что делать? Сломать, что надо, раз навсегда, да и только: и страдание взять на себя! Что? Не понимаешь? После поймешь… Свобода и власть, а главное власть! Над всею дрожащею тварью и над всем муравейником!.. Вот цель! Помни это! Это мое тебе напутствие! Может, я с тобой в последний раз говорю. Если не приду завтра, услышишь про все сама, и тогда припомни эти теперешние слова. И когда-нибудь, потом, через годы, с жизнию, может, и поймешь, что они значили. Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Прощай!"
Здесь Родион Романович еще рассматривает страдание как способ обрести власть "над всею дрожащей тварью", проверить, сверхчеловек ли он сам. Герой воспринимает страдание как прерогативу сильных людей, способных взять на себя эту тяжесть. Но раскаяние в содеянном уже начинает мучить его, хотя до подлинного духовного возрождения еще далеко. Когда в финале Раскольников, наконец решившись, признается в полиции: "Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Лизавету топором и ограбил", им движет не столько раскаянье, сколько стремление "страдание взять на себя", как бы другим способом проверить собственную теорию "двух разрядов людей", доказать, что он сильный человек, способный вынести каторгу, перестрадать и не сломаться. Полностью прозревает Родион только в эпилоге романа, когда к нему в Сибирь приезжает Соня. Раскольников вновь обращается к Евангелию: "Эта книга принадлежала ей, была та самая, из которой она читала ему о воскресении Лазаря. В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но, к величайшему его удивлению, она ни разу не заговорила об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелия. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. До сих пор он ее и не раскрывал.
Он не раскрыл ее и теперь, но одна мысль промелькнула в нем: "Разве могут ее убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Ее чувства, ее стремления по крайней мере…"
Она тоже весь этот день была в волнении, а в ночь даже опять захворала. Но она была до того счастлива, Угго почти испугалась своего счастия. Семь лет, только семь лет! В начале своего счастия, в иные мгновения, они оба готовы были смотреть на эти семь лет, как на семь дней. Он даже и не знал того, что новая жизнь не даром же ему достается, что ее надо еще дорого купить, заплатить за нее великим, будущим подвигом…
Но тут уже начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, постепенного перехода из одного мира в другой, знакомства с новою, доселе совершенно неведомою действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, — но теперешний рассказ наш окончен".
Только любовь к Соне помогает Родиону обратиться к христианской вере, полностью принять правду Евангелия. Семь лет его каторги уподобляются семи дням творения, когда будет создан новый человек, новый Адам. Достоевский оставил за пределами произведения историю будущего духовного подвига героя, но не оставил у читателя сомнений, что теперь к такому подвигу Раскольников готов. Наказание для него окончено, оно уже принесло свой результат, привело к нравственному перерождению преступника.
Когда следователь Порфирий Петрович объясняет Раскольникову, почему красильщик Миколка не мог убить старуху и ее сестру, он цитирует довольно любопытный источник; "Нет, батюшка Родион Романыч, тут не Миколка! Туг дело фантастическое, мрачное, дело современное, нашего времени случай-с, когда помутилось сердце человеческое; когда цитируется фраза, что кровь "освежает"; когда вся жизнь проповедуется в комфорте. Тут книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце; тут видна решимость на первый шаг, но решимость особого рода, — решился, да как с горы упал или с колокольни слетел, да и на преступление-то словно не своими ногами пришел. Дверь за собой забыл притворить, а убил, двух убил, по теории. Убил, да и денег взять не сумел, а что успел захватить, то под камень снес".
Здесь можно видеть намек на следующее место из библиографической хроники газеты "Голос" в апреле 1865 года: "Основываясь на недавно вышедшем в свет 16-м томе корреспонденции Наполеона и на показаниях врача его, Корвизара, г-н Кенигсберг объясняет, что Наполеону нужно было не завоевание, а собственно война, как средство возбуждения, как опьянение… Кровообращение у Наполеона было неправильно и крайне медленно… Только среди войны он чувствовал себя хорошо, пульс его начинал биться ровно и с нормальною скоростью… Автор находит в этом отношении сходство между Наполеоном и Цезарем; он видит в Цезаре ту же потребность в постоянном самовозбуждении войною…" Теория эта, разумеется, ничего общего с наукой не имела, но в то время была на слуху.
То, что Раскольников был каторжанами принят враждебно, не только еще более оттеняет его финальное раскаяние, но и вполне совпадает с личным опытом писателя. В письме к брату Михаилу от 30 января — 22 февраля 1854 года Достоевский вспоминал: "…нас, дворян, встретили они враждебно и с злобною радостью в нашем горе… Вы, дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего ваш брат стал".
Главный противник Раскольникова по ходу действия романа и одновременно его психологический двойник — это помещик Аркадий Иванович Свидригайлов. Он первый из того ряда героев, в котором стоят Николай Всеволодович Ставрогин в "Бесах" и Федор Павлович Карамазов в "Братьях Карамазовых. Это — идейный злодей, не останавливающийся ни перед чем и в конце концов совершающий самоубийство, ибо злодейства разрушают его душу. Свид-ригайлов начинал как карточный шулер, затем попал в долговую тюрьму, из-за денег женился на Марфе Петровне, потом ее отравил, изнасиловал девочку, которая потом покончила с собой (здесь предвосхищается преступление Ставрогина), довел до самоубийства своего лакея. Свидригайлов преследует сестру Раскольникова Дуню, которой он отвратителен. Именно для того, чтобы оградить сестру от домогательств таких, как Свидригайлов и Лужин (а для этого, как убежден Родион Романович, непременно нужны деньги), Раскольников идет на преступление. Он хочет избавить сестру от необходимости выходить замуж за нелюбимого человека ради денег. Свидригайлов же, подслушав исповедь-признание Раскольникова Соне в убийстве старухи-процентщицы, начинает его шантажировать.
Но не все так просто в отношениях Свидригайлова и Дуни. Аркадий Иванович через эту любовь надеется возродиться к новой жизни, и, когда Дуня его отвергает, Свидригайлов осознает тщету своих надежд и кончает с собой. Сверхчеловек опять оказывается посрамлен, и "теория двух разрядов людей" получает еще одно опровержение. Комплекс Наполеона может привести к гибели.
Современникам Достоевского было знакомо имя "Свидригайлов". Сатирическая газета "Искра" трижды сообщала в 1861 году в разделе "Нам пишут" о "фатах, бесчинствующих в провинции", — Бородавкине ("фат вроде пушкинского графа Нулина") и его "расторопном посреднике" и "фактотуме" Свидригайлове.
В образе Свидригайлова, хотя и в трансформированном виде, запечатлен психологический облик одного из обитателей Омского острога, убийцы дворянина Павла Аристова (описанного в "Записках из Мертвого дома" под именем А-ва). Правда, Аристов моложе Свидригайлова. В 1865 году ему было только 37 лет, тогда как Свидригайлов — "человек лет пятидесяти". Аристов, происходивший из неслуживших дворян Московской губернии, был осужден на десять лет каторги "за ложное возведение на невинных лиц государственного преступления". Он донес в III Отделение о наличии в Петербурге некоего тайного общества, вызвался внедриться туда и стать осведомителем, взял за это деньги. Однако на поверку оказалось, что никакого общества в действительности не существует, а Аристов — обыкновенный мошенник. В остроге у него была кличка Крапо, что могло указывать на занятие шулерством. В остроге Аристов воровал, подделывал документы, дважды пытался бежать, неоднократно подвергался телесным наказаниям. С собой он, однако, кончать не собирался, хотя за плохое поведение ему добавили срок. После каторги Аристов был отправлен на поселение в отдаленные места Якутской губернии.
В "Записках из Мертвого дома" Достоевский так вспоминал о своем общении с Аристовым, прибывшим в Омский острог тремя месяцами раньше:
"Естественно, меня поражали сначала явления крупные, резко выдающиеся, но и те, может быть, принимались мною неправильно и только оставляли в душе моей одно тяжелое, безнадежно грустное впечатление. Очень много способствовала тому встреча моя с А-вым, тоже арестантом, прибывшим незадолго до меня в острог и поразившим меня особенно мучительным впечатлением в первые дни моего прибытия в каторгу. Я, впрочем, узнал еще до прибытия в острог, что встречусь там с А-вым. Он отравил мне это первое тяжелое время и усилил мои душевные муки. Не могу умолчать о нем.
Это был самый отвратительный пример, до чего может опуститься и исподлиться человек и до какой степени может убить в себе всякое нравственное чувство, без труда и без раскаяния. А-в был молодой человек, из дворян, о котором уже я отчасти упоминал, говоря, что он переносил нашему плац-майору все, что делается в остроге, и был дружен с денщиком Федькой. Вот краткая его история: не докончив нигде курса и рассорившись в Москве с родными, испугавшимися развратного его поведения, он прибыл в Петербург и, чтоб добыть денег, решился на один подлый донос, то есть решился продать кровь десяти человек для немедленного удовлетворения своей неутолимой жажды к самым грубым и развратным наслаждениям, до которых он, соблазненный Петербургом, его кондитерскими и Мещанскими, сделался падок до такой степени, что, будучи человеком неглупым, рискнул на безумное и бессмысленное дело. Его скоро обличили; в донос свой он впутал невинных людей, других обманул, и за это его сослали в Сибирь, в наш острог, на десять лет. Он еще был очень молод, жизнь для него только что начиналась. Казалось бы, такая страшная перемена в его судьбе должна была поразить, вызвать его природу на какой-нибудь отпор, на какой-нибудь перелом. Но он без малейшего смущения принял новую судьбу свою, без малейшего даже отвращения, не возмутился перед ней нравственно, не испугался в ней ничего, кроме разве необходимости работать и расстаться с кондитерскими и с тремя Мещанскими. Ему даже показалось, что звание каторжного только еще развязало ему руки на еще большие подлости и пакости. "Каторжник, так уж каторжник и есть; коли каторжник, стало быть, уж можно подличать, и не стыдно". Буквально, это было его мнение. Я вспоминаю об этом гадком существе как об феномене. Я несколько лет прожил среди убийц, развратников и отъявленных злодеев, но положительно говорю, никогда еще в жизни я не встречал такого полного нравственного падения, такого решительного разврата и такой наглой низости, как в А-ве. У нас был отцеубийца, из дворян; я уже упоминал о нем; но я убедился по многим чертам и фактам, что даже и тот был несравненно благороднее и человечнее А-ва. На мои глаза, во все время моей острожной жизни, А-в стал и был каким-то куском мяса, с зубами и С желудком и с неутолимой жаждой наигрубейших, самых зверских телесных наслаждений, а за удовлетворение самого малейшего и прихотливейшего из этих наслаждений он способен был хладнокровнейшим образом убить, зарезать, словом, на все, лишь бы спрятаны были концы в воду. Я ничего не преувеличиваю; я узнал хорошо А-ва. Это был пример, до чего могла дойти одна телесная сторона человека, не сдержанная внутренне никакой нормой, никакой законностью. И как отвратительно мне было смотреть на его вечную насмешливую улыбку. Это было чудовище, нравственный Квазимодо. Прибавьте к тому, что он был хитер и умен, красив собой, несколько даже образован, имел способности. Нет, лучше пожар, лучше мор, чем такой человек в обществе! Я сказал уже, что в остроге все так исподлилось, что шпионство и доносы процветали и арестанты нисколько не сердились за это. Напротив, с А-м все они были очень дружны и обращались с ним несравненно дружелюбнее, чем с нами. Милости же к нему нашего пьяного майора придавали ему в их глазах значение и вес. Между прочим, он уверял майора, что он может снимать портреты (арестантов он уверял, что был гвардии поручиком), и тот потребовал, чтоб его высылали на работу к нему на дом, для того, разумеется, чтоб рисовать майорский портрет. Тут-то он и сошелся с денщиком Федькой, имевшим чрезвычайное влияние на своего барина, а следственно, на всех и на все в остроге. А-в шпионил на нас по требованию майора же, а тот, хмельной, когда бил его по щекам, то его же ругал шпионом и доносчиком. Случалось, и очень часто, что сейчас же после побоев майор садился на стул и приказывал А-ву продолжать портрет. Наш майор, кажется, действительно верил, что А-в был замечательный художник, чуть не Брюллов, о котором и он слышал, но все-таки считал себя вправе лупить его по щекам, потому, дескать, что теперь ты хоть и тот же художник, но каторжный, и хоть будь ты раз-Брюллов, а я все-таки твой начальник, а стало быть, что захочу, то с тобою и сделаю. Между прочим, он заставлял А-ва снимать ему сапоги и выносить из спальни разные вазы, и все-таки долго не мог отказаться от мысли, что А-в великий художник Портрет тянулся бесконечно, почти год. Наконец, майор догадался, что его надувают, и, убедившись вполне, что портрет не оканчивается, а, напротив, с каждым днем все более и более становится на него непохожим, рассердился, исколотил художника и сослал его за наказание в острог, на черную работу. А-в, видимо, жалел об этом, и тяжело ему было отказаться от праздных дней, от подачек с майорского стола, от друга Федьки и от всех наслаждений, которые они вдвоем изобретали себе у майора на кухне".
Основные женские образы "Преступления и наказания" — это Соня Мармеладова и сестра Раскольникова Авдотья Романовна, Дуня. Соня — проститутка, падшая женщина, вынужденная торговать своим телом, чтобы прокормить семью. Дуне грозит та же участь. Ее домогается Свидригайлов, в имении которого она служила экономкой, купить ее любовь хочет бездушный делец богатый адвокат Петр Петрович Лужин, считающий выгодной женитьбу на бедной девушке без приданого, которая всем будет обязана только ему. Любовь к сестре подталкивает Раскольникова на двойное убийство отвратительной старухи и ее кроткой сестры Лизаветы, ставшей невольной свидетельницей происшедшего. Любовь же к Соне впоследствии побуждает убийцу к раскаянию.
Возлюбленная Раскольникова, хотя и блудница, предстает перед нами почти как святая. Вот как ее отец, горький пьяница, описывает Родиону Романовичу первое грехопадение дочери: "И вижу я, эдак часу в шестом, Сонечка встала, надела платочек, надела бурнусик и с квартиры отправилась, а в девятом часу и назад обратно пришла. Пришла, и прямо к Катерине Ивановне, и на стол перед ней тридцать целковых молча выложила. Ни словечка при этом не вымолвила, хоть бы взглянула, а взяла только наш драдедамовый зеленый платок., накрыла им совсем голову и лицо и легла на кровать лицом к стенке, только плечики да тело все вздрагивают… И видел я тогда, молодой человек, видел я, как затем Катерина Ивановна, также ни слова не говоря, подошла к Сонечкиной постельке и весь вечер в ногах у ней на коленках простояла, ноги ей целовала, встать не хотела, а потом так обе и заснули вместе обнявшись… обе… обе…" И именно Соне первой Раскольников признается в убийстве и тем самым, еще неосознанно, — в любви. Соня же, с проницательностью любовного чувства, не поверила раскольниковским рассуждениям, что убил он, чтобы сделать счастливыми мать и сестру, вытащить их из нужды, обеспечить достойное будущее: "Ох, это не то, не то… и разве можно так… нет, это не так, не так!" И тут же Раскольников соглашается, что причины его преступления были совсем другие, что он пытался проверить, способен ли переступить через христианский принцип высшей ценности всякой человеческой жизни, пытался убедить себя, что принадлежит к высшему разряду людей, которым все позволено в силу их незаурядности, в том числе и преступления. Соня, человек глубоко верующий, помогает Родиону осознать ошибочность выдуманной им теории, и приобщиться к новой жизни.
Дуня — девушка менее страстная, чем Соня, и более склонна к рациональным, расчетливым действиям. Как пишет в самом начале романа Раскольникову мать: "Она теперь, уже несколько дней, просто в каком-то жару и составила уже целый проект о том, что впоследствии ты можешь быть товарищем Петра Петровича по его тяжебным занятиям…" Авдотья Романовна готова ради счастья брата и матери выйти замуж за нелюбимого, внушающего отвращение Лужина. Раскольников же справедливо считает, что "Сонечкин жребий ничем не сквернее жребия с господином Лужиным", потому что в обоих случаях любовь покупается. Дуня "была замечательно хороша собою — высокая, удивительно стройная, сильная, самоуверенная, — что высказывалось во всяком жесте ее и что, впрочем, нисколько не отнимало у ее движений мягкости и грациозности". Красота сестры Раскольникова служит причиной, почему ее домогаются и Свидригайлов, и Лужин. Дуня лишена Сониной рефлексии, да и судьба ее складывается все же не так драматично, как у возлюбленной брата. Если Соня — первая, кому Родион признается в убийстве, то сестра — это последний человек, с кем он делится отягчающим душу преступлением перед тем, как сдаться полиции. Раскольников говорит ей: "Я сейчас иду предавать себя. Но я не знаю, для чего я иду предавать себя". Дуня, плача, восклицает: "Разве ты, идучи на страдание, не смываешь уже вполовину свое преступление?" И тут брат заявляет, что вовсе не считает содеянное преступлением, а прийти с повинной решился "просто от низости и бездарности моей", да еще из страха перед разоблачением и в надежде, что признание облегчит его участь. Но тут же сознает, что сделал несчастными и мать, и сестру, и возлюбленную, и просит простить его.
Общее горе сближает Дуню и Соню, причем "Дуня из этого свидания по крайней мере вынесла одно утешение, что брат будет не один: к ней, Соне, к первой пришел он со своею исповедью; в ней искал он человека, когда ему понадобился человек; она же и пойдет за ним, куда пошлет судьба. Она и не спрашивала, но знала, что это будет так Она смотрела на Соню даже с каким-то благоговением и сначала почти смущала ее этим благоговейным чувством, с которым к ней относилась. Соня готова была даже чуть не заплакать; она, напротив, считала себя недостойною даже взглянуть на Дуню. Прекрасный образ Дуни, когда та откланялась ей с таким вниманием и уважением во время их первого свидания у Раскольникова, с тех пор навеки остался в душе ее как одно из самых прекрасных и недосягаемых видений в ее жизни".
Хотя Достоевский по-своему любуется и Соней и Дуней, первая ему явно ближе, чем вторая. Сестра Раскольникова честна, благородна, искренне любит брата и болеет за него. Но к вопросам веры она равнодушна, в ее душе нет тех борений, что есть в душе у Сони. В эпилоге Дуня находит свое счастье, выйдя замуж за товарища брата, студента Разумихина, человека доброго, но вполне рационального и к религии равнодушного. "В молодой и горячей голове Разумихина твердо укрепился проект положить в будущие три-четыре года, по возможности, хоть начало будущего состояния, скопить хоть несколько денег и переехать в Сибирь, где почва богата во всех отношениях, а работников, людей и капиталов мало; там поселиться в том самом городе, где будет Родя, и… всем вместе начать новую жизнь". В сущности, муж Дуни — это сильно облагороженная разновидность Лужина. Иона вполне солидарна с ним в планах по приобретению капитала. Соня же думает о новой жизни исключительно в духовном смысле, и в конце концов, с помощью Евангелия, пробуждает к ней Раскольникова. Характерно, что она поехала к Родиону в Сибирь, тогда как Дуня с Разумихиным туда так и не собрались, даже когда узнали о тяжелой болезни Родиона. Неблагополучная, но нравственно возвышенная, способная на сильнейшие душевные порывы Соня Достоевскому гораздо милее, чем благополучная и ровная в своих чувствах Дуня.
Соня Мармеладова живет на квартире у портного Капернаумова. В черновых записях Достоевский прямо отмечал, что Соня, также как евангельская блудница Мария Магдалина из города Магдала, близ Капернаума, идет за Раскольниковым "на Голгофу…". Здесь есть еще и оригинальная игра слов, поскольку в просторечии "капернаумом" называли кабак.
Евангелие, которое Соня читает Раскольникову и которое в конце концов возвращает его к христианской вере ("Книга была старая, подержанная, в кожаном переплете"), — это то самое Евангелие, которое подарили Достоевскому в 1850 г. в Тобольске на пересыльном дворе жены декабристов А. Г. Муравьева, П. Е. Анненкова и Н. Д. Фонвизина.
Воспитанник Константиновского межевого института Н.Н. фон Фохт, познакомившийся с Достоевским в 1866 году, вспоминал: "…Однажды мне удалось, сидя у Федора Михайловича за утренним чаем, услышать от него несколько слов по поводу небольшого Евангелия, которое у него лежало на маленьком письменном столе. Мое внимание возбудило то обстоятельство, что в этом Евангелии края старинного кожаного переплета были подрезаны. На мой вопрос о значении этих подрезов Достоевский мне объяснил, что когда он должен был отправиться в ссылку в Сибирь, то родные благословили и напутствовали его этою книгою, в переплете которой были скрыты деньги. Арестантам не дозволялось иметь собственных денег, а потому такая догадливость его родных до некоторой степени облегчила ему на первое время перенесение суровой и тяжелой обстановки в сибирском остроге.
— Да, — сказал с грустью Федор Михайлович, — деньги — это чеканенная свобода…
С этим Евангелием Достоевский потом никогда в жизни не расставался, и оно у него всегда лежало на письменном столе".
Замечу, что эта версия противоречит другой, более распространенной и более романтической, согласно которой Евангелие Достоевскому вручили уже в Сибири жены декабристов. Но в любом случае, кто бы ни дал Достоевскому Новый Завет, версия с зашитыми в переплет деньгами выглядит вполне правдоподобной Вряд ли Фохт выдумал такую деталь.
С этой книгой Нового Завета Достоевский и умер. Последние 8 лет своей жизни Федор Михайлович страдал эмфиземой легких. Смерть случилась из-за разрыва легочной артерии, что никак нельзя было заранее предвидеть. Предсмертная болезнь началась в ночь с 25 на 26 января небольшим кровотечением из носа, на которое Достоевский не обратил внимания. 26 января он, чувствуя себя совершенно здоровым, не захотел советоваться с докторами насчет кровотечения. В 4 часа пополудни сделалось первое кровотечение горлом. Тотчас привезли пользовавшего Достоевского доктора фон Бретцеля. Уже при нем, часа через полтора, произошло второе, более сильное кровотечение, и Федор Михайлович потерял сознание. Когда он очнулся, то, предчувствуя скорый конец, захотел исповедаться и причаститься. До прихода священника Достоевский успел проститься с женой и детьми и благословил их После причащения он почувствовал себя лучше. Весь день 27 января кровотечения не было, и Федор Михайлович чувствовал себя относительно хорошо. Очень заботился он о том, чтобы "Дневник писателя" вышел непременно, беспокоился о корректуре и просил читать ему газеты. 28 января до 12 часов все шло благополучно, но затем опять пошла горлом кровь, и больной очень ослабел. В это время к нему заехал А. Н. Майков и провел у него все время до обеда, ухаживая за Достоевским вместе с домашними. По свидетельству А. Г. Достоевской, в решительные минуты жизни ее муж наудачу раскрывал то самое Евангелие, которое пронес через каторгу, и читал верхние строки открывшейся страницы. И на этот раз он попросил жену сделать так же. Открылось Евангелие от Матфея, гл. III, ст. II: "Иоанн же удерживал его и говорил: мне надобно креститься от Тебя и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: не удерживай, ибо так надлежит Нам исполнить великую правду". Когда Анна Григорьевна прочла это место, Федор Михайлович произнес: "Ты слышишь, "не удерживай" — значит, я умру", — и закрыл Евангелие. За два часа до кончины Достоевский попросил передать Евангелие его сыну Феде. После обеда А. Н. Майков вернулся к больному уже не один, а с женою. В половине седьмого вечера произошло последнее кровотечение. Больной впал в беспамятство. Началась агония. Анна Ивановна Майкова привела доктора Н. П. Черепнина, но тот успел только услышать последние удары сердца великого писателя. Несколько ранее успел приехать журналист "Русского вестника" Маркевич. Достоевский скончался 28 января 1881 года, в 8 часов 38 минут вечера.
•
Князь Мышкин: поражение и победа "абсолютно прекрасного человека"
Летом 1866 года под бременем долгов Достоевский подписал грабительский договор с издателем Ф. Стел-ловским, уступив ему за три тысячи рублей право на издание трех томов его сочинений и обязавшись представить к 1 ноября 1866 г. новый роман в 12 печатных листов. В случае невыполнения последнего пункта он должен был внести неустойку и терял права на все тома в продолжение девяти лет. Стелловский рассчитывал на то, что аванс, выданный писателю, уйдет на уплату векселей и все произведения достанутся ему за бесценок. Достоевский, чтобы избавиться от грозившей ему кабалы, решается на крайнюю меру: "Я хочу сделать небывалую и эксцентрическую вещь, написать в четыре месяца 30 печатных листов в двух разных романах, один из которых я буду писать утром, а другой вечером, и окончить к сроку".
Для того чтобы успеть к сроку, Достоевский нанял стенографистку Анну Григорьевну Сниткину, которая вскоре, 15 февраля 1867 года, стала его женой.
Родственники писателя не приняли молоденькую жену. Она заложила все, на что ушли деньги ее приданого, — мебель, серебро, одежду и, к негодованию родни, увезла Федора Михайловича за границу. Собирались они пробыть там три месяца, а вернулись через четыре года. Анна Григорьевна, с ее чисто немецкой практичностью, смогла нормализовать материальные дела Федора Михайловича, наладила контроль за получением гонораров, постепенно отвадила мужа от рулетки и добилась того, что он не имел больше долгов. Но это было уже в 70-е годы, а пока отъезд за границу, где супруги пробыли до июля 1871 года, фактически был бегством от кредиторов.
На дорогу Достоевский взял у Каткова 3000 рублей под задуманный роман "Идиот", оставив большую часть денег семье брата. Жили главным образом в Германии и Швейцарии. В Баден-Бадене писатель проиграл в рулетку деньги, костюм и даже платья жены. Пришлось делать новые займы, работать с предельным напряжением сил. В Женеве иной раз приходилось занимать по 5 или 10 франков у Огарева; приходилось закладывать платье, ютиться в одной комнате. Когда В. В. Кашпирев (редактор "Зари") не выслал ему к сроку 75 рублей, Достоевский возмущенно писал одному из друзей: "Неужели он думает, что я писал ему о своей нужде только для красоты слога! Как могу я писать, когда я голоден, когда я, чтобы достать два талера на телеграмму, штаны заложил! Да черт со мной и с моим голодом! Но ведь она (жена) кормит ребенка, что ж, если она последнюю свою шерстяную юбку идет сама закладывать! А ведь у нас второй день снег идет (не вру, справьтесь в газетах), ведь она простудиться может! Неужели он не может понять, что мне стыдно объяснять ему все это! Да неужели уже он не понимает, что он не только меня, но и жену мою оскорбил, обращаясь со мной так небрежно, после того, как я писал ему о нуждах жены. Оскорбил, оскорбил!.. Он скажет, может быть: "А черт с ним и с его нуждой! Он должен просить, а не требовать…" В письмах Достоевский жаловался на нищету, на то, что жене его приходится зимой закладывать последнюю шерстяную юбку, а самому ему — панталоны, чтобы получить два талера для телеграммы; жалуется на болезнь и на утомленное состояние духа, из-за чего "не пишется". Тем не менее за эти четыре года Достоевский написал много. В Россию они с Анной Григорьевной привезли рукописи "Идиота", повести "Вечный муж" и начало романа "Бесы".
О финансовых проблемах, заставивших его задержаться за границей, Достоевский откровенно рассказал в письме А. Е. Врангелю 31 марта/ 9/14 апреля 1865 года: "Вы знаете, вероятно, что брат затеял четыре года назад журнал. Я ему сотрудничал. Все шло прекрасно. Мой "Мертвый дом" сделал буквально фурор, и я возобновил им свою литературную репутацию. У брата были огромные долги при начале журнала, и те стали оплачиваться, — как вдруг в 63-м году, в мае, журнал был запрещен за одну самую горячую и патриотическую статью, которую по ошибке приняли за самую возмутительную против правительственных действий и общественного тогдашнего настроения. Правда, и писатель был отчасти виноват (один из наших ближайших сотрудников), слишком перегонял, и его поняли обратно. Дело скоро поняли как надо, но уж журнал был запрещен. С этой минуты дела брата приняли крайнее расстройство, кредит его пропал, долги обнаружились, а заплатить было нечем. Брат выхлопотал себе позволение продолжать журнал, под новым названием "Эпоха". Позволение вышло только в конце февраля 64-го. 1-й номер не мог появиться раньше 20 марта. Журнал, значит, опоздал, подписка уже повсеместно кончилась, потому что публика подписывается на все журналы по старой привычке только в 3 месяца, в декабре, январе и феврале. Надо было удовлетворить прежних подписчиков, которые не получили расчету при прекращении "Времени". Им объявлено было, чтоб они досылали по шести рублей за "Эпоху" 1864 года. Так как новых подписчиков почти не было, а были все старые, досылавшие по шести рублей, то, стало быть, брат должен был издавать журнал себе в убыток. Это окончательно его расстроило и доконало. Он начал делать долги, здоровье же его стало расстраиваться. Меня подле него в это время не было. Я был в Москве, подле умиравшей жены моей. Да, Александр Егорович, да, мой бесценный друг, Вы пишете и соболезнуете о моей роковой потере, о смерти моего ангела брата Миши, а не знаете, до какой степени судьба меня задавила! Другое существо, любившее меня и которое я любил без меры, жена моя, умерла в Москве, куда переехала за год до смерти своей, от чахотки. Я переехал — вслед за нею, не отходил от ее постели всю зиму 64-го года, и 16 апреля прошлого года она скончалась, в полной памяти, и, прощаясь, вспоминая всех, кому хотела в последний раз от себя поклониться, вспомнила и об Вас. Передаю Вам ее поклон, старый, добрый друг мой. Помяните ее хорошим, добрым воспоминанием. О, друг мой, она любила меня беспредельно, я любил ее тоже без меры, но мы не жили с ней счастливо.
Все расскажу Вам при свидании; — теперь же скажу только то, что, несмотря на то, что мы были с ней положительно несчастны вместе (по ее странному, мнительному и болезненно фантастическому характеру) — мы не могли перестать любить друг друга; даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу. Как ни странно это, а это было так. Это была самая честнейшая, самая благороднейшая и великодушнейшая женщина из всех, которых я зная во всю жизнь. Когда она умерла, — я, хоть мучился, видя (весь год), как она умирает, хоть и ценил и мучительно чувствовал, что я хороню с нею, — но никак не мог вообразить, до какой степени Стало больно и пусто в моей жизни, когда ее засыпали землею. И вот уж год, а чувство все то же, не уменьшается… Бросился я, схоронив ее, в Петербург, к брату, — он один у меня оставался, но через три месяца умер и он, прохворав всего месяц и слегка, так что кризис, перешедший в смерть, случился почти неожиданно, в три дня.
И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно. Вся жизнь переломилась разом надвое. В одной половине, которую я перешел, было все, для чего я жил, а в другой, неизвестной еще половине, все чуждое, все новое, и ни одного сердца, которое бы могло мне заменить тех обоих Буквально — мне не для чего оставалось жить. Новые связи делать, новую жизнь выдумывать!
Мне противна была даже и мысль об этом. Я тут в первый раз почувствовал, что их некем заменить, что я их только и любил на свете и что новой любви не только не наживешь, да и не надо наживать. Стало все вокруг меня холодно и пустынно. И вот, когда я три месяца назад получил Ваше горячее, доброе письмо, полное прежних воспоминаний, мне стало так грустно, что и не знаю, как Вам выразить. Но слушайте далее…
После брата осталось всего триста рублей, и на эти деньги его и похоронили. Кроме того, до двадцати пяти тысяч долгу, из которых десять тысяч долгу отдаленного, который не мог обеспокоить его семейство, но пятнадцать тысяч по векселям, требовавшим уплаты. Вы спросите: какими же средствами мог бы он додать шесть книг журнала за остальную половину года (он умер в июле 64-го года)? Но у него был чрезвычайный и огромный кредит, сверх того, он вполне мог занять, и заем уже был в ходу. Но он умер и весь кредит журнала рушился. Ни копейки денег, чтоб издавать его, а додать надо было шесть книг, что стоило 18 000 руб. minimum, да сверх того удовлетворить кредиторов, на что надо было 15 000, — итого надо было 33 000, чтоб кончить год и добиться до новой подписки журнала. Семейство его осталось буквально без всяких средств, — хоть ступай по миру. Я у них остался единой надеждой, и они все, и вдова, и дети, сбились в кучу около меня, ожидая от меня спасения. Брата моего я любил бесконечно, — мог ли я их оставить? Предстояло две дороги: 1) прекратить журнал, предоставить журнал (так как журнал все-таки именье и чего-нибудь стоит) кредиторам вместе с мебелью и с домашним хламом и взять семейство к себе. Затем работать, литературствовать, писать романы и содержать вдову и сирот брата; 2-й случай) достать денег и продолжать издание во что бы ни стало. Как жаль, что я не решился на первое! Кредиторы, конечно, не получили бы и 20 на сто. Но семейство, отказавшись от наследства, по закону не обязано было бы ничего и платить. Я же во все эти пять лет, работая у брата и в журналах, зарабатывал от восьми до десяти тысяч в год. Следственно, мог бы прокормить и их и себя, — конечно, работая с утра до ночи всю жизнь. Но я предпочел второе, то есть продолжать издание журнала. Не я, впрочем, один предпочел это. Все друзья мои и прежние сотрудники были того же мнения…
К тому же надо было отдать долги брата: я не хотел, чтоб на его имя легла дурная память. Средство было: дойти до годовой подписки, оплатить часть долгу, стараться, чтоб журнал был год от году лучше, и года через три-четыре, заплатив долги, сдать кому-нибудь журнал, обеспечив семейство брата. Тогда бы я отдохнул, тогда бы я опять стал писать то, что давно хочется высказать. Я решился. Поехал в Москву, выпросил у старой и богатой моей тетки 10 000, которые она назначала на мою долю в своем завещании, и, воротившись в Петербург, стал додавать журнал. Но дело было уже сильно испорчено; требовалось выпросить разрешение цензурное издавать журнал. Дело протянули так, что только в конце августа могла появиться июльская книга журнала. Подписчики, которым ни до чего нет дела, стали негодовать. Имени моего не позволила мне цензура поставить на журнале, ни как редактора, ни как издателя. Надобно было решиться на меры энергические. Я стал печатать разом в трех типографиях, не жалел денег, не жалел здоровья и сил. Редактором был один я, читал корректуры, возился с авторами, с цензурой, поправлял статьи, доставал деньги, просиживал до шести часов утра и спал по 5 часов в сутки, и хоть ввел в журнал порядок, но уже было поздно. Верите ли: 28 ноября вышла сентябрьская книга, а 13 февраля генварская книга 1865 года, значит, по 16 дней на книгу, и каждая книга в 35 листов. Чего же это мне стоило! Но главное, при всей этой каторжной черной работе я сам не мог написать и напечатать в журнале ни строчки своего. Моего имени публика не встречала, и даже в Петербурге, не только в провинции, не знали, что я редактирую журнал.
И вдруг последовал у нас всеобщий журнальный кризис. Во всех журналах разом подписка не состоялась. "Современник", имевший постоянных 5000 подписчиков, очутился с 2300. Все остальные журналы упали. У нас осталось только 1300 подписчиков.
Много причин этого журнального нашего, по всей России, кризиса. Главное, они ясны, хотя и сложны. Но об нем после. Посудите, каково положение наше. Каково, главное, мое положение! Чтоб старые братнины долги не беспокоили хода дела, я перевел их тысяч на десять на себя. Я рассчитывал, что если б журнал имел в этом году, при несчастьи, хотя бы только 2500 подписчиков вместо прежних четырех, то и тут все бы уладилось. По крайней мере, свои долги рас-платили бы. Я рассчитывал верно: никогда еще не бывало с самого начала нашего журнализма, с тридцатых годов, чтоб число подписчиков убавилось в один год более чем на 25 процентов. Приписывать худому ведению дела я не могу. Ведь и "Время" я начал, а не брат, я его направлял и я редактировал. Одним словом, с нами случилось то же самое, как если бы у владельца или купца сгорел бы дом или его фабрика и он из достаточного человека обратился бы в банкрута.
При начале подписки долги, преимущественно еще покойного брата, потребовали уплаты. Мы платили из подписных денег, рассчитывая, что за уплатою все-таки останется чем издавать журнал, но подписка пресеклась, и, выдав два номера журнала, мы остались без ничего…
Я ездил в Москву доставать денег, искал компаньона в журнал на самых выгодных условиях, но, кроме журнального кризиса, у нас в России денежный кризис. Теперь мы не можем, за неимением денег, издавать журнал далее и должны объявить временное банкротство, а на мне, кроме того, до 10 000 вексельного долгу и 5000 на честное слово.
Из них три тысячи надо заплатить во что бы то ни стало. Кроме того, 2000 нужно для того, чтоб выкупить право на издание моих сочинений, которые в закладе, и приступить к их изданию самому. Книгопродавцы дают мне за это право 5000 рублей. Но это мне невыгодно. Если я буду издавать их сам, — будет выгоднее. Теперь, чтоб заплатить долги, хочу издавать новый роман мой выпусками, как делается в Англии. Кроме того, хочу издавать "Мертвый дом" тоже выпусками и с иллюстрацией, роскошным изданием, и наконец, в будущем году, полное собрание моих сочинений. Все это, надеюсь, даст тысяч пятнадцать, — но какова каторжная работа.
О, друг мой, я охотно бы пошел опять в каторгу на столько же лет, чтоб только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Теперь опять начну писать роман из-под палки, то есть из нужды, наскоро. Он выйдет эффектен, но того ли мне надобно! Работа из нужды, из денег задавила и съела меня.
И все-таки, для начала мне нужно теперь хоть три тысячи. Бьюсь по всем углам, чтоб их достать, — иначе погибну. Чувствую, что только случай может спасти меня. Из всего запаса моих сил и энергии осталось у меня в душе что-то тревожное и смутное, что-то близкое к отчаянью. Тревога, горечь, самая холодная суетня, самое ненормальное для меня состояние, и вдобавок — один, — прежних и прежнего, сорокалетнего, нет уже при мне. А между тем все мне кажется, что я только что собираюсь жить. Смешно, не правда ли? Кошечья живучесть!"
Роман "Идиот" был впервые опубликован в журнале "Русский вестник" (1868, № 1, 2, 4 — 12 и приложение к № 12) с посвящением племяннице писателя С А. Ивановой и с проставленной в конце датой завершения романа: "17 января 1869". Отдельное издание "Идиота", в которое были внесены небольшие стилистические исправления, Достоевскому удалось осуществить только по возвращении из-за границы в 1874 году, когда его жена организовала собственное издательство.
Главные герои "Идиота" — это князь Лев Николаевич Мышкин и красавица Настасья Филипповна Барашкова. Она — бывшая содержанка Афанасия Ивановича Тоцкого, богатейшего помещика, вхожего в высший свет. Ее любви домогаются богатый купец Парфен Семенович Рогожин и Гавриил Ардолионович (Ганя) Иволгин, сын разорившегося генерала, приживал в доме своей сестры Варвары и ее мужа, ростовщика Ивана Петровича Птицына ("птичьи" фамилии обоих — намек, что они "из одного гнезда" и главная страсть обоих — деньги). Настасья Филипповна предпочитает идеалиста Мышкина, но Рогожин из ревности убивает ее. Есть в романе и "чистенькая" красавица, Аглая Ивановна Епанчина, младшая дочь генерала Епанчина, соперничающая с Настасьей Филипповной за любовь князя Мышкина. Вот в самом кратком изложении сюжет "Идиота" и перечень его основных персонажей.
"Идиот" имеет очевидную связь с "Преступлением и наказанием", только здесь главные герои поменялись полами, а в финале нет никакого катарсиса. В "Преступлении и наказании" Соня выступала в роли духовной спасительницы Раскольникова и в конце концов спасала его, заставляла раскаяться в убийстве, отказаться от порочной теории "двух разрядов людей". В "Идиоте" в роли спасителя в отношении Настасьи Филипповны выступает князь Мышкин, "положительно прекрасный человек", новое воплощение Христа. Спасти он пытается ее от обуревающих ее страстей, но терпит фиаско, ибо Настасья Филипповна становится жертвой ревности Рогожина. Тоцкий же в "Идиоте" — это бледная копия Свидригайлова, но бледная отнюдь не в художественном, а только в идейном смысле. У Тоцкого, как и у Свидригайлова, есть сладострастие и приверженность разврату, но нет преступлений Аркадия Ивановича, его страсти к разрешению "последних вопросов" бытия, поэтому невозможно представить себе Афанасия Ивановича, совершающего самоубийство. В "Идиоте" главная проблема — не развенчание "идейных" преступлений и приведение к раскаянию через любовь к Богу и любовь земную идеологических преступников, а показ страстей человеческих, будь то любовь мужчины и женщины, страсть к деньгам (у многих в романе обе эти страсти тесно переплетаются). При этом выясняется, что "положительно прекрасный человек" ничего не может поделать со страстями человечества. Он лишь способен оставить о себе добрую память и надежду, что в будущем люди, вспомнив его, не будут становиться жертвами страстей. Точно так же в "Легенде о Великом инквизиторе" Христос своим пришествием не может отвратить людей от того, чтобы творить зло Его именем, но своим всепрощением может зародить сомнения в самых убежденных поборниках антихриста.
Н. А. Бердяев в "Мировоззрении Достоевского" верно указал, что разврат и вообще половая любовь у Достоевского призваны продемонстрировать раздвоенность героев: "В трагедии мужского духа женщина означает раздвоение. Половая любовь, страсть говорит об утере целостности человеческой природы. Поэтому страсть не целомудренна. Целомудрие есть целостность. Разврат есть разорванность. Достоевский проводит человека через раздвоение во всем. И любовь раздвоена у него на два начала. И любят у него обычно двух. Двойная любовь и двоение в любви изображены им с необычайной силой. Он раскрывает в любви два начала, две стихии, две бездны, в которые проваливается человек, — бездну сладострастия и бездну сострадания, Любовь всегда у Достоевского доходит до предела, он исходит от исступленного сладострастия и от исступленного сострадания. Достоевского только и интересовало выявление этих предельных стихий любви. Его не интересовала мера в любви. Он ведь производил эксперименты над человеческой природой и хотел исследовать глубину ее, поставив человека в исключительные условия. Любовь всегда двоится у Достоевского, предмет любви двоится. Нет единой, целостной любви. Так и должно быть в путях своеволия человека. В этом двоении происходит существенное повреждение личности. Человеческой личности угрожает потерять целостность своего образа. И любовь-сладострастие, и любовь-сострадание, не знающие меры, ничему высшему не подчиненные, одинаково сжигают, испепеляют человека. В глубине самого сострадания Достоевский открывает своеобразное сладострастие. Страсть нецельного, раздвоенного человека переходит в исступление, и раздвоенность, разорванность этим не преодолевается. Он остается в самом себе, в своем раздвоении. Он вносит в любовь это свое раздвоение. Любовь влечет к гибели на противоположных своих полюсах. Соединение, целостность, победа над раздвоением никогда не достигается. Ни беспредельное сладострастие, ни беспредельное сострадание не соединяет с любимым. Человек остается одиноким, предоставленным себе в своих полярных страстях, он лишь истощает свои силы. Любовь у Достоевского почти всегда демонична, она порождает беснование, накаляет окружающую атмосферу до белого каления. Не только любящие начинают сходить с ума, но начинают сходить с ума и все окружающие. Исступленная любовь Версилова к Екатерине Николаевне создает атмосферу безумия, она всех держит в величайшем напряжении. Токи любви, соединяющие Мышкина, Рогожина, Настасью Филипповну и Аглаю, накаляют всю атмосферу. Любовь Ставрогина и Лизы порождает бесовские вихри.
Любовь Мити Карамазова, Ивана, Грушеньки и Екатерины Ивановны влечет к преступлению, сводит с ума. И никогда и нигде любовь не находит себе успокоения, не ведет к радости соединения. Нет просвета любви. Повсюду раскрывается неблагополучие в любви, темное и истребляющее начало, мучительность любви. Любовь не преодолевает раздвоения, а еще более его углубляет. Две женщины, как две страдающие стихии, всегда ведут беспощадную борьбу из-за любви, истребляют себя и других. Так сталкиваются Настасья Филипповна и Аглая в "Идиоте", Грушенька и Екатерина Ивановна в "Братьях Карамазовых". Есть что-то не знающее пощады в соревновании и борьбе этих женщин. Та же атмосфера соревнования и борьбы женских страстей есть и в "Бесах", и в "Подростке", хотя и в менее выпуклой форме. Мужская природа раздвоена. Женская природа не просветлена, в ней есть притягивающая бездна, но никогда нет ни образа благословенной матери, ни образа благословенной девы. Вина тут лежит на мужском начале. Оно оторвалось от начала женского, от матери-земли, от своей девственности, т. е. своего целомудрия и цельности, и пошло путем блужданий и двоений. Мужское начало оказывается бессильным перед женским началом. Ставрогин бессилен перед Лизой и Хромоножкой. Версилов бессилен перед Екатериной Николаевной, Мышкин бессилен перед Настасьей Филипповной и Аглаей, Митя Карамазов бессилен перед Грушенькой и Екатериной Ивановной. Мужчины и женщины остаются трагически разделенными и мучают друг друга. Мужчина бессилен овладеть женщиной, он не принимает женской природы внутрь себя и не проникает в нее, он переживает ее как тему своего собственного раздвоения.
Тема двойной любви занимает большое место в романах Достоевского. Образ двойной любви особенно интересен в "Идиоте". Мышкин любит и Настасью Филипповну, и Аглаю. Мышкин — чистый человек, в нем есть ангелическая природа. Он свободен от темной стихии сладострастия. Но и его любовь — больная, раздвоенная, безысходно-трагическая. И для него двоится предмет любви. И это двоение есть лишь столкновение двух начал в нем самом. Он бессилен соединиться и с Аглаей, и с Настасьей Филипповной, он по природе своей не способен к браку, к брачной любви. Образ Аглаи пленяет его, и он готов быть ее верным рыцарем. Но если другие герои Достоевского страдают от избытка сладострастия, то он страдает от его отсутствия. У него нет и здорового слад острастия. Его любовь бесплотна и бескровна. Но с тем большей силой выражается у него другой полюс любви, и перед ним разверзается другая ее бездна. Он любит Настасью Филипповну жалостью, состраданием, и сострадание его беспредельно. Есть что-то испепеляющее в этом сострадании. В сострадании своем он проявляет своеволие, он переходит границы дозволенного. Бездна сострадания поглощает и губит его. Он хотел бы перенести в вечную божественную жизнь то надрывное сострадание, которое порождено условиями относительной земной жизни. Он хочет Богу навязать свое беспредельное сострадание к Настасье Филипповне. Он забывает во имя этого сострадания обязанности по отношению к собственной личности. В сострадании его нет целостности духа, он ослаблен раздвоением, так как он любит и Аглаю другой любовью. Достоевский показывает, как в чистом, ангелоподобном существе раскрывается больная любовь, несущая гибель, а не спасение. В любви Мышкина нет благодатной устремленности к единому, целостному предмету любви, к полному соединению. Такое беспредельное истребляющее сострадание только и возможно к существу, с которым никогда не будешь соединен. Природа Мышкина тоже дионисическая природа, но это своеобразный, тихий, христианский дионисизм. Мышкин все время пребывает в тихом экстазе, каком-то ангелическом исступлении. И, быть может, все несчастье Мышкина в том, что он слишком был подобен ангелу и недостаточно был человеком, не до конца человеком. Поэтому образ Мышкина стоит в стороне от тех образов Достоевского, в которых он изображает судьбу человека. В Алеше попытался он дать положительный образ человека, которому ничто человеческое не чуждо, которому присуща вся страстная природа человека и который преодолевает раздвоение, выходит к свету.
Я не думаю, что образ этот особенно удался Достоевскому. Но на ангелоподобном образе Мышкина, которому многое человеческое было чуждо, нельзя было остановиться как на выходе из трагедии человека. Трагедия любви у Мышкина переносится в вечность, и ангельская его природа есть один из источников увековечения этой трагедии любви. Достоевский наделяет Мышкина удивительным даром прозрения. Он прозревает судьбу всех окружающих людей, прозревает самую глубину любимых им женщин. У него сближаются восприятия эмпирического мира с восприятиями мира иного. Но этот дар прозрения есть единственный дар Мышкина в отношении к женской природе. Овладеть этой природой и соединиться с ней он бессилен. Замечательно, что у Достоевского всюду женщины вызывают сладострастие или жалость, иногда одни и те же женщины у разных людей вызывают эти разные отношения. Настасья Филипповна у Мышкина вызывает бесконечное сострадание, у Рогожина — бесконечное сладострастие. Соня Мармеладова, мать подростка вызывают жалость. Грушенька вызывает к себе сладострастное отношение. Сладострастие есть в отношении Версилова к Екатерине Николаевне, и он же жалостью любит свою жену; то же сладострастие есть в отношении Ставрогина к Лизе, но в угасающей И задавленной форме. Но ни исключительная власть сладострастия, ни исключительная власть сострадания не соединяет с предметом любви. Тайна брачной любви не есть ни исключительное сладострастие, ни исключительное сострадание, хотя оба начала привходят в брачную любовь. Но Достоевский не знает этой брачной любви; тайны соединения двух душ в единую душу и двух плотей в единую плоть. Поэтому любовь его изначально осуждена на гибель…"
Взаимоотношения красавицы Катерины, одержимого неистовой страстью к ней купца Мурина и влюбленного в нее мечтателя Ордынова в ранней повести "Хозяйка" (1847) не без основания можно рассматривать как зародыш сюжетной ситуации: Настасья Филипповна — Рогожин — Мышкин. В видениях больного Ордынова Катерина предстает как светлая, чистая "голубица".
Роман "Идиот" был задуман и написан за границей, куда писатель выехал с женой в апреле 1867 года. Побывав в Берлине, Дрездене, Гамбурге, Баден-Бадене, Достоевский 16 (28) августа 1867 г. сообщал из Швейцарии А. Н. Майкову: "Теперь я приехал в Женеву с идеями в голове. Роман есть, и, если Бог поможет, выйдет вещь большая и, может быть, недурная. Люблю я ее ужасно и писать буду с наслаждением и тревогой".
Первая запись к роману "Идиот" была сделана в Женеве 14 сентября ст. ст. 1867 года; продолжая работать над романом в Женеве, Вене, Милане, Достоевский завершил его во Флоренции.
Герой начальных планов ранней редакции — младший нелюбимый сын в разорившемся генеральском семействе. Идиот кормит семью, унижен, болен падучей, как и сам писатель, что указывает на автобиографичность образа. Идиотом его называют из-за нервности, необычности слов и поступков. По своему характеру он близок к Раскольникову, наделен "гордостью непомерной" и "потребностью любви жгучей": это "формирующийся человек", который при жажде самоутверждения и отсутствии "веры" во что-либо, от избытка внутренних сил способен к крайним проявлениям и добра, и зла. Предшественница Настасьи Филипповны в черновиках звалась Миньоной, по имени героини романа Гете "Годы ученья Вильгельма Мейстера". Затем Достоевский назвал ее Ольгой Умецкой, взяв это имя из судебного процесса Умецких. За этим процессом Достоевский внимательно следил по русским газетам. Героиня Достоевского, приемыш, падчерица сестры матери, терпит унижения и подвергается "покушениям". Писатель характеризует ее как "мстительница и ангел". Она явно восходит к пятнадцатилетней Ольге Умецкой, доведенной жестоким обращением родителей, особенно избивавшего ее отца Владимира Умецкого, до того, что она четырежды поджигала дом родителей.
В наброске, сделанном 29 октября 1867 года, Достоевский писал: "Финал великой души. Любовь — 3 фазиса: мщение и самолюбие, страсть, высшая любовь — очищается человек".
В октябре — ноябре 1867 года Достоевский сделал набросок под названием "Император" — для неосуществленной поэмы "Одна жизнь" (поэма, вероятно, предполагалась в прозе, как и позднейшая "Легенда о Великом инквизиторе"). Не исключено, что эту поэму Достоевский собирался включить в текст будущего "Идиота" в качестве вставной новеллы, вроде "Легенды о Великом инквизиторе" в "Братьях Карамазовых", но передумал. В наброске речь шла об истории несчастного императора Ивана VI Антоновича, с младенчества находившегося в заключении и убитого при попытке освободить его поручиком Мировичем. Вот этот текст:
"Подполье, мрак, юноша, не умеет говорить, Иван Антонович, почти двадцать лет. Описание природы этого человека. Его развитие. Развивается сам собой, фантастические картины и образы, сны, дева (во сне) — выдумал, увидал в окно. Понятия о всех предметах. Ужасная фантазия, мыши, кот, собака. Молодой офицер, адъютант Коменданта, задумал переворот, чтоб провозгласить его императором. Он знакомится с ним, подкупает старого инвалида, прислуживающего арестанту, проходит к нему. Встреча двух человеческих лиц. Изумление его. И радость и страх, дружба. Он развивает узника, учит его, толкует ему, показывает ему деву. (Дочь Коменданта, через которую все делается.) Дочь Коменданта соблазнена быть императрицей. Наконец объявляет ему, что он император, что ему все возможно. Картины могущества ("оттого-то я так и почтителен перед вами; я вам не равен"), (Узник так его полюбил, что однажды говорит: "Если ты мне не равен, я не хочу быть императором" — т. е. чувство, чтоб не потерять его дружбу.) Показывает ему мир, с чердака (Нева и проч.). Наконец бунт, Комендант закалывает Императора шпагой. Тот умирает величаво и грустно. Показывает Божий мир. "Все твое, только захоти. Пойдем!" Нельзя; при неудаче — смерть, что такое смерть?.. Он убивает кошку, чтоб показать ему; кровь. На того страшное впечатление. "Я не хочу жить". Коли так, если за меня кто умрет, если ты умрешь, она умрет…"
Мирович в энтузиазме показывает ему оборотную сторону медали и толкует, сколько, став императором, он может сделать добра. Тот воспламенен.
Мирович энтузиаст. Передает ему понятие о Боге, о Христе.
NB (Он показывает ему свою невесту, дочь Коменданта, условившись с ней (отца не пробуют соблазнить: суровый старик, служака, и не пойдет на безумный подвиг). Невеста согласна: выходит, чтоб показаться, великолепно, по-бальному одетая, с цветами. Энтузиазм Императора. Невеста поражена впечатлением, которое она произвела. У нее мечты: стать императрицей. Мирович замечает это, ревнует. Император замечает его ненависть и ревность, ненавистные взгляды, не понимает, но чувствует, в чем дело.)
Мирович едет в Петербург, картина Петербурга.
При виде Коменданта Иван Антонович смущается: "Я его видел в детстве!"
Основной источник, из которого Достоевский почерпнул фактические сведения об Иоанне Антоновиче, был установлен Л. П. Гроссманом. Это статья издателя "Русской старины", историка М. И. Семевского, "Иоанн VI Антонович. 1740–1764 гг. Очерк из русской истории", опубликованная в 1866 г. в журнале "Отечественные записки". Речь там шла о жизни и судьбе несчастного императора Ивана (Иоанна) VI Антоновича (1740–1764). В трехмесячном возрасте, после смерти императрицы Анны Ивановны, ^октября 1740 года он был провозглашен русским императором, при регентстве его матери, внучки царя Ивана V Анны Леопольдовны, но 25 ноября 1741 года был свергнут в ходе дворцового переворота, и императрицей провозгласили Елизавету Петровну. Всю оставшуюся жизнь он провел в одиночном заключении, разлученный со своими родителями, матерью и отцом, герцогом Антоном-Ульрихом Брауншвейг-Люненбургским. Иван Антонович был убит стражей в царствование Екатерины И, в ночь с 4 на 5 июля 1764 г., при неудачной попытке освобождения его из Шлиссельбургской крепости, предпринятой поручиком В. Я. Мировичем (1740–1764), который намеревался снова провозгласить императором Ивана Антоновича, не получившего никакого образования и едва умевшего говорить, поскольку его воспитанием никто и никогда не занимался. Комендант крепости имел тайный приказ убить опального императора, если его попытаются освободить.
Архивные материалы и официальные правительственные бумаги рисовали Ивана Антоновича слабоумным, косноязычным "идиотом", в сочинениях, вышедших из лагеря врагов Екатерины II, образ его подвергся идеализации, а народная молва приписывала ему черты праведника, народного царя, желающего облегчить тяжкую крестьянскую долю. Семевский утверждал: "Вопреки всем предосторожностям Иоанн Антонович на двенадцатом году узнал тайну своего рождения от одного из солдат, охранявших его темницу". Историк отметил, что "безымянный автор французской апологетической брошюры "Histoire d’Iwan VI" посвящает две странички рассуждениям "о природных и личных свойствах принца". Он уверяет, что душевные доблести и счастливые таланты… были присущи душе молодого Иоанна. Автор, основываясь на предположениях и догадках, опровергает мнение, высказанное другими писателями, будто бы Иоанн был идиот (в чем, однако, кажется, и не может быть сомнения). "Хотя злополучный государь, — восклицает его историк, — содержался под таким строгим надзором, что весьма немногие могли его видеть, тем не менее, истина прошла сквозь стены и валы; и молва народа гласит, что ум и благородные чувства Иоанна делали его вполне достойным той короны, которую носили другие. Постоянное уединение спасло его от недостатков, присущих всем молодым принцам, вырастающим среди соблазнов всякого рода…" Уединение и постоянное умосозерцание, постоянное размышление о самом себе, постоянная беседа со своим собственным сердцем развили принца, по уверению его историка, гораздо более, нежели развили бы его многие учители Европы". Семевский также приводил мнение об Иване Антоновиче британского посла лорда Букингама, писавшего 25 августа 1763 года: "Толки здесь идут разные: одни уверяют, что это полнейший идиот, если верить другим, этот человек лишен воспитания, но скрывает свои способности". И он же отмечал, что "государь этот… был необыкновенной красоты, высок ростом, статен, имел белокурые волосы, русую густую бороду, черты лица правильные, кожу белизны чрезвычайной". Это, кстати сказать, вполне отвечало народным представлениям о "добром царе".
В приведенных цитатах Иван Антонович дважды называется "идиотом", причем оба раза версия о слабоумии опровергается, что явно совпадает со случаем князя Мышкина.
Достоевскому, несомненно, были известны факты биографии Мировича, а также рассказы о нем современников, приведенные в статье Семевского: "Этот человек был очень набожен, даже суеверен, все свои намерения записывал с наложением на себя духовных обещаний… Когда же не исполнились его моления, он с удивительным благоговением принял смерть". Историк отмечал, что Мирович, "обще с поручиком великолуцкого полка, Аполлоном Ушаковым, давал в церквах разные обеты, призывая Бога и Богородицу к себе на помощь". Процесс Мировича трактовался Семевским как один из первых политических процессов в России. Подробно описав казнь, Семевский указал на мнимое "человеколюбие" Екатерины Великой, которая заменила Мировичу четвертование менее мучительной казнью через отсечение головы. Об этом приговоренному было объявлено уже на эшафоте. Точно так же петрашевцам, некоторых из которых тоже первоначально приговорили к четвертованию, об отмене смертной казни было объявлено только тогда, когда их уже вывели на плац, будто бы для исполнения приговора.
В окончательный текст романа эпизод с Иваном Антоновичем и Мировичем не вошел, но, вероятно, под влиянием этого сюжета он решил вложить в уста Мышкина пространные рассуждения о смертной казни как деле антихристианском.
Наряду с очерком Семевского на формирование замысла "поэмы" "Император" оказал воздействие, как установил А. В. Алпатов, и другой — уже не исторический, а литературный — источник. Это опубликованный в 1863 году М. П. Погодиным набросок плана неосуществленного романа о Мировиче, задуманного (в конце 1830 — начале 1840-х годов) украинским романистом и драматургом Г. Ф. Квиткой-Основьяненко. Вот фрагмент этих заметок:
"Можно бы интересный составить исторический роман из горестной жизни несчастного принца, бывшего в России под именем императора Иоанна VI Антоновича. Из двух приставов, находившихся при нем (кто они, известно из манифеста о Мировиче), можно одному придать характер честолюбивый, скрытный, коварный. Или дать ему дочь с самым необыкновенным для девицы характером: скрытным, предприимчивым, сильным, смелым, честолюбивым без меры, твердым, решительным и на все готовым для достижения цели своей. Она, возвратясь из чужих краев, где получила образование с семейством князя, нашла отца при сем принце. Основала план освободить его, возвести на престол и быть его женой, а смотря по обстоятельствам, и царствовать…
Дочь скоро овладела умом отца и склонила его на свою сторону… Принц, который вовсе не был таков, каким его по необходимости изобразили в манифесте, поражается наружностью девицы (к чему много способствовали лета и уединение, в котором он был содержан)… Хитрая скоро проникла принца; говорила с ним, читала, рисовала, день ото дня далее и далее довела его до сознания в любви и заключила с ним условие, что б ни последовало с ним в лучшем обстоятельстве, он женится на ней… Случай сводит ее с Мировичем, человеком подобного же характера, как и она, но вдобавок озлобленного первыми вельможами. Они знакомятся, сближаются. Девица влюбляет его в себя, дает ему мысль о возведении Иоанна на престол и поселяет в него надежду стать при нем генералиссимусом, светлейшим князем и пр. и пр… Мирович… не подозревал никакой связи у его возлюбленной с принцем, а полагал, что она действует для пользы его (Мировича) и из любви к нему".
Вероятно, Иван Антонович мыслился как своеобразный двойник князя Мышкина. Чистый, не затронутый соблазнами и пороками света, принимающий Божий мир как высшую данность, живущий в единении с природой. Для него непереносимы страдания любой Божьей твари, кошки или мыши, вызывают у него желание умереть. Возможно, мышь, являющаяся во сне Ивану Антоновичу, надоумила Достоевского дать своему герою фамилию Мышкин. А мысль о пролитии крови любого живого существа, даже кошки, в "Братьях Карамазовых" дошла до утверждения о слезинке ребенка как мере недопустимого страдания, пусть даже этим будет куплен прогресс всего человечества.
Дочь коменданта — это своеобразное отражение в исторической легенде образа Настасьи Филипповны, к которой вполне можно применить слова о необыкновенном для девушки характере. Мирович послужил одним из прототипов Рогожина. Парфен Семенович готов на все, влекомый неудержимой страстью.
В "Идиоте" все же появилось упоминание одного яркого эпизода истории XVIII века, правда, относящегося еще к петровскому времени.
Ипполит Терентьев, молодой человек, склонный к самоубийству, спрашивает Мышкина:
"— Читали вы, князь, про одну смерть, одного Степана Глебова, в восемнадцатом столетии? Я случайно вчера прочел…
— Какого Степана Глебова?
— Был посажен на кол при Петре.
— Ах, боже мой, знаю! Просидел пятнадцать часов на коле, в мороз, в шубе, и умер с чрезвычайным великодушием; как же, читал… а что?
— Дает же Бог такие смерти людям, а нам таки нет! Вы, может быть, думаете, что я не способен умереть так, как Глебов?
— О, совсем нет, — сконфузился князь, — я хотел только сказать, что вы… то есть не то что вы не походили бы на Глебова, но… что вы… что вы скорее были бы тогда…
— Угадываю: Остерманом, а не Глебовым, — вы это хотите сказать?
— Каким Остерманом? — удивился князь.
— Остерманом, дипломатом Остерманом, Петровским Остерманом, — пробормотал Ипполит, вдруг несколько сбившись. Последовало некоторое недоумение.
— О, н-н-нет! Я не то хотел сказать, — протянул вдруг князь после некоторого молчания, — вы, мне кажется… никогда бы не были Остерманом…
Ипполит нахмурился.
— Впрочем, я ведь почему это так утверждаю, — вдруг подхватил князь, видимо желая поправиться, — потому что тогдашние люди (клянусь вам, меня это всегда поражало) совсем точно и не те люди были, как мы теперь, не то племя было, какое теперь в наш век, право, точно порода другая… Тогда люди были как-то об одной идее, а теперь нервнее, развитее, сенситивнее, как-то о двух, о трех идеях за раз… теперешний человек шире, — и, клянусь, это-то и мешает ему быть таким односоставным человеком, как в тех веках…"
Степан Богданович Глебов (ок. 1672–1718) был любовником жены Петра I Евдокии Лопухиной. В 1718 г. он по обвинению в заговоре против Петра был после жестоких пыток присужден к смертной казни и 16 марта 1718 года посажен на кол. Глебов был одет в шубу и теплые сапоги и умер только спустя четырнадцать часов. О подробностях гибели Глебова Достоевский узнал из шестого тома "Истории царствования Петра Великого" Н. Г. Устрялова (1859).
Здесь противопоставлено идейное единомыслие, будто бы существовавшее в России еще полтора века назад, и идейный разброд 1860-х, который внушал Достоевскому большую тревогу. Писатель полагал, что злодейства со стороны власти существовали всегда, но реакция на них общества была разной. Во времена Петра оно было едино как в их моральном осуждении, так и в понимании того, что эти эксцессы не должны приводить к отрицанию самого института монархии и самодержавной власти. В XIX же веке появились нигилисты, которые стали использовать пороки и преступления власти для борьбы с самой властью и отрицания знаменитой триады православия, самодержавия и народности. Вот это и тревожило Достоевского, видевшего выход в приближении интеллигенции к народу, который хранит истинно православную веру.
Вспомним, какой видит Настасью Филипповну князь Мышкин, сперва еще только на портрете; "Она была сфотографирована в черном шелковом платье, чрезвычайно простого и изящного фасона; волосы, по-видимому, темно-русые, были убраны просто, по-домашнему; глаза темные, глубокие, лоб задумчивый; выражение лица страстное и как бы высокомерное. Она была несколько худа лицом, может быть, и бледна…
— Удивительное лицо! — ответил князь, — и я уверен, что судьба ее не из обыкновенных. Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!
— А женились бы вы на такой женщине? — продолжал Ганя, не спуская с него своего воспаленного взгляда.
— Я не могу жениться ни на ком, я нездоров, — сказал князь.
— А Рогожин женился бы? Как вы думаете?
— Да что же, жениться, я думаю, и завтра же можно; женился бы, а чрез неделю, пожалуй, и зарезал бы ее".
Мышкину дано предвидение судьбы других, но не своей. Он точно узрел в своей любимой гордость и страдания, страсть и высокомерие. Она вся соткана из противоречий и, не в силах их преодолеть, гибнет от ножа того из любовников, кто сам несет в себе те же противоречия. Рогожину: "У тебя… Парфен Семеныч, сильные страсти, такие страсти, что ты как раз бы с ними в Сибирь, на каторгу, улетел, если б у тебя тоже ума не было, потому что у тебя большой ум есть". Она еще не подозревает, что на каторгу он улетит именно из-за нее.
Перебрав с 4 по 18 декабря 1867 года множество планов, Достоевский обрел идею изобразить "вполне прекрасного человека". В письме к своему старому другу поэту А. Н. Майкову от 31 декабря 1867 г. Достоевский признавался: "Труднее этого, по-моему, быть ничего не может, в наше время особенно… Идея эта и прежде мелькала в некотором художественном образе, но ведь только в некотором, а надобен полный. Только отчаянное положение мое принудило меня взять эту невыношенную мысль. Рискнул, как на рулетке: "Может быть, под пером разовьется!"
1(13) января 1868 г. он писал об этом же С А Ивановой: "Идея романа — моя старинная и любимая, но до того трудная, что я долго не смел браться за нее… Главная мысль романа — изобразить положительно прекрасного человека. Труднее этого нет ничего на свете, а особенно теперь. Все писатели, не только наши, но даже все европейские, кто только ни брался за изображение положительно прекрасного, — всегда пасовал. Потому что это задача безмерная. Прекрасное есть идеал, а идеал — ни наш, ни цивилизованной Европы — еще далеко не выработался". Утверждая, что единственное "положительно прекрасное лицо" для него Христос, Достоевский перечислял лучшие образцы мировой литературы, на которые он ориентировался: во-первых, на Дон Кихота Сервантеса, "из прекрасных лиц" стоящего "всего законченнее", затем на Пиквика Диккенса, который, правда, послабее Дон Кихота, и, наконец, на Жана Вальжана из романа "Отверженные" Виктора Пого. Последнего Достоевский ранее называл "провозвестником" идеи "восстановления погибшего человека". В первых двух случаях, по словам Достоевского, герой "прекрасен единственно потому, что в то же время и смешон." Является сострадание к осмеянному и не знающему себе цену прекрасному — а стало быть, является симпатия и в читателе". "Жан Вальжан, тоже сильная попытка, — но он возбуждает симпатию по ужасному своему несчастью и несправедливости к нему общества". Своего героя устами Аглаи Епанчиной Достоевский характеризует как "серьезного" Дон Кихота, соотнеся его с героем пушкинской баллады о "рыцаре бедном", самоотверженно посвятившем свою жизнь служению высокому идеалу.
21 марта 1868 года в черновике Достоевский писал: "Синтез романа. Разрешение затруднения.
Чем сделать лицо героя симпатичным читателю?
Если Дон-Кихот и Пиквик как добродетельные лица симпатичны читателю и удались, так это тем, что они смешны.
Герой романа Князь если не смешон, то имеет другую симпатичную черту: он невинен!" (IX, 239).
В черновиках Достоевский прямо называл героя "Князем Христом".
В набросках ко второй редакции 12 марта 1868 г. Достоевский сформулировал в записных книжках следующие положения:
"В РОМАНЕ ТРИ ЛЮБВИ: 1) Страстно-непосредственная любовь — Рогожин. 2) Любовь из тщеславия — Ганя. 3) Любовь христианская — Князь". Роль Мышкина по отношению к Настасье Филипповне определялась как стремление "восстановить и воскресить человека!". Трагическая судьба героини была предопределена с самого начала. Она стала символом оскорбленной и поруганной "красоты". Став жертвой своего опекуна Тоцкого, помещика и "раскапиталиста", а затем предметом циничного денежного торга, Настасья Филипповна "из такого ада чистая" вышла. Мышкин поражается: "Лицо веселое, а она ведь ужасно страдала, а? Об этом глаза говорят, вот эти две косточки, две точки под глазами в начале щек Это гордое лицо, ужасно гордое, и вот не знаю, добра ли она? Ах, кабы добра! Все было бы спасено!", — а художница Аделаида Епанчина, глядя на тот же портрет, находит, что такая красота "сила", с которой "можно мир перевернуть!".
Достоевский в тетрадь с подготовительными записями к "Идиоту" внес заметку:
"Мир красотой спасется.
Два образчика красоты".
Эта мысль повторена в словах Мышкина о том, что "мир спасет красота!".
Водном из ранних планов (от 12 марта н. ст.) действие, связанное с Настасьей Филипповной, представлялось следующим образом: "С Н(астасьей) Ф(илипповной) дело идет весь роман так: Сначала ошеломленная, что стала княгиней, — в прачки. Потом — строгой и гордой княгиней. Аглая устраивает ей публичное оскорбление (сцена). 4-я часть (кончается).
Разврат неслыханный. Исповедь Князя Аглае. Темное исчезновение, ищут, в борд(еле). Хочет умертвить себя.
Восстановление. Аглая и Князь перед нею, ищут спасти ее. Она умирает или умерщвляет себя. NB. Рогожин. Аглая выходит за Князя — или Князь умирает.
Князь робок в изображении всех своих мыслей, убеждений и намерений. Целомудрие и смирение. Но тверд в деле.
Главное социальное убеждение его, что экономическое учение о бесполезности единичного добра есть нелепость. И что все-то, напротив, на личном и основано".
В одной из ранних (апрельских) записей появляется первый проект заключительных частей романа: "ИДИОТ ВИДИТ ВСЕ БЕДСТВИЯ. БЕССИЛИЕ ПОМОЧЬ. ЦЕПЬ И НАДЕЖДА СДЕЛАТЬ НЕМНОГО. ЯСНАЯ СМЕРТЬ. АГЛАЯ НЕСЧАСТНА Нужда ее в Князе".
В другом наброске читаем: "NB. Симпатичнее написать, и будет хорошо.
Главная задача: характер Идиота. Его развить. Вот мысль романа. Как отражается Россия. Все, что выработалось бы в Князе, угасло в могиле. И потому, указав постепенно на-Князя в действии, будет довольно.
Но! Для этого нужна фабула романа.
Чтоб очаровательнее выставить характер Идиота (симпатичнее), надо ему и поле действия выдумать. Он восстановляет Н(астасью) Ф(илипповну) и действует влиянием на Рогожина. Доводит Аглаю до человечности, Генеральшу до безумия доводит в привязанности к Князю и в обожании его.
Сильнее действие на Рогожина и на перевоспитание его. (Ганя пробует сойтись с Рогожиным.) Аделаида — немая любовь. На детей влияние. На Ганю — до мучения ("Я взял свое"), NB. (Варя и Птицын отделились.) Даже Лебедев и Генерал. Генерал в компании Фердыщенка. Кража с Фердыщенкой".
В более поздних (сентябрьских) набросках Достоевский разрабатывает два плана окончания романа: "Аглая уже помирилась с семейством даже. Торжественно невеста Князя — и вдруг смерть НФ. Князь не прощает Аглае. С детьми.
В Князе — идиотизм! В Аглае — стыдливость. Ипполит — тщеславие слабого характера. Н.Ф. — беспорядок и красота (жертва судьбы). Рогожин — ревность. Ганя: слабость, добрые наклонности, ум, стыд, стал эмигрантом. Ев(гений) П(авлович) — последний тип русского помещика-джентльмена. Лизавет(а) Прокоф(ьевна) — дикая честность. Коля — новое поколение.
Оказывается, что Капитанша преследовала Генерала по наущению Ипполита. Ходит по его дудке. Все по его дудке. Власть его над всеми".
В другом плане развязка вновь перекликается с намечавшейся первоначально: "Под конец Князь: торжественно-спокойное его состояние! Простил людям.
Пророчества. Разъяснения каждому себя самого. Времени. Прощение Аглаи.
Аглая с матерью — живет и путешествует".
В "Карманном словаре иностранных слов, входящих в состав русского языка, издаваемом Н. Кирилловым" (1845), специально поясняется, что современное толкование слова "идиот" подразумевает человека "кроткого, не подверженного припадкам бешенства, которого у нас называют дурачком, или дурнем". Таким кротким человеком и вышел князь Мышкин.
Обдумывая образ "Князя Христа", Достоевский исходил не только из Евангелия, он учитывал сочувственно или полемически многочисленные позднейшие трактовки этого образа в литературе и искусстве, а также в современной ему философской и исторической науке. В частности, известную роль при создании образа Мышкина сыграли размышления Достоевского над "Жизнью Иисуса" (1863) французского писателя, философа и историка Эрнста Ренана (1823–1892), имя которого Достоевский трижды упоминает в подготовительных материалах к роману. Ренан стремился представить Иисуса не Богом, а человеком. Достоевский же попытался представить в своем романе, как будет выглядеть человек со всеми качествами Христа, явившийся в современный мир.
Как подчеркивал о. Александр Мень, погибший от топора до сих пор не найденного нового Раскольникова, "мысль изобразить Христа перед обществом наиболее полно воплотилась в романе "Идиот". Это образ таинственного князя, который приходит в мир, в присутствии которого людям становится отрадно, легко, в присутствии которого им не хочется делать зло и причинять боль друг другу. Многим из вас, вероятно, не раз приходилось задумываться, если вы читали Евангелие, — а что такое "Будьте как дети"?.Что это значит? Это что, инфантилизм, примитивность какая-то? Надо быть глупым, чрезмерно доверчивым? Трудно ответить на этот вопрос. Это нечто почти невыразимое. Конечно, Спаситель Иисус Христос не имел в виду инфантилизм, примитивность, а он имел в виду нечто, что сумел изобразить Достоевский в князе Мышкине: какая-то открытость, чистота, простота, наивность, но совершенно без глупости, прозрачное сердце, а главное, сердце, отзывающееся на чужую боль, даже на чужой стыд. Бывало ли вам когда-нибудь стыдно за другого человека, когда тот совершает зло? И вот то, что за него так стыдно, это уже — детская открытость, ибо взрослый человек постепенно покрывается сначала иммунной корой, а потом толстой непробиваемой броней — и его уже не возьмешь ничем".
Несомненно, князь Лев Николаевич Мышкин — главный и самый симпатичный герой "Идиота". Это вообще один из самых любимых образов для самого Достоевского. Мышкин вырос вдали от России, и для него новы и неожиданны "больные вопросы" русской пореформенной действительности. Князь стремится "восстановить и воскресить человека". Он противостоит нравственной тупости окружающих, находящихся во власти золотого тельца. Мышкин навсегда сохранил мироощущение ребенка, не знающего фальши и живущего в тесном единстве с природой. Герой Достоевского чуток к страданиям других людей, поскольку с детства познал одиночество и болезнь. Писатель не раз повторял, что высшим идеалом человеческой личности он считает Иисуса Христа, и в черновиках к роману писатель прямо называл Мышкина "Князем Христом". Герой "Идиота" убежден, что человека нельзя казнить смертью, поскольку самое страшное здесь даже не казнь, а ожидание казни.
Трагична любовь князя Мышкина к Настасье Филипповне. Последняя, наделенная необыкновенным умом и красотой, стремится к нравственному возрождению, чувствуя в князе высший, христианский идеал. Однако князь — не тот человек, который может навязать другому свою волю. Он, как и Христос, способен только убеждать, а не принуждать. Настасью Филипповну же привлекает еще и сильная личность, купец Парфен Семенович Рогожин. Ее раздвоенность, столкнувшись с раздвоенностью Рогожина, ведет героиню к гибели. После того как Рогожин убивает Настасью Филипповну из ревности, князь Мышкин действительно сходит с ума. Христу невозможно нормально существовать в современном обществе — таков неутешительный вывод Достоевского.
Князь Мышкин — в чем-то образ фантастический, не от мира сего. Однако писатель отнюдь не считал это обстоятельство недостатком. "Неужели фантастичный мой Идиот не есть действительность, да еще самая обыденная! Да именно теперь-то и должны быть такие характеры в наших оторванных от земли слоях общества, — слоях, которые в действительности становятся фантастичными… Я не за роман, а за идею мою стою", — восклицал Достоевский в одном из писем. Главный герой романа не только олицетворял для автора христианский идеал, но и был носителем важнейшей идеи писателя — о необходимости возвращения образованных классов общества на почву христианской нравственности, в наибольшей мере присущей, по его мнению, тесно связанным с землей и с природой в целом крестьянам. Князь доказывает, что европейское общество давно уже потеряло нравственную связь с религией и потому не может служить образцом для России. Сам же герой, по точному определению М. Е. Салтыкова-Щедрина, представляет собой "тип человека, достигшего полного нравственного и духовного равновесия". Князь Мышкин в страстном монологе выражает мысли Достоевского об особенностях русского пути к Богу и русской веры вообще: "…У нас коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще из самых подземных; коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием, то есть, стало быть, и мечом! Отчего это, отчего разом такое исступление? Неужто не знаете? Оттого, что он отечество нашел, которое здесь просмотрел, и обрадовался; берег, землю нашел и бросился ее целовать! Не из одного ведь тщеславия, не все ведь от одних скверных тщеславных чувств происходят русские атеисты и русские иезуиты, а из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую веровать перестали, потому что никогда ее и не знали! Атеистом же так легко сделаться русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире! И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда! "Кто почвы под собой не имеет, тот и Бога не имеет". Это не мое выражение. Это выражение одного купца из старообрядцев, с которым я встретился, когда ездил. Он, правда, не так выразился, он сказал: "Кто от родной земли отказался, тот и от Бога своего отказался".
Ведь подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались… Да и чем, впрочем, в таком случае хлыстовщина хуже, чем нигилизм, иезуитизм, атеизм? Даже, может, и поглубже еще! Но вот до чего доходила тоска!., откройте русскому человеку русский "Свет", дайте отыскать ему это золото, это сокровище, сокрытое от него в земле! Покажите ему в будущем обновление всего человечества и воскресение его, может быть, одною только русскою мыслью, русским Богом и Христом, и увидите, какой исполин могучий и правдивый, мудрый и кроткий вырастет пред изумленным миром, изумленным и испуганным, потому что они ждут от нас одного лишь меча, меча и насилия, потому что они представить себе нас не могут, судя по себе, без варварства".
Главный герой "Идиота" несет нам мысль автора о "русском Боге", который сможет духовно оздоровить весь мир, избавить его от поклонения Мамоне. Этот Бог, новый Христос, обернет человечество к земле, к родной почве, к традиционным нравственным ценностям всеединства. Князь Мышкин — это не сегодняшний несовершенный человек, а олицетворение грядущего русского Христа.
А. Г. Достоевская была уверена, что своего любимого героя — Мышкина писатель наделил автобиографическими чертами. Линия же отношений Мышкина и Настасьи Филипповны, помимо очевидной истории отношений Достоевского с Аполлинарией Сусловой, могла быть подсказана рядом моментов из жизни издателя "Русского слова" графа Г. А. Кушелева-Безбородко, который, как и князь Мышкин, был последним представителем своего рода, стал обладателем большого наследства, страдал тяжелым нервным недугом, занимался благотворительностью, прослыл чудаком, "полоумным". Его женитьба на красавице Л. И. Кроль из дам полусвета возбудила много толков.
Князь Мышкин в разговоре с камердинером подробно описывает виденную им во Франции смертную казнь и характеризует ее как дело совершенно нехристианское:
"— Гм!.. Суды. Суды-то оно правда, что суды. А что, как там, справедливее в суде или нет?
— Не знаю. Я про наши много хорошего слышал. Вот опять у нас смертной казни нет.
— А там казнят?
— Да. Я во Франции видел, в Лионе. Меня туда Шнейдер с собою брал.
— Вешают?
— Нет, во Франции все головы рубят.
— Что же, кричит?
— Куды! В одно мгновение. Человека кладут, и падает этакий широкий нож, по машине, гильотиной называется, тяжело, сильно… Голова отскочит так, что и глазом не успеешь мигнуть. Приготовления тяжелы. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят, вот тут ужасно! Народ сбегается, даже женщины, хоть там и не любят, чтобы женщины глядели.
— Не их дело.
— Конечно! Конечно! Этакую муку!.. Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах, Легро по фамилии. Ну вот, я вам говорю, верьте не верьте, на эшафот всходил — плакал, белый как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Ну кто же со страху плачет? Я и не думал, чтоб от страху можно было заплакать не ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в сорок пять лет. Что же с душой в эту минуту делается, до каких судорог ее доводят? Надругательство над душой, больше ничего! Сказано: "не убий", так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя. Вот я уж месяц назад это видел, а до сих пор у меня как пред глазами. Раз пять снилось.
Князь даже одушевился говоря, легкая краска проступила в его бледное лицо, хотя речь его по-прежнему была тихая. Камердинер с сочувствующим интересом следил за ним, так что оторваться, кажется, не хотелось; может быть, тоже был человек с воображением и попыткой на мысль.
— Хорошо еще вот, что муки немного, — заметил он, — когда голова отлетает.
— Знаете ли что? — горячо подхватил князь: — Вот вы это заметили, и это все точно также замечают, как вы, и машина для того выдумана, гильотина. А мне тогда же пришла в голову одна мысль: а что, если это даже и хуже? Вам это смешно, вам это дико кажется, а при некотором воображении даже и такая мысль в голову вскочит. Подумайте: если, например, пытка; при этом страдания и раны, мука телесная, и, стало быть, все это от душевного страдания отвлекает, так что одними только ранами и мучаешься, вплоть пока умрешь. А ведь главная, самая сильная боль, может, не в ранах, а вот, что вот знаешь наверно, что вот через час, потом через десять минут, потом через полминуты, потом теперь, вот сейчас — душа из тела вылетит, и что человеком уж больше не будешь, и что это уж наверно; главное то, что наверно. Вот как голову кладешь под самый нож и слышишь, как он склизнет над головой, вот эти-то четверть секунды всего и страшнее. Знаете ли, что это не моя фантазия, а что так многие говорили? Я до того этому верю, что прямо вам скажу мое мнение. Убивать за убийство несоразмерно большее наказание, чем самое преступление. Убийство по приговору несоразмерно ужаснее, чем убийство разбойничье. Тот, кого убивают разбойники, режут ночью, в лесу или как-нибудь, непременно еще надеется, что спасется, до самого последнего мгновения. Примеры бывали, что уж горло перерезано, а он еще надеется, или бежит, или просит. А тут, всю эту последнюю надежду, с которою умирать в десять раз легче, отнимают наверно; тут приговор, и в том, что наверно не избегнешь, вся ужасная-то мука и сидит, и сильнее этой муки нет на свете. Приведите и поставьте солдата против самой пушки на сражении и стреляйте в него, он еще все будет надеяться, но прочтите этому самому солдату приговор наверно, и он с ума сойдет или заплачет. Кто сказал, что человеческая природа в состоянии вынести это без сумасшествия? Зачем такое ругательство, безобразное, ненужное, напрасное? Может быть, и есть такой человек, которому прочли приговор, дали помучиться, а потом сказали: "ступай, тебя прощают". Вот эдакой человек, может быть, мог бы рассказать. Об этой муке и об этом ужасе и Христос говорил. Нет, с человеком так нельзя поступать!"
Здесь Достоевский вложил в уста князя Мышкина собственные переживания, когда ему самому, осужденному по делу петрашевцев, пришлось ожидать смертной казни, не зная, что она заменена каторгой. В данном эпизоде князь как бы уподобляется Иисусу Христу. Писатель был горячо убежден, что государство не имеет права отнимать жизнь у своих подданных, какие бы ужасные преступления те ни совершили (здесь он, кстати сказать, был солидарен со знаменитым маркизом де Садом, которого во многом другом осуждал). Федор Михайлович как раз и был тем человеком, кто мог рассказать, что переживает осужденный в мгновения, которые считает последними в своей жизни. И он сам говорит с нами, когда восклицает: "Нет, с человеком так нельзя поступать!"
А вот рассказ князя Мышкина о случае с Достоевским: "Этот человек был раз взведен, вместе с другими, на эшафот, и ему прочитан был приговор смертной казни расстрелянием, за политическое преступление. Минут через двадцать прочтено было и помилование и назначена другая степень наказания; но, однако же, в промежутке между двумя приговорами, двадцать минут или по крайней мере четверть часа, он прожил под несомненным убеждением, что через несколько минут он вдруг умрет. Мне ужасно хотелось слушать, когда он иногда припоминал свои тогдашние впечатления, и я несколько раз начинал его вновь расспрашивать. Он помнил все с необыкновенною ясностью и говорил, что никогда ничего из этих минут не забудет. Шагах в двадцати от эшафота, около которого стоял народ и солдаты, были врыты три столба, так как преступников было несколько человек Троих первых повели к столбам, привязали, надели на них смертный костюм (белые длинные балахоны), а на глаза надвинули им белые колпаки, чтобы не видно было ружей; затем против каждого столба выстроилась команда из нескольких человек солдат. Мой знакомый стоял восьмым по очереди, стало быть, ему приходилось идти к столбам в третью очередь. Священник обошел всех с крестом. Выходило, что остается жить минут пять, не больше. Он говорил, что эти пять минут казались ему бесконечным сроком, огромным богатством; ему казалось, что в эти пять минут он проживет столько жизней, что еще сейчас нечего и думать о последнем мгновении, так что он еще распоряжения разные сделал: рассчитал время, чтобы проститься с товарищами, на это положил минуты две, потом две минуты еще положил, чтобы подумать в последний раз про себя, а потом, чтобы в последний раз кругом поглядеть. Он очень хорошо помнил, что сделал именно эти три распоряжения и именно так рассчитал. Он умирал двадцати семи лет, здоровый и сильный; прощаясь с товарищами, он помнил, что одному из них задал довольно посторонний вопрос и даже очень заинтересовался ответом. Потом, когда он простился с товарищами, настали те две минуты, которые он отсчитал, чтобы думать про себя; он знал заранее, о чем он будет думать: ему все хотелось представить себе как можно скорее и ярче, что вот как же это так он теперь есть и живет, а через три минуты будет уже нечто, кто-то или что-то, — так кто же? где же? Все это он думал в эти две минуты решить! Невдалеке была церковь, и вершина собора с позолоченною крышей сверкала на ярком солнце. Он помнил, что ужасно упорно смотрел на эту крышу и на лучи, от нее сверкавшие; оторваться не мог от лучей; ему казалось, что эти лучи его новая природа, что он чрез три минуты как-нибудь сольется с ними… Неизвестность и отвращение от этого нового, которое будет и сейчас наступит, были ужасны; но он говорит, что ничего не было для него в это время тяжелее, как беспрерывная мысль: "Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить жизнь, — какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего бы даром не истратил!" Он говорил, что эта мысль у него наконец в такую злобу переродилась, что ему уж хотелось, чтобы его поскорей застрелили".
В связи с этим эпизодом А. Г. Достоевская вспоминала: "Для Федора Михайловича были чрезвычайно тяжелы воспоминания о том, что ему пришлось пережить во время исполнения над ним приговора по делу Петрашевского, и он редко говорил об этом. Тем не менее мне довелось раза три слышать этот рассказ и почти в тех же самых выражениях, в которых он передан в романе "Идиот".
Достоевский всю последующую жизнь вспоминал себя и других петрашевцев, выведенных 22 декабря 1849 года на Семеновский плац, выслушавших смертный приговор и прошедших все приготовления к казни, которая была приостановлена внезапно раздавшимся "отбоем" (после чего был объявлен указ об императорском "помиловании" и ссылке на каторжные работы). События этого дня Достоевский описал в отправленном через несколько часов из Петропавловской крепости письме к М. М. Достоевскому.
Один из петрашевцев, Д. Д. Ахшарумов, вспоминал: "Чтение это продолжалось добрых полчаса, мы все страшно зябли. Я надел шапку и завертывался в холодную шинель, но вскоре это было замечено, и шапка с меня была сдернута рукою стоявшего за мною солдата. По изложении вины каждого, конфирмация оканчивалась словами: "Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни — расстрелянием, и 19-го сего декабря государь император собственноручно написал: "Быть по сему".
Мы все стояли в изумлении; чиновник сошел с эшафота. Затем нам поданы были белые балахоны и колпаки, саваны, и солдаты, стоявшие сзади нас, одевали нас в предсмертное одеяние. Когда мы все уже были в саванах, кто-то сказал: "Каковы мы в этих одеяниях!"
Взошел на эшафот священник — тот же самый, который нас вел, — с Евангелием и крестом, и за ним принесен и поставлен был аналой. Поместившись между нами на противоположном входу конце, он обратился к нам с следующими словами: "Братья! Пред смертью надо покаяться… Кающемуся Спаситель прощает грехи… Я призываю вас к исповеди…"
Никто из нас не отозвался на призыв священника — мы стояли молча, священник смотрел на всех нас и повторно призывал нас к исповеди. Тогда один из нас — Тимковский — подошел к нему и, пошептавшись с ним, поцеловал Евангелие и возвратился на свое место. Священник, посмотрев еще на нас и видя, что более никто не обнаруживает желания исповедаться, подошел к Петрашевскому с крестом и обратился к нему с увещанием, на что Петрашевский ответил ему несколькими словами. Что было сказано им, осталось неизвестным: слова Петрашевского слышали только священник и весьма немногие, близ его стоявшие, а даже, может быть, только один сосед его Спешнев. Священник ничего не ответил, но поднес к устам его крест, и Петрашевский поцеловал крест. После того он молча обошел с крестом всех нас, и все приложились к кресту. Затем священник, окончив дело это, стоял среди нас как бы в раздумье. Тогда раздался голос генерала, сидевшего на коне возле эшафота: "Батюшка! Вы исполнили все, вам больше здесь нечего делать!.."
Священник ушел, и сейчас же взошли несколько человек солдат к Петрашевскому, Спешневу и Момбелли, взяли их за руки и свели с эшафота, они подвели их к серым столбам и стали привязывать каждого к отдельному столбу веревками. Разговоров при этом не было слышно. Осужденные не оказывали сопротивления. Им затянули руки позади столбов и затем обвязали веревки поясом. Потом отдано было приказание "колпаки надвинуть на глаза", после чего колпаки опущены были на лица привязанных товарищей наших. Раздалась команда: "Клац" — и вслед за тем группа солдат — их было человек шестнадцать, — стоявших у самого эшафота, по команде направила ружья к прицелу на Петрашевского, Спешнева и Момбелли… Момент этот был поистине ужасен. Видеть приготовление к расстрелянию, и притом людей близких по товарищеским отношениям, видеть уже наставленные на них, почти в упор, ружейные стволы и ожидать — вот прольется кровь и они упадут мертвые, было ужасно, отвратительно, страшно… Сердце замерло в ожидании, и страшный момент этот продолжался с полминуты. При этом не было мысли о том, что и мне предстоит то же самое, но все внимание было поглощено наступающею кровавою картиною. Возмущенное состояние мое возросло еще более, когда я услышал барабанный бой, значение которого я тогда еще, как не служивший в военной службе, не понимал. "Вот конец всему!.." Но вслед за тем увидел я, что ружья, прицеленные, вдруг все были подняты стволами вверх. От сердца отлегло сразу, как бы свалился тесно сдавивший его камень! Затем стали отвязывать привязанных Петрашевского, Спешнева и Момбелли и привели снова на прежние места их на эшафоте. Приехал какой-то экипаж — оттуда вышел офицер — флигель-адъютант — и привез какую-то бумагу, поданную немедленно к прочтению. В ней возвещалось нам дарование государем императором жизни и, взамен смертной казни, каждому, по виновности, особое наказание".
А вот рассказ о несостоявшейся казни самого Достоевского в передаче ЕЛ. Летковой-Султановой. Она слышала его на вечере у Я. П. Полонского зимой 1878–1879 годов: "Оказалось, что Яков Петрович Полонский сам подвел Достоевского к окну, выходящему на плац, и спросил:
— Узнаете, Федор Михайлович?
Достоевский заволновался…
— Да!.. Да!.. Еще бы… Как не узнать?..
И он мало-помалу стал рассказывать про то утро, когда к нему, в каземат крепости, кто-то пришел, велел переодеться в свое платье и повез… Куда? Он не знал, как и не знали его товарищи… Все были так уверены, что смертный приговор хотя и состоялся, но "был отменен царем, что мысль о казни не приходила в голову. Везли в закрытых каретах, с обледенелыми окнами, неизвестно куда. И вдруг — плац, вот этот самый плац, под окном у которого сейчас стоял Достоевский.
Я не слышала начала рассказа Федора Михайловича, но дальше не проронила ни одного слова.
— Тут сразу все поняли… На эшафоте… Чей-то чужой, громкий голос: "Приговорены к смертной казни расстрелянием"… И какой-то гул кругом, неясный, жуткий гул… Тысячи красных пятен обмороженных человеческих лиц, тысячи пытливых живых глаз… И все волнуются, говорят… Волнуются о чем-то живом. А тут смерть… Не может этого быть! Не может!.. Кому понадобилось так шутить с нами? Царю? Но он помиловал… Ведь это же хуже всякой казни… Особенно эти жадные глаза кругом… Столбы… Кого-то привязывают… И еще мороз.;. Зуб на зуб не попадал… А внутри бунт!.. Мучительнейший бунт… Не может быть! Не может быть, чтобы я, среди этих тысяч живых, — через каких-нибудь пять-десять минут уже не существовал бы!.. Не укладывалось это в голове, и не в голове, а как-то во всем существе моем.
Он замолчал и вдруг совершенно изменился. Мне показалось, что он никого из нас не видел, не слышал перешептывания; он смотрел куда-то вдаль и точно переживал до мелочей все, что перенес в то страшное морозное утро.
— Не верил, не понимал, пока не увидал креста… Священник… Мы отказались исповедоваться, но крест поцеловали… Не могли же они шутить даже с крестом!.. Не могли играть такую трагикомедию… Это я совершенно ясно сознавал… Смерть неминуема. Только бы скорее… И вдруг напало полное равнодушие… Да, да, да!! Именно равнодушие. Не жаль жизни и никого не жаль… Все показалось ничтожным перед последней страшной минутой перехода куда-то… в неизвестное, в темноту… Я простился с Алексеем Николаевичем, еще с кем-то… Сосед указал мне на телегу, прикрытую рогожей. "Гробы!" — шепнул он мне… Помню, как привязывали к столбам еще двоих… И я, должно быть, уже спокойно смотрел на них… Помню какое-то тупое сознание неизбежности смерти… Именно тупое… И весть о приостановлении казни воспринялась тоже тупо… Не было радости, не было счастья возвращения к жизни… Кругом шумели, кричали… А мне было все равно, — я уже пережил самое страшное. Да, да!! Самое страшное… Несчастный Григорьев сошел с ума… Как остальные уцелели? — Непонятно!.. И даже не простудились… Но…
Достоевский умолк".
Это ожидание казни травмировало психику Достоевского на всю жизнь. После такого любое страдание казалось уже чем-то меньшим, несущественным. И он щедро наделял собственными переживаниями своих героев. Вот, например, что чувствует Раскольников в тот момент, когда идет убивать старуху: "Прежде, когда случалось ему представлять все это в воображении, он иногда думал, что очень будет бояться. Но он не очень теперь боялся, даже не боялся совсем. Занимали его в это мгновение даже какие-то посторонние мысли, только все ненадолго. Проходя мимо Юсупова сада, он даже очень было занялся мыслию об устройстве высоких фонтанов и о том, как бы они хорошо освежали воздух на всех площадях. Мало-помалу он перешел к убеждению, что если бы распространить Летний сад на все Марсово поле и даже соединить с дворцовым Михайловским садом, то была бы прекрасная и полезнейшая для города вещь. Тут заинтересовало его вдруг: почему именно, во всех больших городах, человек не то что по одной необходимости, но как-то особенно наклонен жить и селиться именно в таких частях города, где нет ни садов, ни фонтанов, где грязь и вонь, и всякая гадость. Тут ему вспомнились его собственные прогулки по Сенной, и он на минуту очнулся. "Что за вздор, — подумал он. — Нет, лучше совсем ничего не думать!"
"Так, верно, те, которых ведут на казнь, прилепливаются мыслями ко всем предметам, которые им встречаются на дороге", — мелькнуло у него в голове, но только мелькнуло как молния; он сам поскорей погасил эту мысль… Но вот уже и близко, вот и дом, вот и ворота. Где-то вдруг часы пробили один удар. "Что это, неужели половина восьмого? Быть не может, верно, бегут!"
Эти чувства, повторю, потрясли в свое время самого Достоевского. "Из окон кареты, когда везли на Семеновский плац, я видел бездну народа…" — писал он брату Михаилу из Петропавловской крепости 22 декабря 1849 года.
Психология приговоренного к смертной казни глубоко волновала писателя. В 1860 году в журнале "Светоч" М. М. Достоевским был опубликован перевод рассказа Виктора Пого "Последний день приговоренного к смертной казни". Федор Михайлович считал это произведение Пого шедевром — самым реальнейшим и самым правдивейшим произведением из всех им написанных. Герой рассказа Пого по дороге на казнь "прилепливается мыслями ко всем предметам", обращает внимание на вывески и толпу. "Несмотря на туман… ничто из происходящего вокруг меня не ускользнуло из моего внимания… Глазами я машинально читал лавочные вывески".
Непосредственным толчком к оформлению образа купца-убийцы Рогожина явился судебный процесс московского купца В. Ф. Мазурина, убившего ювелира Калмыкова. Подробные отчеты по его делу с описанием обстоятельств убийства и сведениями о самом преступнике были опубликованы в газетах в конце ноября 1867 года, как раз Тогда, когда писатель начал обдумывать вторую, окончательную редакцию "Идиота". Как и Рогожин, Мазурин принадлежал к известной купеческой семье, был потомственным почетным гражданином, владельцем доставшегося ему после смерти отца двухмиллионного капитала, жил в фамильном доме вместе с матерью. Там он и зарезал бритвой, крепко связанной бечевою, "чтоб бритва не шаталась и чтоб удобнее было ею действовать", свою жертву. Труп убитого Калмыкова он спрятал в нижнем этаже, накрыв купленной им американской клеенкой и поставив рядом четыре поддонника со ждановской жидкостью (средство для дизенфекции и уничтожения зловония); в магазине купца, где было совершено убийство, полиция, кроме того, нашла нож со следами крови, купленный Мазуриным "для домашнего употребления". Ряд подобных деталей предваряет и сопровождает картину гибели Настасьи Филипповны. В романе есть и прямое упоминание о Мазурине: на своих именинах, в первый день действия романа, "в конце ноября" 1867 года, Настасья Филипповна говорит о прочитанных ею газетных сообщениях по этому делу, и это выглядит мрачным пророчеством.
Вопрос о вере и неверии возникает в беседе Мышкина и Рогожина по поводу картины, изображающей мертвою Христа. Эту картину князь видит в доме Рогожина: "Над дверью в следующую комнату висела одна картина, довольно странная по своей форме, около двух с половиной аршин в длину и никак не более шести вершков в высоту. Она изображала спасителя, только что снятого со креста. Князь мельком взглянул на нее, как бы что-то припоминая, впрочем, не останавливаясь, хотел пройти в дверь. Ему было очень тяжело и хотелось поскорее из этого дома. Но Рогожин вдруг остановился пред картиной.
— Вот эти все здесь картины, — сказал он, — все за рубль да за два на аукционах куплены батюшкой покойным, он любил. Их один знающий человек все здесь пересмотрел; дрянь, говорит, а вот эта — вот картина, над дверью, тоже за два целковых купленная, говорит, не дрянь. Еще родителю за нее один выискался, что триста пятьдесят рублей давал, а Савельев Иван Дмитрич, из купцов, охотник большой, так тот до четырехсот доходил, а на прошлой неделе брату Семену Семенычу уж и пятьсот предложил. Я за собой оставил.
— Да это… это копия с Ганса Гольбейна, — сказал князь, успев разглядеть картину, — и хоть я знаток небольшой, но, кажется, отличная копия. Я эту картину за границей видел и забыть не могу. Но… что же ты…
Рогожин вдруг бросил картину и пошел прежнею дорогой вперед. Конечно, рассеянность и особое, странно-раздражительное настроение, так внезапно обнаружившееся в Рогожине, могло бы, пожалуй, объяснить эту порывчатость; но все-таки как-то чудно стало князю, что так вдруг прервался разговор, который не им же и начат, и что Рогожин даже и не ответил ему.
— А что, Лев Николаич, давно я хотел тебя спросить, веруешь ты в Бога иль нет? — вдруг заговорил опять Рогожин, пройдя несколько шагов.
— Как ты странно спрашиваешь и… глядишь? — заметил князь невольно.
— А на эту картину я люблю смотреть, — пробормотал, помолчав, Рогожин, точно опять забыв свой вопрос.
— На эту картину! — вскричал вдруг князь, под впечатлением внезапной мысли, — на эту картину! Да от этой картины у иного еще вера может пропасть!
— Пропадает и то, — неожиданно подтвердил вдруг Рогожин. Они дошли уже до самой выходной двери.
— Как? — остановился вдруг князь, — да что ты! я почти шутил, а ты так серьезно! И к чему ты меня спросил: верую ли я в Бога?
— Да ничего, так Я и прежде хотел спросить. Многие ведь ноне не веруют. А что, правда (ты за границей-то жил), — мне вот один с пьяных глаз говорил, что у нас, по России, больше, чем во всех землях, таких, что в Бога не веруют? "Нам, говорит, в этом легче, чем им, потому что мы дальше их пошли"…"
Но ответа на свой вопрос Рогожин не стал дожидаться. Этот диалог выявляет метания Парфена Семеновича между верой и неверием. Но подобные метания были свойственны и самому писателю. Речь в данном эпизоде идет о картине Гольбейна-младшего "Мертвый Христос" (1521). Достоевский знал об этой картине и захотел увидеть полотно Гольбейна. С этой целью он и Анна Григорьевна специально остановились на сутки в Базеле. Картина потрясла Достоевского. По словам АГ. Достоевской, Федор Михайлович произнес тогда именно те слова, что вложил в уста князя Мышкина: "От этой картины у иного еще вера может пропасть!"
Достоевского одолевали сомнения, может ли воскреснуть это Божественное тело, если оно уже являет признаки физического разложения. И еще более сомнения вызывала у него возможность воскрешения всех умерших после второго пришествия. Ведь тела их давно истлели. Поэтому Достоевский с интересом познакомился с учением Николая Федоровича Федорова (1828–1903), пытавшегося подвести научные основания под возможность воскрешения всех мертвых. Это укрепило веру писателя, но противоречило теории двойственной истины, согласно которой в воскрешение можно только верить, в том числе и понимая его символическим и духовным, но никак нельзя доказывать его с помощью разума и рациональных аргументов.
В. Свинцов так комментирует известный эпизод с созерцанием Достоевским картины Гольбейна "Мертвый Христос": "Дело было в Базельской галерее. Эта картина… изображает Иисуса Христа, вынесшего нечеловеческие истязания, уже снятого со креста и предавшегося тлению. Вспухшее лицо его покрыто кровавыми ранами, и вид его ужасен. Картина произвела на Федора Михайловича подавляющее впечатление, и он остановился перед нею как бы пораженный". Когда Анна Григорьевна Достоевская, которой принадлежат эти слова, оставив мужа подле картины, вернулась через пятнадцать-двадцать минут (!), "то нашла, что Федор Михайлович продолжает стоять перед картиной как прикованный. В его взволнованном лице было то как бы испуганное выражение, которое мне не раз случалось замечать первые минуты приступа эпилепсии".
И вся эта сцена, ее длительность и напряженность, и особенно слова Достоевского, также многократно воспроизведенные в литературе: "от такой картины вера может пропасть", — допускают единственно возможное толкование. Божественный Христос был сын человеческий, и предавшееся тлению тело его на реалистической картине Гольбейна обладало зловещими признаками очевидной необратимости смерти. Нельзя было поверить, что такое тело может воскреснуть.
Реалистически мыслящий писатель и мыслитель, наделенный впечатлительностью художника, прозревал здесь истину. Достоевского пугало, доводило до болезненного состояния сомнение не в воскресении даже, но в воскресимости Христа".
Главным прототипом Настасьи Филипповны была возлюбленная Достоевского Аполлинария Прокофьевна Суслова, писательница и его страстная поклонница. Достоевский имел возможность еще раз убедиться в силе и глубине человеческих переживаний, встретив 22-летнюю Аполлинарию, не уступавшую ему ни в сложности чувств, ни в силе характера. Еще осенью 1861-го она написала Достоевскому восторженное письмо. Так начался их роман.
Аполлинария была девушкой из народа. Ее отец, крепостной графа Шереметева, сумел выкупиться на волю. Достоевский видел в ней психологию современной молодежи. В Аполлинарии сочетались воля и идеализм, она могла идти до конца в том, что считала правильным, пренебрегала условностями. Аполлинария была независима, умна и самовлюбленна. Она чувствовала Достоевском родственную натуру.
Решительность и самовластие Аполлинарии в какой-то момент очаровали Достоевского, но потом стали его обременять, и в любви осталась только сексуальная составляющая.
Аполлинария была дерзкой и непокорной, ее бурный темперамент одинаково проявлялся в любви и ненависти, она быстро строила идеальные образы и тотчас разочаровывалась в них, а прощать она не умела. Она слишком много требовала от своих возлюбленных, что обрекало ее на удары судьбы.
Летом 1863 года Достоевский уезжает за границу, где переживает глубокую личную драму в ходе романа с Аполлинарией Сусловой. О накале страстей дают представление письма и дневники Аполлинарии. 19 августа 1863 года она писала Достоевскому из Парижа: "Ты едешь немножко поздно… Еще очень недавно я мечтала ехать с тобой в Италию и даже начала учиться итальянскому языку — все изменилось в несколько дней. Ты как-то говорил, что я не скоро могу отдать свое сердце. — Я его отдала в неделю по первому призыву, без борьбы, без уверенности, почти без надежды, что меня любят. Я была права, сердясь на тебя, когда ты начинал мной восхищаться. Не подумай, что я порицаю себя, но хочу только сказать, что ты меня не знал, да и я сама себя не знала. Прощай, милый!
Мне хотелось тебя видеть, но к чему это поведет? Мне очень хотелось говорить с тобой о России".
И в тот же день записала в дневнике: "В эту минуту мне очень и очень грустно. Какой он великодушный, благородный! какой ум! какое сердце!"
27 августа Аполлинария записала в дневнике: "Какие разнообразные мысли и чувства будут волновать его, когда пройдет первое впечатление горя! Боюсь только, как бы он, соскучившись меня дожидаться (письмо мое придет не скоро), не пришел ко мне сегодня, прежде получения моего письма. Я не выдержу равнодушно этого свидания. Хорошо, что я предупредила его, чтобы он прежде мне написал, иначе что б было…
Того же числа вечером.
Так и случилось. Едва успела я написать предыдущие строки, как Федор Михайлович явился. Я увидела его в окно, но дождалась, когда мне пришли сказать о его приезде, и то долго не решалась выйти. "Здравствуй", — сказала я ему дрожащим голосом. Он спрашивал, что со мной, и еще более усиливал мое волнение, вместе с которым развивалось его беспокойство.
— Я думала, что ты не приедешь, — сказала я, — потому что написала тебе письмо.
— Какое письмо?
— Чтобы ты не приезжал.
— Отчего?
— Оттого, что поздно.
Он опустил голову.
— Я должен все знать, пойдем куда-нибудь и скажи мне, или я умру.
Я предложила ехать с ним к нему. Всю дорогу мы молчали. Я не смотрела на него. Он только по временам кричал кучеру отчаянным и нетерпеливым голосом: "Vite, vite", причем тот иногда оборачивался и смотрел с недоумением. Я старалась не смотреть на Федора Михайловича. Он тоже не смотрел на меня, но всю дорогу держал мою руку и по временам сжимал ее и делал какие-то судорожные движения.
— Успокойся, ведь я с тобой, — сказала я.
Когда мы вошли в его комнату, он упал к моим ногам и, сжимая, обняв, с рыданием мои колени, громко зарыдал: "Я потерял тебя, я это знал!" Успокоившись, он начал спрашивать меня, что это за человек "Может быть, он красавец, молод, говорун. Но никогда ты не найдешь другого сердца, как мое". Я долго не хотела ему отвечать.
— Ты отдалась ему совершенно?
— Не спрашивай, это нехорошо, — сказала я.
— Поля, я не знаю, что хорошо и что дурно. Кто он: русский, француз, не мой доктор? Тот…
— Нет, нет.
Я ему сказала, что очень люблю этого человека.
— Ты счастлива?
— Нет.
— Как же это? Любишь и не счастлива, да возможно ли это?
— Он меня не любит.
— Не любит! — вскричал он, схватившись за голову, в отчаянии. — Но ты не любишь его, как раба, скажи мне, это мне нужно знать! Не правда ли, ты пойдешь с ним на край света?
— Нет, я… я уеду в деревню, — сказала я, заливаясь слезами.
— О Поля, зачем же ты так несчастлива! Это должно было случиться, что ты полюбишь другого. Я это знал. Ведь ты по ошибке полюбила меня, потому что у тебя сердце широкое, ты ждала до двадцати трех лет, ты единственная женщина, которая не требует никаких обязанностей, но чего это стоит: мужчина и женщина не одно и то же. Он берет — она дает.
Когда я сказала ему, что это за человек, он сказал, что в эту минуту испытал гадкое чувство: что ему стало легче, что это не серьезный человек, не Лермонтов. Мы много еще говорили о посторонних предметах. Он мне сказал, что счастлив тем, что узнал на свете такое существо, как я. Он просил меня оставаться в дружбе с ним и особенно писать, когда я особенно счастлива или несчастлива. Потом предлагал ехать в Италию, оставаясь как мой брат. Когда я ему сказала, что он, верно, будет писать свой роман, он сказал: "За кого ты меня принимаешь! Ты думаешь, что все пройдет без всякого впечатления". Я ему обещала прийти на другой день. Мне стало легче, когда я с ним поговорила. Он понимает меня".
Суслова уступила Достоевскому и поехала с ним в Италию.
5 сентября Суслова отметила: "Перед отъездом из Парижа мне было очень грустно. Это не просто чувство привычки, Петербург я оставляла легко; я уезжала из него с надеждами, а в Париже потеряла многое. Мне кажется, я никого никогда не полюблю. Чувство мщения еще тлело во мне долго, и я решила, если не рассеюсь в Италии, возвратиться в Париж и исполнить то, что было задумано… Дорогой мы разговорились с Федором Михайловичем о Лермонтове. Я вспомнила этот характер, и все случившееся со мною показалось мне так мелочно, так недостойно серьезного внимания…
И ничего на этом свете благословить он не хотел.
Он был прав. Зачем же увлекаться.
Мне кажется, что я больна. Это было бы слишком несправедливо. Мне кажется, что в природе есть какие-нибудь законы справедливости".
6 сентября Аполлинария писала в дневнике: "Я ему говорила, что была к нему несправедлива и груба в Париже, что я как будто думала только о себе, но я думала и о нем, а говорить не хотела, чтобы не обидеть. Вдруг он внезапно встал, хотел идти, но запнулся за башмаки, лежавшие подле кровати, и так же поспешно воротился и сел.
— Ты куда ж хотел идти? — спросила я.
— Я хотел закрыть окно.
— Так закрой, если хочешь.
— Нет, не нужно. Ты не знаешь, что сейчас со мной было! — сказал он со странным выражением.
— Что такое? — Я посмотрела на его лицо, оно было очень взволнованно.
— Я сейчас хотел поцеловать твою ногу.
— Ах, зачем это? — сказала я в сильном смущении, почти испуге и подобрав ноги.
— Так мне захотелось, и я решил, что поцелую.
Потом он меня спрашивал, хочу ли я спать, но я сказала, что нет, хочется посидеть с ним. Думая спать и раздеваться, я спросила его, придет ли горничная убирать чай. Он утверждал, что нет. Потом он так смотрел на меня, что мне стало неловко, я ему сказала это.
— И мне неловко, — сказал он с странной улыбкой.
Я спрятала свое лицо в подушку. Потом я опять спросила, — придет ли горничная, и он опять утверждал, что нет.
— Ну так поди к себе, я хочу спать, — сказала я.
— Сейчас, — сказал он, но несколько времени оставался. Потом он целовал меня очень горячо и, наконец, стал зажигать для себя свечу. Моя свечка догорала.
— У тебя не будет огня, — сказал он.
— Нет, будет, есть целая свечка.
— Но это моя.
— У меня есть еще.
— Всегда найдутся ответы, — сказал он улыбаясь и вышел. Он не затворил своей двери и скоро вошел ко мне под предлогом затворить мое окно. Он подошел ко мне и посоветовал раздеваться.
— Я разденусь, — сказала я, делая вид, что только дожидаюсь его ухода.
Он еще раз вышел и еще раз пришел под каким-то предлогом, после чего уже ушел и затворил свою дверь. Сегодня он напомнил о вчерашнем дне и сказал, что был пьян. Потом он сказал, что мне, верно, неприятно, что он меня так мучит. Я отвечала, что мне это ничего, и не распространялась об этом предмете, так что он не мог иметь ни надежды, ни безнадежности. Он сказал, что у меня была очень коварная улыбка, что он, верно, казался мне глуп, что он сам сознает свою глупость, но она бессознательна".
17 сентября в Турине Аполлинария записала: "На меня опять нежность к Федору Михайловичу. Я как-то упрекала его, а потом почувствовала, что не права, мне хотелось загладить эту вину, я стала нежна с ним. Он отозвался с такою радостью, что это меня тронуло, и стала вдвое нежнее. Когда я сидела подле него и смотрела на него с лаской, он сказал: "Вот это знакомый взгляд, давно я его не видал". Я склонилась к нему на грудь и заплакала".
А вот запись в дневнике Сусловой, сделанная в Риме 29 сентября 1863 года: "Вчера Федор Михайлович опять ко мне приставал. Он говорил, что я слишком серьезно и строго смотрю на вещи, которые того не стоят. Я сказала, что туг есть одна причина, которой прежде мне не приходилось высказать. Потом он сказал, что меня заедает утилитарность. Я сказала, что утилитарности не могу иметь, хотя и есть некоторое поползновение. Он не согласился, сказав, что имеет доказательства. Ему, по-видимому, хотелось знать причину моего упорства. Он старался ее отгадать.
— Ты не знаешь, это не то, — отвечала я на разные его предположения.
У него была мысль, что это каприз, желание помучить.
— Ты знаешь, — говорил он, — что мужчину нельзя так долго мучить, он, наконец, бросит добиваться.
Я не могла не улыбнуться и едва не спросила, для чего он это говорил.
— Всему этому есть одна главная причина, — начал положительно (после я узнала, что он не был уверен в том, что говорил), — причина, которая внушает мне омерзение, — это полуостров.
Это неожиданное напоминание очень взволновало меня.
— Ты надеешься.
Я молчала.
— Теперь ты не возражаешь, — сказал он, — не говоришь, что это не то.
Я молчала.
— Я не имею ничего к этому человеку, потому что это слишком пустой человек.
— Я нисколько не надеюсь, мне нечего надеяться, — сказала я, подумав.
— Это ничего не значит, рассудком ты можешь отвергать все ожидания, это не мешает.
Он ждал возражения, но его не было, я чувствовала справедливость этих слов.
Он внезапно встал и пошел лечь на постель. Я стала ходить по комнате. Мысль моя вдруг обновилась, мне в самом деле блеснула какая-то надежда. Я стала, не стыдясь, надеяться.
Проснувшись, он сделался необыкновенно развязен, весел и навязчив. Точно он хотел этим победить внутреннюю обидную грусть и насолить мне.
Я с недоумением смотрела на его странные выходки. Он будто хотел обратить все в смех, чтоб уязвить меня, но я только смотрела на него удивленными глазами.
— Нехороший ты какой, — сказала я наконец просто.
— Чем? Что я сделал?
— Так, в Париже и Турине ты был лучше. Отчего ты такой веселый?
— Это веселость досадная, — сказал он и ушел, но скоро пришел опять.
— Нехорошо мне, — сказал он серьезно и печально. — Я осматриваю все как будто по обязанности, как будто учу урок; я думал, по крайней мере, тебя развлечь.
Я с жаром обвила его шею руками и сказала, что он для меня много сделал, что мне очень приятно.
— Нет, — сказал он печально, — ты едешь в Испанию.
Мне как-то страшно и больно — сладко от намеков о С(альвадоре) (любовнике Сусловой. Аполлинария сообщала в письмах Достоевскому, что полюбила красавчика Сальвадора и при этом перестала верить в "благородство" Достоевского, отрицала его право на учительство и на разговоры о христианских добродетелях. — Б. С). Какая, однако, дичь во всем, что было между мной и Сальв(адором). Какая бездна противоречий в отношениях его ко мне!
Федор Михайлович опять все обратил в шутку и, уходя от меня, сказал, что ему унизительно так меня оставлять (это было в 1 час ночи. Я раздетая лежала в постели). "Ибо россияне никогда не отступали".
7 января 1864 года Аполлинария записала в Париже: "Я была много раз оскорблена теми, кого любила, или теми, кто меня любил, и терпела… но чувство оскорбленного достоинства не умирало никогда, и вот теперь оно просится высказаться. Все, что я вижу, слышу каждый день, оскорбляет меня, и, мстя ему, я отомщу им всем. После долгих размышлений я выработала убеждение, что нужно делать все, что находишь нужным. Я не знаю, что я сделаю, верно только то, что сделаю что-то. Я не хочу его убить, потому что это слишком мало. Я отравлю его медленным ядом. Я отниму у него радости, я его унижу".
А 17 февраля сокрушалась: "Мне опять приходит мысль отомстить. Какая суетность! Я теперь одна и смотрю на мир как-то со стороны, и чем больше я в него вглядываюсь, тем мне становится тошнее. Что они делают! Из-за чего хлопочут! О чем пишут! Вот тут у меня книжечка: шесть изданий и вышло в шесть месяцев. А что в ней? Lobulo восхищается тем, что в Америке булочник может получить несколько десятков тысяч в год, что там девушку можно выдать без приданого, что шестнадцатилетний сам в состоянии себя прокормить. Вот их надежды, вот их идеал. Я бы их всех растерзала".
8 мая последовала такая запись: "Что за радость смотреть и остерегаться на каждом шагу. Я и счастья, такими средствами приобретенного, не хочу. Это было бы деланное счастье… Пускай меня обманывают, пускай хохочут надо мной, но я хочу верить в людей, пускай обманывают. Да и не могут же они сделать большого вреда".
В середине августа 1865 года Достоевский с небольшой суммой, взятой взаймы, оказался в Висбадене. Примирения с Аполлинарией не произошло, зато в рулетку он проиграл все деньги. В отеле писателю отказывались давать обед в долг, он питался чаем и хлебом, сидел вечерами без свеч. Достоевский писал отчаянные письма о помощи Герцену, Тургеневу, Милюкову, Врангелю, издателям журналов, предлагая им план будущего романа "Преступление и наказание". Все вещи были заложены. От Тургенева он получил 50 талеров вместо необходимых 100. Этот долг лишь усилил старую вражду между писателями. Достоевский вернул 50 таперов только в 1875 году, но при этом вышел скандал, поскольку Тургенев утверждал, будто послал Достоевскому 100 талеров, а не 50. Тогда, в 1865-м, Достоевского спас священник православной церкви в Висбадене Иоанн Янышев, поручившись за него в отеле и ссудив писателя 134 гульденами, которых хватило на возвращение в Россию.
24 сентября 1865 года Аполлинария призналась: "Мне говорят о Федоре Михайловиче. Я его просто ненавижу. Он так много заставлял меня страдать, когда можно было обойтись без страдания".
17 октября 1865 года в Спа Аполлинария записала: "В это время тоски и отчаяния я так много думала о Gault, и, может быть, мысль эта, уверенность в его дружбе, сочувствии и понимании спасли меня. Уверенная в ней, я чувствовала себя вне этой жалкой жизни и способной подняться выше ее. Туг только я поняла настоящую цену дружбы и уважения лиц, выходящих из общего круга, и нашла в уверенности этой дружбы мужество и уважение к себе. Покинет ли меня когда-нибудь гордость? Нет, не может быть, лучше умереть. Лучше умереть с тоски, но свободной, независимой от внешних вещей, верной своим убеждениям, и возвратить свою душу Богу так же чистой, как она была, чем сделать уступку, позволить себе хоть на мгновение смешаться с низкими и недостойными вещами, но я нахожу жизнь так грубой и так печальной, что я с трудом ее выношу. Боже мой, неужели всегда будет так! И стоило ли родиться!"
2 ноября 1864 года они встретились в Петербурге: "Сегодня был Федор Михайлович, и мы все спорили и противоречили друг другу. Он уже давно предлагает мне руку и сердце и только сердит этим. Говоря о моем характере, он сказал: если ты выйдешь замуж, то на третий же день возненавидишь и бросишь мужа. Припоминая Го, я сказала, что это один человек, который не добивался толку. Он по обыкновенной манере сказал: "Этот Го, может быть, и добивался". Потом прибавил: "Когда-нибудь я тебе скажу одну вещь". Я пристала, чтоб он сказал: "Ты не можешь мне простить, что раз отдалась" и мстишь за это; это женская черта". Это меня очень взволновало".
6 ноября Аполлинария записала: "Был Федор Михайлович. Втроем, с ним и с А.О., мы долго говорили. Я говорила, что сделаюсь святой, пройдусь босиком по Кремлевскому саду в Москве и буду говорить, что ангелы со мной беседуют и проч. Я много говорила".
К тому времени чувства обоих уже перегорели. Аполлинария писала Достоевскому: "Ты просишь не писать, что я краснею за свою любовь к тебе. Мало того, что не буду писать, могу уверить тебя, что никогда не писала и не думала писать, за любовь свою никогда не краснела: она была красива, даже грандиозна. Я могла тебе писать, что краснела за наши прежние отношения. Но в этом не должно быть для тебя нового, ибо я этого никогда не скрывала и сколько раз хотела прервать их до моего отъезда за границу…
Что ты никогда не мог этого понять, мне теперь ясно: они для тебя были приличны. Ты вел себя, как человек серьезный, занятой, по-своему понимал свои обязанности и не забывал и наслаждаться, напротив, даже, может быть, необходимым считал наслаждаться, на том основании, что какой-то великий доктор или философ утверждал, что нужно пьяным напиться раз в месяц".
Беспокоясь о целостности восприятия "Идиота" читателями и сожалея, что при самой большой гонке печатанье романа не успевает завершиться в декабре, Достоевский писал 26 октября (7 ноября) 1868 года С. А. Ивановой: "Наконец, и (главное) для меня в том, что эта 4-я часть и окончание ее — самое главное в моем романе, то есть для развязки романа почти и писался и задуман был весь роман". "Гибель героини, взаимное сострадание двух соперников, двух названных братьев, над трупом любимой женщины, возвещающее им обоим безнадежный исход на каторгу или в сумасшедший дом", — так охарактеризовал Л. П. Гроссман развязку романа. Она возникла на сравнительно поздней стадии работы, 4 октября 1868 года, когда рядом с заметкой: "Рог(ожин) и Князь у трупа. Final" — автор написал в знак своего удовлетворения новым творческим открытием: "Недурно".
Н. А. Бердяев в статье "Мировоззрение Достоевского" писал: "В "Идиоте" все движение идет не к центральной фигуре князя Мышкина, а от нее ко всем. Мышкин разгадывает всех, прежде всего двух женщин, Настасью Филипповну и Аглаю, полон вещих предчувствий, интуитивных прозрений. Он всем идет на помощь. Человеческие отношения я — единственное "дело", которым он целиком захвачен. Сам он живет в тихом экстазе. Вокруг него — бурные вихри. Загадочно-иррациональное, "демоническое" начало в Ставрогине и Версилове напрягает и накаляет окружающую атмосферу, порождает вокруг себя бесовское кружение. То же иррациональное, но "ангелическое" начало в Мышкине не порождает из себя беснования, но оно не может излечить от беснования, хотя Мышкин всей душой хочет быть целителем. Мышкин не вполне, не до конца человек, его природа светлая, но ущербная. Полного человека потом Достоевский попытается показать в Алеше. Очень интересно, что в то время как "темные" — Ставрогин, Версилов, Иван Карамазов — разгадываются, к ним все движется, "светлые" — Мышкин, Алеша сами разгадывают других, от них идет движение ко всем. Алеша — разгадывает Ивана ("Иван-загадка"), Мышкин прозревает в душу Настасьи Филипповны и Аглаи. "Светлые", Мышкин, Алеша, наделяются даром прозрения, они идут на помощь людям. "Темные", Ставрогин, Версилов, Иван Карамазов, наделяются загадочной природой, которая всех мучает и терзает. Такова концепция центростремительного и центробежного движения в романах Достоевского. Иная концепция "Преступления и наказания". Там судьба человека раскрывается не в человеческой множественности, не в раскаленной атмосфере человеческих соотношений. Раскольников разгадывает границы человеческой природы наедине с собой, он экспериментирует над собственной природой. "Темный" Раскольников не был еще "загадкой", подобно Ставрогину или Ивану. Это еще стадия в судьбе человека, в путях человеческого своеволия, предшествующая Ставрогину и Ивану Карамазову, менее сложная. Загадочен не сам Раскольников, загадочно его преступление. Человек переходит свои границы. Но своеволие не изменило еще коренным образом человеческой природы. Герой "Записок из подполья", Раскольников ставят проблемы и загадки. Версилов, Иван Карамазов, Ставрогин сами — проблемы и загадки".
Кажется, что в "Идиоте" князь Мышкин терпит полное поражение. Ему так и не удается никому помочь, использовать во благо людям неожиданно свалившееся на него миллионное наследство. Он оказывается не в силах помешать убийству Настасьи Филипповны Рогожиным. И в финале Мышкин возвращается в прежнее блаженное состояние, опять скрывается в швейцарском убежище. Однако именно князь оказывается единственным из персонажей романа, к кому не может пристать зло мира. И только он способен на чистую и бескорыстную любовь, свободную от роковых страстей. Как и Иисус в "Легенде о Великом инквизиторе", князь Мышкин побеждает зло лишь морально, в том числе и отказываясь мстить злу, мешая ему окончательно восторжествовать в людских душах лишь одним фактом своего присутствия в мире.
•
Блеск и нищета русских революционеров
Из всех романов Достоевского "Бесы" в наибольшей степени воспринимались и воспринимаются современниками и потомками как роман-предупреждение, роман-пророчество. Опубликованный в журнале "Русский вестник" в 1871 году и в конце 1872 года, роман "Бесы" написан "о грядущем, скорее о нашем времени, чем о том времени", — утверждал Н. А. Бердяев в "Русской идее" уже в середине XX века, после Второй мировой войны, после холокоста и ГУЛАГа, после миллионов убитых только за принадлежность к тому или иному народу и религии или за политические убеждения.
Действительно, тем, кто пережил революцию в России, ужасы двух мировых войн, холокост, "Бесы" казались актуальнейшим произведением. Не случайно мировую известность приобрела инсценировка романа Достоевского Альбером Камю под названием "Одержимые", премьера которой состоялась 30 января 1959 года в парижском театре "Антуан". Композиционным центром спектакля стала "Исповедь Ставрогина". Уже в дневнике 1947 года, в период работы над пьесой "Праведники", Камю отмечал: "Духовный коммунизм Достоевского — моральная ответственность всех". А в день премьеры "Одержимых" французский писатель заявил: "Я старался только проследить глубинное движение книги и подняться вместе с ней от сатирической комедии к драме и к трагедии… В остальном же мы пытались среди этого жуткого, суетного, полного скандалов и насилия мира не потерять ту нить сострадания и милосердия, которые делают мир Достоевского близким каждому из нас".
Сам Достоевский тоже порой хотел заглянуть в будущее, но оно получалось уж больно мрачным. Уже после "Бесов", в планах к роману "Подросток" Достоевский сделал запись: "Фантастическая поэма-роман: будущее общество, коммуна, восстание в Париже, победа, 200 миллионов голов-." Но он еще верил, что Россию минует чаша сия.
Еще продолжая работу над четвертой частью "Идиота", 11 (23) декабря 1868 года Достоевский писал из Флоренции поэту А. Н. Майкову: "Здесь же у меня на уме теперь: 1) огромный роман, название ему "Атеизм" (ради Бога, между нами), но прежде чем приняться за который мне нужно прочесть чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных. Он поспеет, даже при полном обеспечении в работе, не раньше как через два года. Лицо есть: русский человек нашего общества, и в летах, не очень образованный, но и не необразованный, не без чинов, — вдруг, уже в летах, теряет веру в Бога. Всю жизнь он занимался одной только службой, из колеи не выходил и до 45 лет ничем не отличался. (Разгадка психологическая: глубокое чувство, человек и русский народ). Потеря веры в Бога действует на него колоссально. (Собственно — действие в романе, обстановка — очень большие.) Он шныряет по новым поколениям, по атеистам, по славянам и европейцам, по русским изуверам и пустынножителям, по священникам; сильно, между прочим, попадается на крючок иезуиту, пропагатору, поляку; спускается от него в глубину хлыстовщины — и под конец обретает и Христа и русскую землю, русского Христа и русского Бога. (Ради Бога, не говорите никому; а для меня так — написать этот последний роман, да хоть бы и умереть — весь выскажусь…)"
А еще 18 февраля (1 марта) 1868 года Достоевский писал Майкову: "И вообще, все понятия нравственные и цели русских — выше европейского мира. У нас больше непосредственной и благородной веры в добро как в христианство, а не как в буржуазное разрешение задачи о комфорте. Всему миру готовится великое обновление через русскую мысль (которая плотно спаяна с православием…), и это совершится в какое-нибудь столетие — вот моя страстная вера".
Достоевский также писал, что приступить к осуществлению нового замысла сможет лишь после того, как освободится от долгов и будет иметь хотя бы необходимые средства для жизни. "Атеизм" на продажу не потащу (а о католицизме и об иезуите у меня есть что сказать сравнительно с православием)", — патетически восклицал писатель.
К теме "Атеизма" Достоевский вернулся в письме к С А Ивановой из Флоренции от 25 января (6 февраля) 1869 года, через неделю после отправки в Россию последних двух глав "Идиота": "Теперь у меня в голове мысль огромного романа, который во всяком случае, даже и при неудаче моей, должен иметь эффект, — собственно по своей теме. Тема — Атеизм. (Это не обличение современных убеждений, это другое и — поэма настоящая.) Это поневоле должно завлечь читателя. Требует большого изучения предварительно. Два-три лица ужасно хорошо сложились у меня в голове, между прочим, католического энтузиаста-священника (вроде St François Xavier)".
Достоевский упомянул миссионера, проповедника христианства на Дальнем Востоке и одного из сотрудников основателя ордена иезуитов Игнатия Лойолы Франциска Ксаверия (1506–1552), канонизированного католической церковью.
"Атеизм" стал своеобразным продолжением дискуссии о русском человеке и его метаниях, об атеизме и католицизме, которую ведет князь Мышкин с публикой, собравшейся в доме у Епанчиных:
"…Католичество римское даже хуже самого атеизма, таково мое мнение!.. Атеизм только проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он искаженного Христа проповедует, им же оболганного и поруганного, Христа противоположного! Он антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас!.. Папа захватил землю, земной престол и взял меч; с тех пор все так и идет, только к мечу прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли самыми святыми, правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа, все, все променяли за деньги, за низкую земную власть. И это не учение антихристово?! Как же было не выйти от них атеизму?..
Вы вот дивитесь на Павлищева, вы все приписываете его сумасшествию или доброте, но это не так! И не нас одних, а всю Европу дивит в таких случаях русская страстность наша: у нас коль в католичество перейдет, то уж непременно иезуитом станет, да еще из самых подземных; коль атеистом станет, то непременно начнет требовать искоренения веры в Бога насилием, то есть, стало быть, и мечом!.. Не из одного ведь тщеславия, не все ведь от одних скверных, тщеславных чувств происходят русские атеисты и русские иезуиты, а и из боли духовной, из жажды духовной, из тоски по высшему делу, по крепкому берегу, по родине, в которую веровать перестали, потому что никогда ее и не знали! Атеистом же так легко сделаться русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире! И наши не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру, никак и не замечая, что уверовали в нуль. Такова наша жажда!.. Ведь подумать только, что у нас образованнейшие люди в хлыстовщину даже пускались…"
Об "Атеизме" писатель упоминал еще несколько раз (в письмах к тому же А. Н. Майкову и племяннице С. А. Ивановой), но из-за подготовки "Идиота" к отдельному изданию отложил осуществление этого замысла. Достоевский собирался писать "Атеизм" в России, чтобы наполнить его новыми впечатлениями от русской жизни.
К лету 1869 года "Атеизм" превратился в "Житие Великого грешника", из которого, в свою очередь, в конце концов получились "Бесы" и "Братья Карамазовы".
Первая запись к "Житию великого грешника" была сделана Достоевским 19 (31) июля 1869 года: "Детство. Дети и отцы, интрига, заговоры детей, поступление в пансион и проч.". Можно предположить, что писатель задумал, цикл романов и повестей на тему "Атеизма", начав с Детства героев.
"…Через три дня сажусь за роман в "Русский вестник", — писал Достоевский А. Н. Майкову 7 (19) декабря. — И не думайте, что я блины пеку: как бы ни вышло скверно и гадко то, что я напишу, но мысль романа и работа его — все-таки мне-то, бедному, то есть автору, дороже всего на свете! Это не блин, а самая дорогая для меня идея и давнишняя. Разумеется, испакощу, но что же делать!"
Начальной точкой творческой истории будущих собственно "Бесов" можно признать недатированный план романа "Зависть". Его заглавие определено взаимоотношениями двух главных действующих лиц — Князя А, Б. и Учителя ("… между ними легла зависть и ненависть"). В блестящем, гордом, мстительном и завистливом Князе, не лишенном, однако, благородства и великодушия, уже проступают черты Ставрогина, а Учитель своей нравственной красотой напоминает Шатова.
Совпадают также некоторые сюжетные коллизии "Зависти" и возникших позднее черновых планов к "Бесам" (личное соперничество между Князем А. Б. и Учителем; сложные отношения Князя с двумя женщинами — Воспитанницей и Красавицей; влюбленный в Красавицу капитан, пишущий нелепые стихи; мотив пощечины и самоубийства героя).
Достоевский остро ощущает недостаток подлинного трагизма в задуманном им романе. Он записывает во второй половине февраля 1870 года: "Где же трагизм?", далее следует перечень трагических моментов и ситуаций в романе: "КНЯЗЬ ВЛЮБЛЕН БЕЗНАДЕЖНО И ОТЧАЯННО (до преступления) (здесь трагизм, и в том трагизм, что новые люди). Воспитанница влюблена в Ш(атова), который женат (… лицо трагическое и высокохристианское). Князь ненавидит все и всех и под конец сходится с Нечаев(ым) чтоб убить Ш(атова)".
В последних февральских записях 1870 года образ Князя становится еще более загадочным и сложным. Теперь он — смесь умудренного скептика, Дон-Жуана и "изящного Ноздрева". А в записи от 7 марта н. ст. 1870 года Князь (будущий Ставрогин) рисуется как "развратнейший человек и высокомерный аристократ", враг освобождения крестьян. Он, подобно Раскольникову, человек идеи, которая, "уже раз поселившись в натуре", требует "и немедленного приложения к делу". Далее повторяются уже известные из предыдущих набросков черты характеристики Князя (он возвращается в город с твердым намерением стать "новым человеком", собирается отказаться от наследства и жениться на Воспитаннице, "ищет укрепиться в убеждениях" у Шатова, Голубова (героя, реальным прототипом такого героя становится крестьянин-старообрядец Константин Ефимович Голубов, а в окончательном тексте романа это — старец Тихон) и Нечаева, наконец, "укрепляется в идеях Голубова", суть которых — "смирение и самообладание и что Бог и царство небесное внутри нас, в самообладании, и свобода тут же" и т. д. В итоге получается, что Князь не имеет "особенных идей". Он осознал свою оторванность от почвы и хочет стать новым человеком. "Льнет к Голубову". Неожиданно застреливается. В предсмертном письме следующим образом мотивирует самоубийство: "Я открыл глаза и слишком много увидел и — не вынес, что мы без почвы".
Многие будущие идеи и "Бесов" вышли из "Идиота". Так, проходимец Лукьян Тимофеевич Лебедев убеждает князя Мышкина насчет опасности крайних нигилистов, будущих "бесов", готовых от словесного отрицания самодержавия и религии перейти к делу: "Нигилисты все-таки иногда народ сведущий, даже ученый, а эти — дальше пошли-с, потому что прежде всего деловые-с. Это собственно некоторое последствие нигилизма, но не прямым путем, а понаслышке и косвенно, и не в статейке какой-нибудь журнальной заявляют себя, а уж прямо на деле-С; не о бессмысленности, например, какого-нибудь там Пушкина дело идет, и не насчет, например, необходимости распадения на части России; нет-с, а теперь уже считается прямо за право, что если очень чего-нибудь захочется, то уж ни пред какими преградами не останавливаться, хотя бы пришлось укокошить при этом восемь персон-с. Но, князь, я все-таки вам не советовал бы…"
В данном случае Достоевский ссылался на одно из утопических положений прокламации "Молодая Россия" (1862), составленной П. Г. Зайчневским. Вслед за Михаилом Александром Бакуниным (1814–1876), послужившим главным прототипом Ставрогина, он представлял себе будущее устройство России как федеративную республику или союз областей, состоящий из земледельческих самоуправляемых общин: "Мы требуем изменения современного деспотического правления в республиканско-федеративный союз областей, причем вся власть должна перейти в руки национального и областных собраний. На сколько областей распадется земля русская, какая губерния войдет в состав какой области — этого мы не знаем: само народонаселение должно решить этот вопрос". То, что осуждающая революционеров сентенция вложена в уста явно несимпатичного персонажа, не делает эту мысль менее достоевской.
Вероятно, эта брошюра отразилась и в темах разговоров на вечерах у генеральши Саврогиной: "Говорили об уничтожении цензуры и буквы ъ, о замещении русских букв латинскими, о вчерашней ссылке такого-то, о каком-то скандале в Пассаже, о полезности раздробления России по народностям с вольною федеративною связью, об уничтожении армии и флота, о восстановлении Польши по Днепр, о крестьянской реформе и прокламациях, об уничтожении наследства, семейства, детей и священников, о правах женщины, о доме Краевского, которого никто и никогда не мог простить господину Краевскому, и пр. и пр. Ясно было, что в этом сброде новых людей много мошенников, но несомненно было, что много и честных, весьма даже привлекательных лиц, несмотря на некоторые все-таки удивительные оттенки. Честные были гораздо непонятнее бесчестных и грубых; но неизвестно было, кто у кого в руках".
"Прокламация Зайчневского звала к новой пугачевщине, даже в случае, если придется "пролить втрое больше крови, чем пролито якобинцами в 90-х годах!" Она требовала уничтожения рода Романовых, власти помещиков, чиновничества. Как возможное условие революции рассматривалась неудачная для России война: "Начнется война, потребуются рекруты, произведутся займы, и Россия дойдет до банкротства. Тут-то и вспыхнет восстание, для которого достаточно будет незначительного повода!"
Зайчневский был противником брака, "как явления в высшей степени безнравственного и немыслимого при полном равенстве полов", и семьи, само существование которой, по его мнению, препятствует развитию человека, поскольку лучше воспитываться в коммуне и содержаться за счет общества.
Письмо к А. Н. Майкову от 25 марта (6 апреля) 1870 года дает наиболее подробное, целостное изложение всего замысла "Жития", как он вырисовывался перед Достоевским в это время: ";..в "Зарю" я обещаю вещь хорошую и хочу сделать хорошо. Эта вещь в "Зарю" уже два года как зреет в моей голове. Это та самая идея, об которой я Вам уже писал. Это будет мой последний роман. Объемом в "Войну и мир", и идею Вы бы похвалили — сколько я по крайней мере соображаюсь с нашими прежними разговорами с Вами. Этот роман будет состоять из пяти больших повестей (листов 15 в каждой; в 2 года план у меня весь созрел). Повести совершенно отдельны одна от другой, так что их можно даже пускать в продажу отдельно. Первую повесть я и назначаю Кашпиреву. Тут действие еще в сороковых годах. (Общее название романа есть: Житие Великого грешника, но каждая повесть будет носить название отдельно.) Главный вопрос, который проведется во всех частях, — тот самый, которым я мучился сознательно и бессознательно всю мою жизнь, — существование Божие. Герой в продолжение жизни то атеист, то верующий, то фанатик и сектатор, то опять атеист. 2-я повесть будет происходить в монастыре. На эту 2-ю повесть я возложил все мои надежды. Может быть, скажут наконец, что не все писал пустяки. Вам одному исповедуюсь, Аполлон Николаевич: хочу выставить во 2-й повести главной фигурой Тихона Задонского, конечно под другим именем, но тоже архиерей, будет проживать в монастыре, на спокое. 13-летний мальчик, участвовавший в совершении уголовного преступления, развитый и развращенный (я этот тип знаю), будущий герой всего романа, посажен в монастырь родителями (круг наш, образованный) и для обучения. Волчонок и нигилист-ребенок сходится с Тихоном (Вы ведь знаете характер и все лицо Тихона). Тут же в монастыре посажу Чаадаева (конечно, под другим тоже именем). Почему Чаадаеву не просидеть года в монастыре? Предположите, что Чаадаев после первой статьи, за которую его свидетельствовали доктора каждую неделю, не утерпел и напечатал, напр, за границей, на французском языке, брошюру, — очень и могло бы быть, что за это его на год отправили бы посидеть в монастырь. Ради Бога, не передавайте никому содержание этой второй части… Я вам исповедуюсь. Для других пусть это гроша не стоит, но для меня — сокровище. Не говорите же про Тихона. Я написал о монастыре Страхову, но про Тихона не писал. К Чаадаеву могут приехать в гости и другие, Белинский, например, Грановский, Пушкин даже. (Ведь у меня же не Чаадаев, я только в роман беру этот тип.) В монастыре есть и Павел Прусский, есть и Голубов, и инок Парфений. (В этом мире я знаток и монастырь русский знаю с детства.) Но главное, Тихон и мальчик… Авось выведу величавую, положительную, святую фигуру. Это уж не Костанжогло-с и не немец (забыл фамилию) в "Обломове" (речь идет о Штольце. — Б. С.) ("Почем мы знаем: может быть, именно Тихон-то и составляет наш русский положительный тип, который ищет наша литература, а не Лаврецкий, не Чичиков, не Рахметов и проч". Приписка Достоевского к письму. — Б. С.); и не Лопуховы, не Рахметовы. (Два последние — герои романа "Что делать?".)
Правда, я ничего не создам, я только выставлю действительного Тихона, которого я принял в свое сердце давно с восторгом. Но я сочту, если удастся, и это для себя уже важным подвигом. Не сообщайте же никому. Но для 2- го романа, для монастыря, я должен быть в России. Ах, кабы удалось! Первая же повесть — детство героя: разумеется, не дети на сцене; роман есть. И вот, благо я могу написать это за границей, предлагаю "Заре".
Попытка реконструкции содержания каждой из предполагавшихся повестей на основе письма к Майкову и планов "Жития" была предложена Л. П. Гроссманом: 1. Детство; 2. Монастырь, встреча с Тихоном; 3. Молодость (атеизм, влияние ростовщика и накопление золота, кульминация греховности); 4. Кризис (схимничество, странствия, жажда смирения); 5. Духовное перерождение, признание в преступлении и смерть.
С образом Великого грешника генетически связаны главные герои последнего романа писателя. К Дмитрию Карамазову ведут записи: "начало широкости", "сладострастие", "разгул"; в характере Ивана отражена богоборческая линия "Жития"; в характере Алексея — мотив послушничества. Тема монастыря и старчества, намеченная в "Житии" как одна из самых главных, получила в "Братьях Карамазовых" углубленное развитие. Тихон Задонский стал одним из прототипов Тихона в "Бесах" и Зосимы в "Братьях Карамазовых". А в Ставрогина трансформировался главный герой "Жития".
По справедливому наблюдению А. Л. Бема, в планах "Жития" "преступный лик героя вырисован четко и психологически убедительно, лик просветленный рисуется смутно"; даже встреча с Тихоном "скорее укрепляет грешника в его ложном пути, чем ведет его на путь просветления", а в одной из заключительных записей о "не побежденном в своей гордости, не способном на подлинный акт смирения и раскаяния" герое говорится: "Застрелиться хотел…" Таким образом, "почти до конца герой "Жития" пребывает в своей гордыне, пути преодоления которой в сохранившемся плане не даны".
Тут подоспела история с С. Г. Нечаевым, и Достоевский, навсегда оставив "Житие великого грешника", начал писать новый роман. "Бесы" были задуманы Достоевским в конце 1869 года как роман о Нечаеве и нечаевцах. Первоначально Достоевский намечал на роль главного героя Петра Верховенского, восходящего к Сергею Нечаеву. Осенью 1869 — в начале 1870 года Достоевский делает план повести "Смерть поэта" для "Русского вестника". Там появляется и первая запись о Нечаеве — "Нечаев. Кулишов донес на Нечаева".
О главных источниках информации на первом этапе работы над "Бесами" он рассказал в письме к редактору "Русского вестника" М. Н. Каткову от 8 (20) октября 1870 года: "Одним из числа крупнейших происшествий моего рассказа будет известное в Москве убийство Нечаевым Иванова. Спешу оговориться: ни Нечаева, ни Иванова, Ни обстоятельств того убийства я не знал и совсем не знаю, кроме как из газет".
"…Мой Петр Верховенский, — утверждал писатель в том же письме, — может нисколько не походить на Нечаева; но мне кажется, что в пораженном уме моем создалось воображением то лицо, тот тип, который соответствует этому злодейству… Без сомнения, — замечает он, — небесполезно выставить такого человека; но он один не соблазнил бы меня. По-моему, эти жалкие уродства не стоят литературы. К собственному моему удивлению, это лицо наполовину выходит у меня лицом комическим. И потому, несмотря на то, что все это происшествие занимает один из первых планов романа, оно, тем не менее, — только аксессуар и обстановка действий другого лица, которое действительно могло бы назваться главным лицом романа. Это другое лицо (Николай Ставрогин) — тоже мрачное лицо, тоже злодей. Но мне кажется, что это лицо — трагическое, хотя многие наверно скажут по прочтении; "Что это такое?" Я сел за поэму об этом лице потому, что слишком давно уже хочу изобразить его. По моему мнению, это и русское и типическое лицо. Мне очень, очень будет грустно, если оно у меня не удастся. Еще грустнее будет, если услышу приговор, что лицо ходульное. Я из сердца взял его. Конечно, это характер, редко являющийся во всей своей типичности, но это характер русский (известного слоя общества)… Что-то говорит мне, что я с этим характером справлюсь… Замечу одно: весь этот характер записан у меня сценами, действием, а не рассуждениями; стало быть, есть надежда, что выйдет лицо… Но не все будут мрачные лица; будут и светлые. Вообще боюсь, что многое не по моим силам. В первый раз, например, хочу прикоснуться к одному разряду лиц, еще мало тронутых литературой Идеалом такого лица беру Тихона Задонского. Это тоже Святитель, живущий на спокое в монастыре. С ним сопоставляю и свожу на время героя романа".
Первые сведения об убийстве нечаевцами И. Иванова появились в "Московских ведомостях" 27 ноября 1869 года, но только 25 декабря в газете было названо имя С. Г. Нечаева как убийцы Иванова. Сам Достоевский 9 (21) октября 1870 года писал Н. Н. Страхову: "Вначале, то есть еще в конце прошлого года, — я смотрел на эту вещь как на вымученную, как на сочиненную, смотрел свысока., Потом летом опять перемена: выступило еще новое лицо, с претензией на настоящего героя романа, так что прежний герой (лицо любопытное, но действительно не стоящее имени героя) стал на второй план. Новый герой до того пленил меня, что я опять принялся за переделку. И вот теперь, как уже отправил в редакцию "Р(усского) вестника" начало начала, — я вдруг испугался: боюсь, что не по силам взял тему… А между тем я ведь ввел героя не с бух-да-барах. Я предварительно записал всю его роль в программе романа (у меня программа в несколько печатных листов), и вся записалась одними сценами, то есть действием, а не рассуждениями. И потому думаю, что выйдет лицо и даже, может быть, новое; надеюсь, но боюсь".
О личности Нечаева Достоевский, видимо, впервые узнал из передовой статьи "Московских ведомостей" от 24 мая 1869 года, автором которой был М. Н. Катков. Там говорилось: "Молодые люди, замешанные в университетских беспорядках, были привлечены к суду, и некоторые из них испортили свое будущее. Посреди этой суматохи слишком заметно высказал свое усердие один, как сказывают, весьма заслуженный нигилист, человек далеко не первой молодости, еще лет за шесть, за семь пред сим служивший учителем в уездном или ином училище, некто Нечаев. Мы, быть может, ошибаемся в некоторых подробностях, но верно то, что этот поджигатель молодежи, выказывавшийся уже слишком заметно, был арестован. Но он не погиб и ничего не потерял. Он ухитрился бежать из-под стражи, чуть ли не из Петропавловской крепости (эта история была сочинена самим Нечаевым. — Б. С.). Он не только убежал за границу, но успел chemin faisant (по пути (франц.). — Б. С.) сочинить прокламацию к студентам, напечатать ее весьма красиво за границей и послать целый тюк экземпляров оной по почте, конечно, не с тем, чтоб она разошлась между студентами: на это он, как человек неглупый, что доказывает самый побег его, не мог рассчитывать, да это, по всему вероятно, ему не было и нужно. Цель его или его патронов была, вероятно, достигнута тем, что прокламация была перехвачена и прочтена в высших правительственных сферах. Что же пишет этот молодец? Он убеждает студентов крепко держаться, но не полагаться на баричей в своей среде. Это-де консервативные элементы, на которых дело революции рассчитывать не может. Иное дело народ, крестьяне, рабочие: тут-то для революции большая пожива, и пусть-де студенты обратятся к рабочим и подготовляют их к революции". Катков называл Нечаева "пылким энтузиастом" и причислял его к "развратникам, до седых волос причисляющим себя к молодому поколению", "говорящим от его имени", а также выражал уверенность, что Сергей Геннадиевич был кем-то подкуплен. Упоминал Катков и Бакунина как возможного автора одной из нечаевских прокламаций, но считал, что слухи об авторстве Бакунина — это скорее всего попытка использовать Нечаевым в своих целях имя известного революционера.
В записных тетрадях к роману есть прямая отсылка к мифическому побегу Нечаева из Петропавловской крепости: "Разве ты не выдавал, что бежал из казематов…"
Настоящим героем газетной хроники С. Г. Нечаев стал после убийства студента Иванова. Об убийстве, совершенном 21 ноября 1869 года, первое сообщение появилось в газете "Московские ведомости" 27 ноября: "Нам сообщают, что вчера, 25 ноября, два крестьянина, проходя в отдаленном месте сада Петровской Академии, около входа в грот заметили валяющиеся шапку, башлык и дубину, от грота кровавые следы прямо вели к пруду, где подо льдом виднелось тело убитого, опоясанное черным ремнем и в башлыке… Тут же найдены два связанные веревками кирпича и еще конец веревки".
29 ноября "Московские ведомости" сообщили имя убитого и некоторые новые штрихи преступления: "Убитый оказался слушателем Петровской Академии, по имени Иван Иванович Иванов… Деньги и часы, бывшие при покойном, найдены в целости; валявшиеся же шапка и башлык оказались чужими. Ноги покойного связаны башлыком, как говорят, взятым им у одного из слушателей Академии, М-ва; шея обмотана шарфом, в край которого завернут кирпич; лоб прошибен, как должно думать, острым орудием". Отсюда в "Бесах" появилась оставленная убийцами улика — картуз Шатова. Здесь Достоевский несколько изменил обстоятельства дела, поскольку в действительности Нечаев в суматохе надел шапку Иванова, а на месте убийства оставил свою шапку.
20 декабря имя Нечаева опять появилось в "Московских ведомостях". Он был назван главарем студенческих беспорядков в Петербурге, ныне якобы перенесшем свою деятельность в Москву. Излагалось содержание двух прокламаций: "В прошлом августе… появилась из Женевы прокламация на русском языке под заглавием "Начало революции". В ней предписывается всем эмигрантам немедленно прибыть в Россию. Лишь некоторым почетным эмигрантам, Бакунину, Герцену и пр., дозволялось быть, где они пожелают. Осенью явилась вторая прокламация, о которой… извещали в иностранных газетах и в которой обозначены враги революции в России, подлежащие истреблению".
И только 25 декабря "Московские ведомости" указали на Нечаева как на одного из убийц Иванова и призвали "разделаться… с этою мерзостью". А 1 января 1870 года та же газета со ссылкой на "Судебный вестник" сообщила о "каком-то сумасбродном заговоре с прокламациями" и что Иванов будто бы "погиб как желавший донести о преступном замысле".
А вскоре на страницах "Московских ведомостей" появилось имя Бакунина.
6 января 1870 года Катков в передовой заявил, что к Бакунину перешел "скипетр русской революционной партии" от издателей "Колокола", о которых "уже не говорят". Он процитировал "Альгемайне Цайтунг", писавшую о Бакунине как об "основателе и руководителе этого заговора", т. е. студенческих беспорядков, имевших целью "уничтожение всякого государственного начала, отвержение всякой личной собственности и воцарение коммунизма". Катков подробно изложил содержание прокламации Бакунина "Несколько слов к молодым братьям в России", проникнутой "все-разрушительным духом". "Уничтожение всякого государства: вот чего хочет наша революция", — сделал вывод редактор "Московских ведомостей", поскольку, по Бакунину, "всякое государство, как бы либеральны и демократичны ни были его формы, ложится подавляющим камнем на жизнь народа". Катков также упомянул, что "Бакунин выставлял в образец для своей молодой братьи" Стеньку Разина.
В той же статье Катков задавал риторический вопрос: "Кто же этот Бакунин? В молодости это был человек не без некоторого блеска, способный озадачивать людей слабых и нервных, смущать незрелых и выталкивать из колеи. Но в сущности это была натура сухая и черствая, ум пустой и бесплодно возбужденный. Он хватался за многое, но ничем не овладевал, ни к чему не чувствовал призвания, ни в чем не принимал действительного участия. В нем не было ничего искреннего; все интересы, которыми он по-видимому кипятился, были явлениями без сущности…"
В августе 1870 года вместо Петра Верховенского на роль главного героя вышел совсем другой персонаж, получивший имя Николай Всеволодович Ставрогин, и главным его прототипом, как впервые убедительно доказал Л. П. Гроссман, послужил видный анархист и один из лидеров международного революционного движения Михаил Александрович Бакунин. Как отмечал А. Л. Бем в статье "Эволюция образа Ставрогина", "Достоевскому в этот период его творчества не давался замысел преодоления греховности. В его герое, вопреки желанию автора, греховность пускает такие глубокие корни, что путь спасения оказывается тщетным".
В июне 1870 года Достоевский сделал наброски диалогов Ставрогина (Князя) с Шатовым и Тихоном. Князь выдвигает концепцию русского народа — "богоносца", призванного нравственно обновить больное европейское человечество. Эта идея изложена уже в "Фантастических страницах", из которых выросли такие главы второй части романа, как "Ночь" и "Ночь, продолжение", где впервые раскрывается духовный мир Ставрогина с его одинаковым тяготением к вере и безверию, к добру и злу.
В наброске, озаглавленном "Фантастическая страница (Для 2-й и 3-й части)" и помеченном 23 июня 1870 г., дана следующая характеристика Князя, как бы предваряющая и поясняющая его дальнейшие религиозно-философские диалоги с Шатовым: "Князь ищет подвига, дела действительного, заявления русской силы о себе миру. Идея его — православие настоящее, деятельное (ибо кто нынче верует). Нравственная сила прежде экономической. (NB. Не верит в Бога и имеет в уме подвиг у Тихона.) ВООБЩЕ ИМЕТЬ В ВИДУ, что Князь обворожителен, как демон, и ужасные страсти борются с подвигом. При этом неверие и мука — от веры. Подвиг осиливает, вера берет верх, но и бесы веруют и трепещут. "Поздно", — говорит Князь и бежит в Ури, а потом повесился".
"ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ КНЯЗЯ, КОТОРОЮ БЫЛ ПОРАЖЕН ШАТОВ И ВПОЛНЕ СТРАСТНО УСВОИЛ ЕЕ, — СЛЕДУЮЩАЯ: ДЕЛО НЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, А В НРАВСТВЕННОСТИ, не в экономическом, а в нравственном возрождении России". "Нравственность и вера одно…". Православие, сохранившее христианство в его чистом, неискаженном виде, "заключает в себе разрешение всех вопросов, нравственных и социальных" ("Если б представить, что все Христы, то мог ли быть пауперизм?"). Итак, "главная сущность вопроса: христианство спасет мир и одно только может спасти… Далее: христианство только в России есть, в форме православия… Итак, Россия спасет и обновит мир православием… Если будет веровать".
В одной из июньских записей 1870 года Достоевский настаивал: "Нравственность Христа в двух словах: это идея, что счастье личности есть вольное и желательное отрешение ее, лишь бы другим было лучше".
На доказательство невозможности и несостоятельности "научной" нравственности направлена вся аргументация Князя. Князь не верит в способность науки выработать строгие нравственные основания и критерии, поскольку "все нравственные начала в человеке, оставленном на одни свои силы, условны". В доказательство "условности" нравственных принципов, выдвигаемых наукой, князь ссылается на теорию английского экономиста Т. Р. Мальтуса (1766–1834), автора "Опыта о народонаселении". Князь указывает, что, следуя по пути Мальтуса, при росте населения и недостатке пищи наука может дойти до "сожжения младенцев". Доказав таким образом "нравственную несостоятельность" науки, Князь и Шатов соглашаются, что православие заключает в себе разрешение социальных и нравственных вопросов.
А уже в августе Достоевский записал:
"Итог. Ставрогин как характер: все благородные порывы до чудовищной крайности (Тихон) и все страсти (при скуке непременно). Бросается и на Воспитанницу, и на Красавицу. Объясняет Воспитаннице секрет, но до самого крайнего момента, даже в письме со станции, не говорит о девочке… Требует Воспитанницу к себе с эгоизмом, презирая и не веруя в помощь человека. Наслаждается глумлением над Красавицей, Ст(епаном) Т(рофимови)чем, братом Хромоножки, над матерью и даже над Тихоном. Красавицу он действительно не любил и презирал, но когда она отдалась, вспыхнул страстью вдруг (обманчивой и минутной, но бесконечной) и совершил преступление. Потом разочаровался. Он улизнул от наказания, но сам повесился… В письме со станции не зовет Воспитанницу, а только объясняет про Ури… Гордость его в том, что не побоюсь, например, объявления о Хромоножке, и боится. Сознает, что не готов для подвига и что никогда не будет готов".
Обобщающую характеристику Ставрогина Достоевский набрасывает 1 ноября 1870 г.: "Приехал же Nicolas действительно в ужасном и загадочном состоянии духа. В нем боролись две идеи: 1) Лиза — овладеть ею — идея жестокая и хищная. 2) Подвиг, восстание на зло, великодушная идея победить. Он потому сходится сначала с Шатовым, потом с Тихоном. Хочет и исповедовать себя перед всеми, и наказать себя стыдом Хромоножки… Обновление и воскресение для него заперто единственно потому, что он оторван от почвы, следственно не верует и не признает народной нравственности. Подвиги веры, например, для него ложь. Отвлеченное же понятие об общечеловеческой, гуманной совести на деле несостоятельно. Это выставить. Он вдруг падает, хотя, например, распоряжение насчет Ури уже сделано…"
В "Бесах" Достоевский отразил русское революционное движение середины XIX века. Писатель признавался: "Я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, и уверяю вас, что стоял в компании людей образованных… Нечаевым, вероятно, я бы не смог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь…"
Деятельность тайного общества "Народная расправа", убийство пятью членами этой организации — С. Г. Нечаевым, П. Г. Успенским, А. К. Кузнецовым, И. Г. Прыжовым, Н. Н. Николаевым — слушателя Петровской земледельческой академии И. И. Иванова, процесс над убийцами Иванова, проходивший в 1871 году в Петербурге, послужили материалом для "Бесов".
Сергей Геннадиевич Нечаев (1847–1882), прототип Петра Верховенского, родился в семье мещанина в селе Иваново-Вознесенском Владимирской губернии. В 14 лет он служил рассыльным в конторе фабрики Горелина. В 1866 году Нечаев переселился в Петербург, где сдал учительский экзамен, получив место преподавателя в Андреевском училище. В следующем году он уже преподавал в Сергиевском приходском училище, а с осени 1868 года поступил вольнослушателем в Петербургский университет, где организовал студенческий кружок, участвовал в студенческих выступлениях весной 1869 года. Спасаясь от полицейских преследований, Нечаев бежал в Швейцарию, где встретился с М. А. Бакуниным и Н. П. Огаревым. Молодой энергичный революционер понравился Бакунину и Огареву. Бакунин попытался с помощью Нечаева организовать в России революционное общество, которое воплотило бы его анархистскую программу и идеалы. Нечаев вернулся в Россию в сентябре 1869 года с выданным ему Бакуниным мандатом мифического "Русского отдела всемирного революционного союза".
Л. П. Гроссман так объяснял, почему на Бакунина столь сильно и убедительно подействовали нечаевские мистификации: "Нечаев объявился в Женеве, когда Бакунин уже отчаялся увидеть и обнять кого-нибудь из русской революционной молодежи, той молодежи, ради которой положили свои жизни "старики", той молодежи, которая делает свое революционное дело не в Женеве, а в России, на родине. Нечаев и назвался таким человеком: при всей своей конспиративной осторожности Бакунин так обрадовался появлению наконец представителей молодой России, что был на этот раз совершенно ослеплен. Он без всякой критики поверил, что Нечаев представляет секретный Комитет некоей разветвленной, действующей по всей России организации, обласкал его, познакомил с Огаревым, дал денег из Бахметьевского фонда, организовал тайное свидание дочери Герцена, Натальи, с Нечаевым, чтобы женскими чарами глубже втянуть его в революционное дело (использование женщины в революционных целях), заставил Огарева посвятить ему стихотворение, выдал ему удостоверение несуществующего, впрочем, "Европейского революционного альянса" № 2271, от имени которого Нечаеву предоставлялось теперь право действовать, но, главное, согласился стать крестным отцом "Народной расправы" и редактором нечаевского "Катехизиса революционера" — одного из самых отвратительных и страшных документов в истории русского революционного движения.
Нечаев даже умудрился подписать у Бакунина всю эту мертвечину, что должно было, разумеется, повлечь за собой распространение в России "Катехизиса" от его, Бакунина, имени, но Бакунин в своем ослеплении ничего не замечал. "Его тигренок", который с первого шага своей революционной деятельности был фальсификатором и провокатором, казался Бакунину образцом революционной собранности, преданности, целеустремленности".
Герцен взглядов Бакунина не разделял, но вспоминал о нем с уважением: "Бакунин имел много недостатков, но недостатки его были мелки, а сильные качества крупны… В пятьдесят лет он был решительно тот же кочующий студент с Маросейки, тот же бездомный. Богема, без заботы о завтрашнем дне, пренебрегая деньгами, бросая их, когда есть, занимая их без разбора направо и налево, когда их нет, с той простотой, с которой дети берут у родителей — без заботы об уплате, с той простотой, с которой он сам готов отдать всякому последние деньги, отделив от них, что следует на сигареты и чай. Его этот образ жизни не теснил; он родился быть великим бродягой, великим бездомником… В нем было что-то детское, беззлобное и простое, и это придавало ему необычайную прелесть и влекло к нему слабых и сильных, отталкивая одних чопорных мещан".
Автор "Былого и дум" также называл Бакунина "Колумбом без Америки", имея в виду, что для него не нашлось достойного его великих способностей дела в виде русской или мировой революции. А Петр Верховенский признается Ставрогину: "Но один, один только человек в России изобрел первый шаг и знает, как его сделать. Этот человек я. Что вы глядите на меня? Мне вы, вы надобны, без вас я нуль. Без вас я муха, идея в склянке, Колумб без Америки". Таким образом, Петр Степанович здесь сам претендует на роль Колумба, готовя Николаю Всеволодовичу лишь представительскую и пропагандистскую.
Из письма Бакунина к его другу Таландье видно, что Бакунин не разделял полностью всей тактики Нечаева, а, наоборот, многое в ней осуждал. 24 июля 1870 года Бакунин писал:
"Нечаев один из деятельнейших и энергичнейших людей, каких я когда-либо встречал. Когда надо служить тому, что он называет делом, он не колеблется и не останавливается ни перед чем и показывается так же беспощадным к себе, как и ко всем другим. Вот главное качество, которое привлекло меня и долго побуждало меня искать его сообщества… Это фанатик, преданный, но в то же время фанатик очень опасный и сообщничество с которым может быть только гибелью для всех… способ действия его отвратительный.
Живо пораженный катастрофой, которая разрушила тайную организацию в России, он пришел мало-помалу к убеждению, что для того, чтобы создать общество серьезное и неразрушимое, надо взять за основу политику Макиавелли и вполне усвоить систему иезуитов: для тела одно насилие, для души — ложь.
Истина, взаимное доверие, солидарность серьезная и строгая — существуют только между десятком лиц, которые образуют внутреннее святилище общества. Все остальное должно служить слепым орудием и как бы материей для пользования в руках этого десятка людей, действительно солидарных. Дозволительно и даже простительно их обманывать, компрометировать, обкрадывать и, по нужде, даже губить их; это мясо для заговоров… во имя дела он должен завладеть вашей личностью, без вашего ведома. Для этого он будет вас шпионить и постарается овладеть всеми вашими секретами и для этого, в вашем отсутствии, оставшись один в вашей комнате, он откроет все ваши ящики, прочитает всю вашу корреспонденцию, и когда какое-либо письмо покажется ему интересным, т. е. компрометирующим с какой бы то ни было точки, для вас или одного из ваших друзей, он его украдет и спрячет старательно, как документ против вас или вашего друга.
Он это делал с О., со мною, с Татою (имеются в виду Н. П. Огарев и дочь А. И. Герцена Наталья. — Б. С.) и с другими друзьями, — и когда, собравшись вместе, мы его уличили, он осмелился сказать нам: "Нуда! это наша система, — мы считаем как бы врагами и мы ставим себе в обязанность обманывать, компрометировать всех, кто не идет с нами вполне", — т. е. всех тех, кто не убежден в прелести этой системы и не обещали прилагать ее, как и сами эти господа. Если вы его представите вашему приятелю, первою его заботою станет посеять между вами несогласие, дрязги, интриги, — словом, поссорить вас. Если ваш приятель имеет жену, дочь, — он постарается ее соблазнить, сделать ей дитя, чтобы вырвать ее из пределов официальной морали и чтобы бросить ее в вынужденный революционный протест против общества…
Увидев, что маска с него сброшена, этот бедный Нечаев был настолько наивен, был настолько дитя, несмотря на свою систематическую испорченность, что считал возможным обратить меня; он дошел даже до того, что упрашивал меня изложить эту теорию в русском журнале, который он предлагал мне основать. Он обманул доверенность всех нас, он покрал наши письма, он страшно скомпрометировал нас, — словом, вел себя, как плут. Единственное ему извинение — это его фанатизм! Он страшный честолюбец, сам того не зная, потому что он кончил тем, что отождествовал свое революционное дело с своею собственной персоной; но это не эгоист в банальном смысле слова, потому что он страшно рискует и ведет мученическую жизнь лишений и неслыханного труда. Это фанатик, а фанатизм его увлекает быть совершенным иезуитом. Большая часть его лжи шита белыми нитками. Он играет в иезуитизм, как другие играют в революцию. Несмотря на эту относительную наивность, он очень опасен, так как он совершает ежедневно поступки нарушения доверия, измены, от которых тем труднее уберечься, что едва можно подозревать их возможность. Вместе с этим Нечаев — сила, потому что это огромная энергия… Последний замысел его был ни больше, ни меньше, как образовать банду воров и разбойников в Швейцарии, натурально с целью составить революционный капитал…
…Разве они не осмелились признаться мне откровенно, в присутствии свидетеля, что доносить тайной полиции на члена, не преданного обществу или преданного наполовину, — один из способов, употребление которого они признают законным и полезным иногда? Овладевать секретами лица, семьи, чтоб держать ее в своих руках, — это их главное средство…"
Афишируя свои тесные связи с вождями русской эмиграции в Женеве (в том числе с Герценом, которого он вообще не знал), Нечаев организовал в Москве несколько пятерок, главным образом из студентов Петровской земледельческой академии. Свою организацию он назвал "Народной расправой". Диктаторские замашки Нечаева привели к его столкновению с Ивановым. Убийство последнего по приказу Нечаева стало первым и последним актом "Народной расправы". Все участники убийства были арестованы, а Нечаев опять бежал за границу. Уже после завершения процесса над убийцами Иванова, в 1872 году, он был выдан русскому правительству швейцарскими властями как уголовный преступник Бакунин и Огарев безуспешно пытались предотвратить выдачу, доказывая, что Нечаева преследуют по политическим мотивам. Сергея Геннадиевича заключили в Петропавловскую крепость. 8 января 1873 года Московский окружной суд приговорил Нечаева к лишению всех прав состояния, каторжным работам в рудниках на 20 лет и вечному поселению в Сибири, которые царь заменил бессрочным тюремным заключением. Над Нечаевым был совершен обряд публичной казни, после чего его заточили в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.
Нечаев считал допустимыми любые средства в борьбе с самодержавием, широко применял метод провокации, нередко мистифицировал. Бакунин, также исповедывавший Макиавеллиево "Цель оправдывает средства", в конце концов постарался откреститься от некоторых наиболее одиозных деяний Нечаева.
Хотя и сам Михаил Александрович по части нравственности был далеко не безупречен. Виссарион Белинский, поссорившись с Бакуниным после четырех лет самой тесной дружбы, писал Николаю Станкевичу о Бакунине: "С Мишелем я расстался. Чудный человек, глубокая, самобытная, львиная природа — этого у него нельзя отнять. Но его претензии. мальчишество, офицерство, бессовестность и недобросовестность — все это делает дружбу с ним невозможной. Он любит идеи, а не людей, хочет властвовать своим авторитетом, а не любить". А Павлу Анненкову Белинский так характеризовал Бакунина: "Это пророк и громовержец, но с румянцем на щеках и без пыла в организме". Пожалуй, эта характеристика в значительной мере применима и к Ставрогину.
2 июня 1870 года Бакунин писал Нечаеву: "…Наша первая кампания, начатая в 1869 году, потеряна, мы разбиты. Разбиты по двум главным причинам. 1 — народ, на восстание которого мы имели полное право надеяться, не встал. Видно, чаша его страданий и мера его терпения еще не переполнились. Видно, вера в себя, в свое право и в свою силу еще не загорелась в нем и не нашлось достаточного количества дружно действующих и по России разбросанных людей, способных возбуждать эту веру. 2 причина: организация наша и по качеству, и по количеству своих членов, и по самому способу своего составления оказалась недостаточною. Поэтому мы были разбиты, потеряли много сил и много драгоценных людей…
Вы, а с Вами вместе, без сомнения, и ваши друзья сознали его прежде, гораздо прежде, чем высказали мне его; да можно сказать, что Вы и не высказывали его мне никогда, я должен был его сам угадать из многих и явных противоречий в ваших речах и, наконец, убедиться в нем по общему положению дела, которое стало говорить так ясно, что не было возможности… скрыть его даже от посвященных друзей. Вы были убеждены в нем более чем наполовину, когда приезжали ко мне в Локарно, а между тем Вы говорили мне с полнейшею уверенностью и самым утвердительным образом о близости необходимого восстания. Вы обманули меня, и я, подозревая или чувствуя инстинктивно обман, сознательно и систематически отказывался верить в него; Вы продолжали говорить и действовать, точно как будто бы Вы говорили мне чистую правду. Если б в свою бытность в Локарно Вы показали бы мне настоящее положение дела и в отношении народном, и в отношении к организации, я написал бы воззвание свое к офицерам в таком же самом направлении и духе, но другими словами; и это было бы и для меня, и для Вас, а главное, для самого дела лучше. Я не стал бы им говорить о предстоящем движении.
На Вас я не сержусь и не делаю Вам упреков, зная, что, если Вы лжете или скрываете, умалчиваете правду, Вы делаете это помимо всех личных целей, только потому, что Вы считаете это полезным для дела. Я и мы все горячо любим и глубоко уважаем Вас именно потому, что никогда еще не встречали человека, столь отреченного от себя и так всецело преданного делу, как Вы.
Но ни эта любовь, ни это уважение не могут помешать мне сказать Вам откровенно, что система обмана, делающаяся все более и более вашею главною, исключительною системою, вашим главным оружием и средством, гибельна для самого дела.
Прежде, однако, чем попробую и, надеюсь, успею доказать Вам это, скажу несколько слов о моих отношениях к Вам и к вашему Комитету и постараюсь объяснить, почему, несмотря на все предчувствия и разумно-инстинктивные сомнения, предупреждавшие меня все более и более против истины ваших слов, я до сих пор не верил и до последнего приезда моего в Женеву говорил и поступал так, как будто я верил в них безусловно…
Итак, единственною целию тайного общества должно быть не создание искусственной вненародной силы, а возбуждение, сплочение и организация стихийных народных сил; таким образом, единственно возможная, единственно действительная армия революции — не вне народа, а сам народ. Народ искусственно возбудить невозможно, народные революции порождаются самою силою вещей или тем историческим током, который подземно и невидимо, хотя и беспрерывно и большею частью медленно, течет в народных слоях, все больше их обнимая, проникая, подкапывая, до тех пор, пока не вырвется из-под земли наружу и, своим бурным течением ломая препятствия, не уничтожит всего, что ему попадется на дороге…
Ограничу свои рассуждения Россиею. Когда грянет русская революция? Мы этого не знаем. Многие, и я, грешный, между прочим, ждали всенародного восстания в 1870 году, а народ не проснулся. Должно ли из этого заключить, что русский народ может обойтись и без революции, что он минует ее? Нет, такое заключение невозможно, было бы бессмысленно. Кто знает безвыходное, просто критическое положение нашего народа в экономическом и политическом отношении, а с другой стороны, решительную неспособность нашего правительства, нашего государства не только изменить, но хоть сколько-нибудь облегчить его положение — неспособность, вытекающую не из того или другого свойства наших правительственных лиц, а из самой сущности нашего государственного строя в особенности и вообще всякого государства, — тот непременно должен прийти к заключению, что русская народная революция неминуема. Она не только отрицательно, она положительно неминуема, потому что в нашем народе, несмотря на все его невежество, исторически выработался идеал, к осуществлению которого он знаемо или незнаемо стремится. Этот идеал — общинное владение землею с полною свободою от всякого государственного притеснения и от всяких поборов. К этому стремился он при Лжедмитриях, при Стеньке Разине, при Пугачеве и стремится теперь непрестанными, но разрозненными и потому всегда укрощаемыми бунтами. Я указал только на две главные черты народно-русс-кого идеала, отнюдь не имея претензии очертить его вполне несколькими словами. Мало ли что живет еще в интеллектуальных стремлениях русского народа и что выйдет на свет с первою революциею. Теперь мне и этого достаточно для того, чтобы доказать, что наш народ не белый лист бумаги, на котором любое тайное общество может написать что ему угодно, — например, хоть вашу коммунистическую программу. У него выработалась, отчасти сознательно, на три четверти, пожалуй, бессознательно, программа своя, которую тайная организация должна узнать, угадать и с которой она обязана будет сообразоваться, если только желает успеха.
Несомненный и равно нам известный факт, что при Стеньке Разине, также и при Пугачеве, т. е. всякий раз, когда народный бунт удавался, хоть на некоторое время, народ наш делал одно: забирал всю землю в общинное владение, отправлял к черту дворян-помещиков, царских чиновников, а иногда и попов и организовывал свою вольную общину. Значит, у нашего народа есть в памяти и в идеале уже один драгоценный элемент для будущей организации, элемент, которого еще нет у западных народов, — это вольная экономическая община. В народной жизни и в народной мысли есть два начала, два факта, на которые мы опереться можем: частые бунты и вольно-экономическая община. Есть еще третье начало и третий факт, это — казачество или разбойнически-воровской мир, заключающий в себе равно протест и против государственного, и против патриархально-общинного притеснения и напоминающий, так сказать, две первые.
Частные бунты, хотя и вызываемые всегда случайными обстоятельствами, тем не менее проистекают из общих причин и выражают глубокое и всеобщее неудовольствие народа. Они составляют как бы обыденное или обыкновенное явление русской народной жизни. Нет деревни в России, которая бы не была глубоко недовольна своим положением и которая не ощущала бы нужду, тесноту, притеснения и не таила в глубине своего коллективного сердца желание захватить всю помещичью, а затем всю крестьянско-кулацкую землю и убеждение, что она имеет на это несомненное право, — нет деревни, которую умеючи не было бы возможности взбунтовать. Если деревни не бунтуются чаще, так это единственно от страха, от сознания своего бессилия. Сознание это происходит от разъединенности общин, от отсутствия действительной солидарности между ними. Если бы каждая деревня знала, могла надеяться, что, в то время как она встанет, встанут все другие, то можно сказать наверное, что не было бы ни одной деревни в России, которая бы не взбунтовалась. Отсюда вытекает первая обязанность, назначение и цель тайной организации: пробудить во всех общинах сознание их неотвратимой солидарности и тем самым возбудить в русском народе сознание могущества — одним еловом, соединить множество частных крестьянских бунтов в один общий, всенародный бунт.
Одним из главных средств к достижению этой последней цели, по моему глубокому убеждению, может и должно служить наше вольное всенародное казачество, бесчисленное множество наших святых и несвятых бродяг, богомолов, бегунов, воров и разбойников — весь этот широкий и многочисленный подземельный мир, искони протестовавший против государства и государственности и против немецко-кнутовой цивилизации. Это было высказано в безыменном листке "Постановка революционного вопроса" и вызвало у всех наших порядочников и тщеславных болтунов, принимающих свою доктринерскую византийскую болтовню за дело, вопль негодования. А между тем это совершенно справедливо и подтверждается всею нашею историею. Казачий воровско-разбойнический и бродяжнический мир играл именно эту роль совокупителя и соединителя частных общинных бунтов и при Стеньке Разине и Пугачеве; народные бродяги — лучшие и самые верные проводники народной революции, приуготовители общих народных волнений, этих предтеч всенародного восстания, а кому не известно, что бродяги при случае легко обращаются в воров и разбойников. Да кто же у нас не разбойник и не вор? Уж не правительство ли? Или наши казенные и частные спекуляторы и дельцы? Или наши помещики, наши купцы? Я, с своей стороны, ни разбоя, ни воровства, ни вообще никакого противучеловеческого насилия не терплю, но признаюсь, что если мне приходится выбирать между разбойничеством и воровством восседающих на престоле или пользующихся всеми привилегиями и между народным воровством и разбоем, то я без малейшего колебания принимаю сторону последнего, нахожу его естественным, необходимым и даже в некотором смысле законным. Народно-разбойничий мир, признаюсь, с точки зрения истинно человеческой, далеко, далеко не красив. Да что же красиво в России? Разве может быть что-нибудь грязнее нашего порядочного чиновно- или мещанско-цивилизованного и чистоплотного мира, скрывающего под своими западногладкими формами самый страшный разврат мысли, чувства, отношений и действий! Или, в самых лучших случаях, безотрадную и безвыходную пустоту. В народном разврате есть, напротив, природа, сила, жизнь, есть, наконец, право многовековой исторической жертвы; есть могучий протест против коренного начала всякого разврата, против Государства — есть, поэтому, возможность будущего. Вот почему я беру сторону народного разбоя и вижу в нем одно из самых существенных средств для будущей народной революции в России.
Я понимаю, что это может привести в негодование чистоплотных или даже нечистоплотных идеалистов наших — идеалистов всякого цвета, от Утина до Лопатина, воображающих, что они могут насильственным образом, посредством искусственной тайной организации навязать народу свою мысль, свою волю, свой образ действий. Я в эту возможность не верю, а убежден, напротив, что при первом разгроме всероссийского государства, откуда бы он ни произошел, народ подымется не по утинскому, не по лопатинскому и даже не по вашему идеалу, а по своему, что никакая искусственная конспирационная сила не будет в состоянии воздержать или даже видоизменить его самородного движения, — ибо никакая плотина не в состоянии воздержать бунтующего океана. Вы все, мои милые друзья, полетите как щепки, если не сумеете плыть по народному направлению, — уверен, что при первом крупном народном восстании бродяжнически-воровской и разбойнический мир, глубоко вкорененный в нашу народную жизнь и составляющий одно из ее существенных проявлений, тронется, и тронется могущественно, а не слабо. Хорошо ли это или дурно, это факт несомненный и неотвратимый, и кто хочет действительно русской народной революции, кто хочет служить ей, помогать ей, организовать ее не на бумаге только, а на деле, тот должен знать этот факт; мало того, тот должен считаться с ним, не стараясь его обходить, и встать к нему в сознательно-практическое отношение, уметь употребить его как могучее средство для торжества революции. Тут чистоплотничать нечего. Кто хочет сохранить свою идеальную и девственную чистоту, тот оставайся в кабинете, мечтай, мысли, пиши рассуждения или стихи. Кто же хочет быть настоящим революционным деятелем в России, тот должен сбросить перчатки; потому что никакие перчатки его не спасут от несметной и всесторонней русской грязи. Русский мир, государственно-привилегированный и всенародный мир, — ужасный мир. Русская революция будет несомненно ужасная революция. Кто ужасов или грязи боится, тот отойди и от этого мира, и от этой революции; кто же хочет служить последней, тот, зная, на что он идет, укрепи свои нервы и будь готов ко всему.
Употребить разбойничий мир как орудие народной революции, как средство для совокупления и для разобщения частных общинных бунтов — дело нелегкое; я признаю его необходимость, но вместе с тем вполне сознаю свою полнейшую неспособность к нему. Для того чтобы его предпринять и довести его до конца, надо быть самому вооруженным крепкими нервами, богатырскою силою, страстным убеждением и железною волею. В ваших рядах могут найтись такие люди. Но люди нашего поколения и нашего воспитания к нему не способны. Идти к разбойникам — не значит самому сделаться разбойником и только разбойником, не значит делить с ними все их неспокойные страсти, бедствия, часто гнусные цели, чувства, действия — но значит дать им новую душу и возбудить в них другую, всенародную цель — у этих диких и до жестокости грубых людей натура свежая, сильная, непочатая и неистощенная и, следовательно, открыта для живой пропаганды, если пропаганда, разумеется, живая, а не доктринерская, посмеет и сумеет подойти к ним. Об этом предмете я готов сказать еще много, если только придется мне продолжать с Вами эту переписку…
Вообразите себя посреди торжества стихийной революции в России. Государство и вместе с ним все общественно-политические порядки сломаны. Народ весь встал, взял все, что ему понадобилось, и разогнал всех своих супостатов. Нет более ни законов, ни власти. Взбунтовавшийся океан изломал все плотины. Вся эта далеко не однородная, а, напротив, чрезвычайно разнородная масса, покрывающая необъятное пространство всероссийской империи всероссийским народом, начала жить и действовать из себя, из того, что она есть в самом деле, а не из того более, чем ей было приказано быть, везде по-своему, — повсеместная анархия. Взбаламученная грязь, которой огромное количество накопилось в народе, всплывает вверх; является на разных пунктах множество новых лиц, смелых, умных, бессовестных и честолюбивых, которые, разумеется, стремятся, каждый по-своему, овладеть народным доверием и направить его к своей личной пользе. Люди эти сталкиваются, борются, уничтожают друг друга. Кажется, ужасная и безвыходная анархия.
Но представьте себе посреди этой всенародной анархии тайную организацию, разбросившую своих членов мелкими группами по целому пространству империи, но тем не менее крепко сплоченную, одушевленную единою мыслию, единою целью, применяемую везде, разумеется, сообразно обстоятельствам и везде действующую по тому же самому единому плану. Эти мелкие группы, никем не знаемые как такие, не имеют никакой официально признанной власти. Но, сильные своею мыслию, выражающей самую суть народных инстинктов, хотений и требований, своею ясно сознанною целию, посреди толпы людей, борющихся без всякой цели и без всякого плана, сильные, наконец, тою тесною солидарностью, которая связывает все темные группы в одно органическое целое, сильные умом и энергией членов, составляющих их и успевших создать вокруг себя круг людей, более или менее преданных той же мысли и подчиненных натурально их влиянию, — эти группы, не ища ничего для себя, ни льгот, ни чести, ни власти, будут в состоянии руководить народным движением наперекор всем честолюбивым лицам, разъединенным и борющимся между собою, и вести его к возможно полному осуществлению социально-экономического идеала и к организации полной народной свободы. Вот что я называю коллективною диктатурою тайной организации.
Эта диктатура чиста от всякого корыстолюбия, тщеславия и честолюбия, потому что она безлична, невидима и не доставляет ни одному из лиц, составляющих группы, ни самим группам ни выгоды, ни чести, ни официального признания власти. Она не угрожает свободе народа, потому что, лишенная всякого официального характера, она не становится, как государственная власть, над народом и потому что вся ее цель, определенная ее программою, состоит в полнейшем осуществлении народной свободы.
Такая диктатура отнюдь не противна свободному развитию и самоопределению народа, равно как и организации его снизу вверх, сообразно его собственным порядкам и инстинктам, потому что она исключительно действует на народ только натуральным личным влиянием своих членов, не облеченных ни малейшею властью, разбросанных невидимою сетью во всех областях, уездах и общинах и в согласии друг с другом старающихся, каждый на своем месте, направить стихийно-революционное движение народа к общему наперед сговоренному и твердо определенному плану. Этот план, план организации народной свободы, во-1-х, должен быть довольно твердо и ясно начерчен в своих главных началах и целях, для того чтобы исключить всякую возможность недоразумения и блуда со стороны членов, которые будут призваны содействовать его исполнению. А во-2-х, он должен быть достаточно широк и естественен для того, чтобы объять и принять в себя все неотвратимые видоизменения, вытекающие из разных обстоятельств, все разнообразные движения, происходящие из разнообразия народной жизни.
Итак, весь вопрос состоит теперь в том, как организовать из элементов, нам доступных и известных, такую тайную коллективную диктатуру и силу, которая могла бы, во-1-х, в настоящее время повести широко народную пропаганду, пропаганду, действительно проникающую в народ, и силою этой пропаганды, а также и организацией в самом народе совокупить разрозненные силы народа в такое могущество, способное сломать государство, и которая, во-2-х, могла бы сохраниться посреди самой революции, не распалась бы и не изменила бы своему направлению на другой день народной свободы.
Такая организация, в особенности же основное ядро этой организации, должно быть составлено из людей самых крепких, самых умных и по возможности знающих, т. е. опытно-умных, самых страстно, непоколебимо и неизменно преданных людей, которые, отрешившись, по возможности, от всех личных интересов и отказавшись один раз навсегда, на всю жизнь, по самую смерть от всего, что прельщает людей, от всех материально-общественных удобств и наслаждений и от всех удовлетворений тщеславия, чинолюбия и славолюбия, были бы единственно и всецело поглощены единою страстью всенародного освобождения; людей, которые отказались бы от личного исторического значения при жизни и даже от исторического имени после смерти.
Такое полное самоотречение возможно только при страсти. Вы не произведете его сознанием абсолютного долга, но еще менее системою внешнего контролирования, опутывания и принуждения. Только одна страсть может произвести в человеке такое чудо, такую мощь без усилия. Откуда же берется и как образуется такая страсть в человеке? Она берется из жизни и образуется совокупным действием мысли и жизни; отрицательно, как ненавистный протест против всего существующего и гнетущего; положительно же, в обществе одномыслящих и одинаково чувствующих людей, как коллективное создание нового идеала; причем надо заметить, что эта страсть тогда только действительна и спасительна, когда в ней в одинаковой мере и тесно связаны обе стороны — отрицательная и положительная. Одна отрицательная страсть, ненависть, ничего не создает; не создает даже силы, необходимой для разрушения, а следовательно, ничего и не разрушит; одна положительная ничего не разрушит, а так как создание нового невозможно без разрушения старого, также и ничего не создает, оставаясь всегда доктринерским мечтанием или мечтательным доктринерством.
Страсть, глубокая, неискоренимая и непоколебимая страсть, значит, — основа всему В ком ее нет, будь он семи пядей во лбу, будь он человек самый честный, тот не в силах будет выдержать до конца борьбы против страшного общественно-политического могущества, нас всех подавляющего, не в силах будет устоять против всех трудностей, невозможностей, а главное, против всех разочарований, которые ожидают и непременно встретят его в этой неравной и ежедневной борьбе; у человека без страсти не будет ни силы, ни веры, ни инициативы, не будет отваги, а без отваги такое дело не делается. Но одной страсти мало, страсть порождает энергию; но энергия без разумного руководства бесплодна, нелепа. Вместе со страстью необходим, поэтому, также разум холодный, расчетливый, реальный, практический прежде всего, но вместе теоретический, воспитанный и знанием, и опытом, широко объемлющий, но не упускающий также из виду никаких подробностей, способный понимать и различать людей, схватывать действительность, отношения и условия общественной жизни во всех слоях и проявлениях, в их настоящем виде и смысле, а не мечтательно и не произвольно, как это делает довольно часто мой приятель, а именно Вы. Потребно, наконец, положительное знание и России, и Европы, и настоящего социального и политического положения и настроения и той и другой. Значит, самая страсть, оставаясь все-таки и всегда основным элементом, должна руководиться разумом и знанием, должна перестать пороть горячку, не утратив своего внутреннего пламени, своей горячей непреклонности, сделаться холодною и тем сильнейшею страстью.
Вот Вам идеал заговорщика, призванного быть членом ядра тайной организации.
Вы спросите, да где же взять таких людей, разве их в России, да и в целой Европе много? В том-то и дело, что в моей системе их совсем не требуется много. Помните, что Вам не нужно будет создавать армию, а только штаб революции. Таких людей, уже почти совсем готовых, Вы найдете, может быть, десять, а людей, способных сделаться такими и уже готовящихся ими сделаться, по крайней мере человек 50,60, — и за глаза довольно. Вы сами, по моему глубокому убеждению, несмотря на все промахи, печальные и вредные ошибки, несмотря на отвратительный ряд пошлых и глупых обманов, в которые Вас вовлекла только ложная система, отнюдь же не личное честолюбие, тщеславие и корыстолюбие, как многие, слишком многие начинают думать о Вас, Вы, с которым я буду обязан и решился разойтись, если Вы не откажетесь от этой системы, — Вы сами принадлежите к числу этих редких людей. И вот единственная причина моей любви к Вам, моей веры в Вас, помимо всего и моей долго-терпимости с Вами, долготерпимости, которой, однако, пришел конец. Помимо всех ваших страшных недостатков и недомыслей, я признал и продолжаю признавать в Вас человека умного, сильного, энергичного, способного к холодному расчету, хотя по неопытности и по незнанию и часто ложному разумению, совершенно отрешенного от себя и страстно и всецело преданного и отдавшегося делу народного освобождения. Бросьте Вы свою систему, и Вы сделаетесь человеком драгоценным; если Вы не захотите бросить ее, Вы сделаетесь несомненно деятелем вредным и в высшей степени разрушительным не для государства, а для дела свободы. Но я крепко надеюсь на то, что все последние происшествия в России и за границею открыли Вам глаза и что Вы захотите, поймете необходимость подать нам руку на искренних основаниях. Тогда, повторю еще, мы Вас признаем за драгоценного человека и с радостью признаем Вас за своего предводителя по всем русским делам. Но если Вы таковы, то, без сомнения, найдутся в России по крайней мере десять человек, подобных Вам. Если они не отысканы, поищите и найдете и заложите с нами новое общество…
Итак, вообразите себе Народное братство для целой России, состоящее из 40, много из 70 членов. Потом несколько сотен членов второстепенной организации братьев областных, и Вы покроете действительной могучею сетью целую Россию. Штаб ваш создан, и, как сказано, в нем приготовлены вместе с строгою осторожностью и с исключением всей болтовни и всех тщеславных пустозвонных парламентских прений истина, искренность и взаимное доверие, действительная солидарность как едино морализирующие и соединяющие элементы.
Все общество составляет одно тело и прочно связанное целое, предводительствуемое ЦК и ведущее непрестанную подземную борьбу против правительства и против других обществ, или ему враждебных, или даже действующих вне его. А где война, там политика, там поневоле является необходимость насилия, хитрости и обмана.
Общества, близкие по цели к нашему обществу, должны быть принуждены к слитью с ним или, по меньшей мере, должны быть подчинены ему без своего ведома и с удалением из них всех вредных личностей; общества противные и положительно вредные должны быть расторгнуты — правительство наконец уничтожено. Всего этого одною пропагандою истины не сделаешь — необходима хитрость, дипломатия, обман. Туг место и иезуитизму, и даже опутыванию; опутывание — необходимое и великолепное средство для того, чтобы деморализовать и уничтожить врага; отнюдь не полезное средство для того, чтобы приобресть и привлечь к себе нового друга.
Итак, в основании всей нашей деятельности должен лежать этот простой закон: правда, честность, доверие между всеми братьями и в отношении к каждому человеку, который способен быть и которого Вы бы желали сделать братом; ложь, хитрость, опутывания, а по необходимости и насилие — в отношении к врагам. Таким образом Вы будете морализировать, укреплять, теснее связывать своих и расторгать связи и разрушать силы других.
Вы же, мой милый друг, — и в этом состоит главная, громадная ошибка, — Вы увлеклись системою Лойолы и Макиавелли, из которых первый предполагал обратить в рабство целое человечество, а другой создать могущественное государство, все равно монархическое или республиканское, следовательно, — также народное рабство, — влюбившись в полицейски-иезуитские начала и приемы, вздумали основать на них свою собственную организацию, свою тайную коллективную силу, так сказать душу, и душу всего вашего общества, — вследствие чего поступаете с друзьями, как с врагами, хитрите с ними, лжете, стараетесь их разрознить, даже поссорить между собою, дабы они не могли соединиться против вашей опеки, ищете силы не в их соединении, а разъединении и, не доверяя им нисколько, стараетесь заручиться против них фактами, письмами, нередко Вами без права прочитанными или даже уворованными, и вообще их всеми возможными способами опутать так, чтобы они были в рабской зависимости у Вас. И к тому же Вы делаете это так неуклюже, так., так неловко и неосторожно, так опрометчиво и необдуманно, что все ваши обманы, коварства и хитрости в самое короткое время выходят наружу. Вы так влюбились в иезуитизм, что забыли все другое, забыли даже ту цель, то страстное желание народного освобождения, которые привели Вас к нему. Вы так влюбились в иезуитизм, что готовы проповедовать необходимость его всякому, даже Жуковскому, хотели даже печатать о нем, пополнить его теориями "Колокол" — как бы в пословицу Суворова: "Помилуй Бог, тот не хитер, про которого все знают, что он хитер". Одним словом, Вы стали играть в иезуитизм, как ребенок в цац-ку, как Утин в Революцию…"
Впервые это письмо было опубликовано только в 1966 году. Достоевский, разумеется, не мог его знать. Но его содержание перекликалось с материалами процесса нечаевцев, а потом и самого Нечаева. Писатель очень точно передал в Верховенском особенность, подмеченную Бакуниным и типичную для многих революционеров. Это — влюбленность в макиавеллиевские приемы ведения борьбы, которые порой становятся для них самоцелью. Сама конспирация и революция делаются целью, а не средством, революционеры упиваются властью, которую они приобретают над другими — над своими соратниками или над всем народом, в случае победы революции.
Достоевский видел Бакунина на конгрессе "Лиги мира и свободы", открывшемся в Женеве 9 сентября 1867 года. Вот как запечатлел выступление Бакунина 10 сентября Григорий Николаевич Вырубов, представлявший на конгрессе Францию: "…Бакунин произнес блестящую речь, которая, как всегда, имела шумный успех. Если оратором считать того, кто удовлетворяет требованиям литературно образованной публики, изящно владеет языком и в речах которого всегда можно найти начало, середину и конец, как поучал Аристотель, — Бакунин не был оратором, но он был великолепным народным трибуном, умение говорить массам постиг в совершенстве и, что всего замечательнее, говорил им одинаково убедительно на разных языках. Его величавая фигура, энергичные жесты, искренний, убежденный тон, короткие, как бы топором вырубленные фразы — все это производило сильное впечатление". В этот день на конгрессе присутствовал Достоевский с женой, и речь Бакунина они слышали.
На конгрессе Бакунин заявил: "Вступая на эту трибуну, я спрашиваю себя, граждане: каким образом я, русский, являюсь среди этого международного собрания, имеющего задачей заключить союз между народами? Едва четыре года прошло с тех пор, как русская империя, которой я, правда, всенепокорнейший — подданный, возобновила свои преступления и убийства над героической Польшей, которую она продолжает давить и терзать, но которую, к счастью для всего человечества, для Европы, для всего славянского племени и для самих народов русских, ей не удается убить.
Вот почему, не заботясь о том, что подумают и скажут люди, судящие с точки зрения узкого и тщеславного патриотизма, я, русский, открыто и решительно протестовал и протестую против самого существования русской империи. Этой империи я желаю всех унижений, всех поражений, в убеждении, что ее успехи, ее слава были и всегда будут прямо противоположны счастью и свободе народов русских и не русских, ее нынешних жертв и рабов. Муравьев, вешатель и пытатель (и наряду с этим — двоюродный дядя Бакунина. — Б. С.) не только польских, но и русских демократов, был извергом человечества, но вместе с тем самым верным, самым цельным представителем морали, целей, интересов, векового принципа русской империи, самым истинным патриотом, Сен-Жюстом и Робеспьером императорского государства, основанного на систематическом отрицании всяческого человеческого права и всякой свободы.
В положении, созданном для империи последним польским восстанием, ей остаются только два выхода: или пойти по кровавому следу Муравьева, или распасться. Середины нет, а желать цели и не желать средств — значит только обнаружить умственную и душевную трусость. Поэтому мои соотечественники должны выбирать одно из двух: или идти путем и средствами Муравьева к усилению могущества империи, или заодно с нами откровенно желать ее разрушения. Кто желает ее величия, должен поклоняться, подражать Муравьеву и, подобно ему, отвергать, давить всякую свободу. Кто, напротив, любит свободу и желает ее, должен понять, что осуществить ее может только свободная федерация провинций и народов, т. е. уничтожение империи. Иначе свобода народов, провинций и общин — пустые слова. Право федерации и отделение, то есть отступление от союза, есть абсолютное отрицание исторического права, которое мы должны отвергать, если в самом деле желаем освобождения народов.
Я довожу до конца логику поставленных мной принципов. Признавая русскую армию основанием императорской власти, я открыто выражаю желание, чтоб она во всякой войне, которую предпримет империя, терпела одни поражения. Этого требует интерес самой России, и наше желание совершенно патриотично в истинном смысле слова, потому что всегда только неудачи царя несколько облегчали бремя императорского самовластия. Между империей и нами, патриотами, революционерами, людьми свободомыслящими и жаждущими справедливости, нет никакой солидарности.
То, что справедливо относительно России, должно быть тоже справедливо относительно Европы. Сущность религиозной, бюрократической и военной централизации везде одинакова. Она цинично груба в России; прикрыта конституционной, более или менее лживой, личиной в цивилизованных странах Запада; но принцип ее все один и тот же — насилие… Горе, горе нациям, вожди которых вернутся победоносными с полей битв! Лавры и ореолы превратятся в цепи и оковы для народов, которые вообразят себя победителями.
Эти принципы, истинные начала справедливости и свободы, должны быть непременно провозглашены именно теперь, когда недостаток принципов деморализует умы, расслабляет характеры и служит опорами всем реакциям и всем деспотизмам. Если мы в самом деле желаем мира между нациями, мы должны желать международной справедливости. Стало быть, каждый из нас должен возвыситься над узким, мелким патриотизмом, для которого своя страна — центр мира, который свое величие полагает в том, чтобы быть страшным соседям. Мы должны поставить человеческую, всемирную справедливость выше всех национальных интересов. Мы должны раз навсегда покинуть ложный принцип национальности, изобретенный в последнее время деспотами Франции, России и Пруссии для вернейшего подавления принципа свободы. Национальность не принцип: это — законный факт, как индивидуальность. Всякая национальность, большая или малая, имеет несомненное право быть сама собой, жить по своей собственной натуре. Это право есть лишь вывод из общего принципа свободы.
Всякий, искренно желающий мира и международной справедливости, должен раз навсегда отказаться от всего, что называется славой, могуществом, великим отечеством, от всех эгоистических и тщеславных интересов патриотизма. Пора желать абсолютного царства свободы внутренней и внешней…
Всякое централизованное государство, каким бы либеральным оно ни заявлялось, хотя бы даже носило республиканскую форму, по необходимости — угнетатель, эксплуататор народных рабочих масс в пользу привилегированного класса. Ему необходима армия, чтобы сдерживать эти массы, а существование этой силы подталкивает его к войне. Отсюда я вывожу, что международный мир невозможен, пока не будет принят со всеми своими последствиями следующий принцип: всякая нация, слабая или сильная, малочисленная или многочисленная, всякая провинция, всякая община имеет абсолютное право быть свободной, автономной, жить и управляться согласно своим интересам, своим частным потребностям, и в этом праве все общины, все нации до того солидарны, что нельзя нарушить его относительно одной, не подвергая его этим самым опасности во всех остальных.
Всеобщий мир будет невозможен, пока существуют нынешние централизованные государства. Мы должны, стало быть, желать их разложения, чтобы на развалинах этих единств, организованных сверху донизу деспотизмом и завоеванием, могли развиться единства свободные, организованные снизу вверх свободной федерацией общин — в провинцию провинций — в нацию наций — в Соединенные Штаты Европы".
Карикатурным воплощением этой речи Бакунина в "Братьях Карамазовых" звучит монолог Смердякова о том, что "в двенадцатом году было на Россию великое нашествие императора Наполеона французского первого, отца нынешнему, и хорошо, кабы нас тогда покорили эти самые французы: умная нация покорила бы весьма глупую-с и присоединила к себе.
Совсем даже были бы другие порядки-с".
Но, конечно же, Бакунин послужил прототипом не только Смердякова (в очень малой степени), но и, что гораздо важнее, Ставрогина, "главного беса". Не случайно у Николая Всеволодовича прописана прямая связь с Швейцарией: он гражданин швейцарского кантона Ури и именно оттуда прибыл в Россию.
Кстати сказать, Ставрогин говорит, что, как и Герцен, "записался в граждане кантона Ури". Это отражает подлинный факт. Александр Иванович Герцен, лишенный в 1851 году всех прав состояния за антиправительственную деятельность и потерявший возможность вернуться в Россию, принял швейцарское подданство, став гражданином одного из кантонов, только не Ури, а Фрейбург.
А. Г. Достоевская вспоминала: "Интересуясь конгрессом мира, мы пошли на второе его заседание и часа два слушали речи ораторов. От этих речей Федор Михайлович вынес тягостное впечатление".
В письме к С. А. Ивановой 29 сентября 1867 года он так описывает происходившее: "Я сюда попал прямо на конгресс мира, на который приезжал Гарибальди. Гарибальди скоро уехал, но что эти господа, которых я в первый раз видел не в книгах, а наяву, социалисты и революционеры, врали с трибуны, перед 5.000 слушателей, то невыразимо. Никакое описание не передаст этого. Комичность, слабость, бестолковщина, несогласие, противоречие себе? это вообразить нельзя. И эта-то дрянь волнует несчастный люд работников. Это грустно. Начали с того, что для достижения мира на земле нужно истребить христианскую веру, большие государства уничтожить и поделать маленькие, все капиталы прочь, чтобы все было по приказу и тд. Все это без малейшего доказательства, все это заучено еще двадцать лет тому назад наизусть, да так и осталось. И главное — огонь и меч, и после того как все истребится, тогда, по их мнению, и будет мир".
Сходная характеристика дана конгрессу и в письме Достоевского А. П. Майкову: "Писал ли я Вам о здешнем мирном конгрессе? Я в жизнь мою не видывал и не слыхивал подобной бестолковщины, но я не предполагал, чтоб люди были способны на такие глупости. Все было глупо: и то, как собрались, и то, как дело повели, и то, как разрешили. Начали с предложения вотировать, что не нужно больших монархий и все поделать маленькие, потом, что не нужно веры. Это было четыре дня крику и ругательств. Подлинно мы у себя, читая и слушая рассказы, видим все превратно. Нет, посмотрели бы своими глазами, послушали бы своими ушами".
О Бакунине же в подготовительных материалах к "Бесам" Достоевский отозвался и вовсе не парламентски: "Бакунин — старый, гнилой мешок бредней. Ему легко детей хоть в нужнике топить". Эти слова вложены в уста "Грановского" — так по имени прототипа назывался в подготовительных материалах Степан Тимофеевич Верховенский.
Этот комментарий явно относится к речи Бакунина. Федор Михайлович не принимал идею федерализации, проповедуемую Бакуниным, его отвержение религии и готовность неограниченно использовать во имя торжества революции.
Бакунин также утверждал в своей речи на женевском конгрессе "Кабе, Луи Блан, фурьеристы, сен-си-монисты — все были одержимы страстью выдумывать и устраивать будущее, все были более или менее государственники". Это место спародировано во "вступительном слове" Шигалева: "Посвятив мою энергию на изучение вопроса о социальном устройстве будущего общества, которым заменится настоящее, я пришел к убеждению, что все созидатели социальных систем, с древнейших времен до нашего 187… года, были мечтатели, сказочники, глупцы, противоречившие себе, ничего ровно не понимавшие в естественной науке и в том странном животном, которое называется человеком. Платон, Руссо, Фурье, колонны из алюминия — все это годится разве для воробьев, а не для общества человеческого".
Правда, исследователи до сих пор спорят, на каком именно заседании конгресса Лиги мира и свободы присутствовали Достоевские. Дело в том, что в мемуарах Анна Григорьевна написала, что они посетили второе заседание конгресса, состоявшееся 10 сентября, на котором как раз и выступал Бакунин, а в ее дневнике 1867 года это событие как будто отнесено к третьему заседанию, 11 сентября, на котором Бакунин не выступал. Но даже если последняя версия и соответствует действительности, то Достоевский, несомненно, узнал содержание речи Бакунина от Огарева и наверняка заметил колоритную фигуру Бакунина. И в любом случае можно не сомневаться, что резкая характеристика Бакунина, данная Достоевским в подготовительных материалах к "Бесам", была вызвана именно знакомством с выступлением Бакунина на конгрессе.
Сведения о взглядах Бакунина Достоевский мог также получить из статьи Г. де Молинари "Международные конгрессы", опубликованной в 1868 году в "Русском вестнике". Автор статьи утверждал: "Уже в "программе русской социалистской демократии", напечатанной в газете "Народность", выходящей в Женеве на русском языке, г. Бакунин высказал содержание мешка коллективизма или нигилизма. Во-первых, мы находим в ней упразднение права наследства, что недурно для начала; затем мы находим там, как естественное следствие предыдущего, упразднение брака и предоставление попечению общества, сделавшегося всеобщею кормилицею и всеобщим педагогом, содержание детей… наконец, мы находим там упразднение религии и разрушение государства, "радикальное искоренение его со всеми его учреждениями церковными, политическими и гражданскими, университетскими и финансовыми, военными и бюрократическими".
2 ноября 1872 года под влиянием вести об аресте в Цюрихе Нечаева и выдачи его русскому правительству Бакунин писал Н. П. Огареву:
"Несчастного Нечаева республика выдала. Что грустнее всего, это то, что по этому случаю наше правительство, без сомнения, возобновит Нечаевский процесс и будут новые жертвы. Впрочем, какой-то внутренний голос мне говорит, что Нечаев, который погиб безвозвратно и без сомнения знает, что он погиб, на этот раз вызовет из глубины своего существа, запутавшегося, загрязнившегося, но далеко не пошлого, всю свою первобытную энергию и доблесть. Он погибнет героем и на этот раз ничему и никому не изменит. Такова моя вера! Увидим скоро, прав ли я".
Действительно, Нечаев и в крепости не прекратил своей деятельности. Он сумел распропагандировать команду Алексеевского равелина и подготовить побег, который, однако, не удался. Об этом мы подробно расскажем далее.
Письма Бакунина говорят и об имевшихся между Бакуниным и Нечаевым разногласиях. Бакунин, после того как деятельность Нечаева приобрела скандальную огласку, предлагал последнему обратить внимание на нравственную сторону дела, о которой прежде не слишком задумывался: "Общий братский контроль всех над каждым, контроль отнюдь не привязчивый, не мелочный, а главное не злостный, должен заменить вашу систему иезуитского контролирования и должен сделаться нравственным воспитанием и опорою для нравственной силы каждого члена; основанием взаимной братской веры, на которой зиждется вся внутренняя, а потому и внешняя сила общества". Однако Бакунин в значительной степени был ответствен за нечаевские действия в России. Мандат, данный Бакуниным, обеспечил ему самый теплый прием среди русской революционно настроенной молодежи.
Уже разуверившись в Нечаеве, Бакунин настойчиво пытался вытащить его из "грязи" и, лишь исчерпав все возможности, отрекся от непокорного "ученика".
Вот — текст "Катехизиса революционера", составленного Бакуниным и отредактированного Нечаевым. Он содержит многие бесспорно бакунинские мысли. Однако многие "правила" "Катехизиса", вошедшие в понятие "нечаевщины", были продиктованы Бакунину Нечаевым.
"Катехизис революционера" был отпечатан в Женеве летом 1869 года без заглавия. Заглавие было дано ему во время процесса 1871 года:
"Отношение революционера к самому себе.
№ 1. Революционер — человек обреченный. У него нет ни своих интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным интересом, единою мыслью, единою страстью — революцией.
№ 2. Он в глубине своего существа, не на словах только, а на деле, разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным миром, и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями, нравственностью этого мира. Он для него — враг беспощадный, и если он продолжает жить в нем, то для того только, чтоб его вернее разрушить.
№ 3. Революционер презирает всякое доктринерство и отказался от мирной науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну науку, науку разрушения. Для этого, и только для этого, он изучает теперь механику, физику, химию, пожалуй, медицину. Для этого изучает он денно и нощно живую науку людей, характеров, положений и всех условий настоящего общественного строя, во всех возможных слоях. Цель же одна — наискорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого строя.
№ 4. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во всех ея побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству революции.
Безнравственно и преступно все, что мешает ему.
№ 5. Революционер — человек обреченный. Беспощадный для государства и вообще для всего со-словно-образованного общества, он и от них не должен ждать для себя никакой пощады. Между ними и им существует тайная или явная, но непрерывная и непримиримая война на жизнь и на смерть. Он каждый день должен быть готов к смерти. Он должен приучить себя выдерживать пытки.
№ 6. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодною страстью революционного дела. Для него существует только одна нега, одно утешение, вознаграждение и удовлетворение — успех революции. Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель — беспощадное разрушение. Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен быть всегда готов и сам погибнуть и погубить своими руками все, что мешает ея достижению.
№ 7. Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм, всякую чувствительность, восторженность и увлечение. Она исключает даже личную ненависть и мщение. Революционерная страсть, став в нем обыденностью, ежеминутностью, должна соединиться с холодным расчетом. Всегда и везде он должен быть не то, к чему его побуждают влечения личные, а то, что предписывает ему общий интерес революции.
Отношение революционера к товарищам по революции.
№ 8. Другом и милым человеком для революционера может быть только человек, заявивший себя на деле таким же революционерным делом, как и он сам. Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к такому товарищу определяется единственно степенью полезности в деле всеразрушительной практической революции.
№ 9.0 солидарности революционеров и говорить нечего. В ней вся сила революционного дела. Товарищи-революционеры, стоящие на одинаковой степени революционного понимания и страсти, должны, по возможности, обсуждать все крупные дела вместе и решать их единодушно. В исполнении таким образом решенного плана каждый должен рассчитывать, по возможности, на себя. В выполнении ряда разрушительных действий каждый должен делать сам и прибегать к совету и помощи товарищей только тогда, когда это для успеха необходимо.
№ 10. У каждого товарища должно быть под рукою несколько революционеров второго и третьего разрядов, то есть не совсем посвященных. На них он должен смотреть, как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение. Он должен экономически тратить свою часть капитала, стараясь всегда извлечь из него наибольшую пользу. На себя он смотрит, как на капитал, обреченный на трату для торжества революционного дела. Только как на такой капитал, которым он сам и один, без согласия всего товарищества вполне посвященных, распоряжаться не может.
№ 11. Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос, спасать его или нет, революционер должен соображаться не с какими-нибудь личными чувствами, но только с пользою революционного дела. Поэтому он должен взвесить пользу, приносимую товарищем, — с одной стороны, а с другой — трату революционных сил, потребных на его избавление, и на которую сторону перетянет, так и должен решить.
Отношение революционера к обществу.
№ 12. Принятие нового члена, заявившего себя не на словах, а на деле, товариществом не может быть решено иначе, как единодушно.
№ 13. Революционер вступает в государственный, сословный и так называемый образованный мир и живет в нем только с целью его полнейшего, скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему чего-нибудь жаль в этом мире. Если он может остановиться перед истреблением положения, отношения или какого-либо человека, принадлежащего к этому миру, в котором — все и все должны быть ему равно. ненавистны.
Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, дружеские или любовные отношения; он не революционер, если они могут остановить его руку.
№ 14. С целью беспощадного разрушения революционер может, и даже часто должен, жить в обществе, притворяясь совсем не тем, что он есть. Революционеры должны проникнуть всюду, во все слои высшия и средние, в купеческую лавку, в церковь, в барский дом, в мир бюрократский, военный, в литературу, в Третье отделение и даже в Зимний дворец.
№ 15. Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько категорий. Первая категория — неотлагаемо осужденных на смерть. Да будет составлен товариществом список таких осужденных по порядку их относительной зловредности для успеха революционного дела, так, чтобы предыдущие номера убрались прежде последующих.
№ 16. При составлении такого списка и для установления вышереченного порядка должно руководствоваться отнюдь не личным злодейством человека, ни даже ненавистью, возбуждаемой им в товариществе или в народе.
Это злодейство и эта ненависть могут быть даже отчасти и премного полезными, способствуя к возбуждению народного бунта. Должно руководствоваться мерою пользы, которая должна произойти от его смерти для революционного дела. Итак, прежде всего должны быть уничтожены люди, особенно вредные для революционной организации, и такие, внезапная и насильственная смерть которых может навести наибольший страх на правительство и, лишив его умных и энергических деятелей, потрясти его силу.
№ 17. Вторая категория должна состоять именно из тех людей, которым даруют только временно жизнь, дабы они рядом зверских поступков довели народ до неотвратимого бунта.
№ 18. К третьей категории принадлежит множество высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся ни особенным умом и энергиею, но пользующихся по положению богатством, связями, влиянием и силою. Надо их эксплуатировать всевозможными манерами и путями; опутать их, сбить их с толку и, овладев, по возможности, их грязными тайнами, сделать их своими рабами. Их власть, влияние, связи, богатство и сила сделаются таким образом неистощимой сокровищницею и сильною помощью для разных революционных предприятий.
№ 19. Четвертая категория состоит из государственных честолюбцев и либералов с разными оттенками. С ними можно конспирировать по их программам, делая вид, что слепо следуешь за ними, а между тем прибрать их в руки, овладеть всеми их тайнами, скомпрометировать их донельзя, так чтоб возврат был для них невозможен, и их руками и мутить государство.
№ 20. Пятая категория — доктринеры, конспираторы и революционеры в праздноглаголющих кружках и на бумаге.
Их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед, в практичные головоломныя заявления, результатом которых будет бесследная гибель большинства и настоящая революционная выработка немногих.
№ 21. Шестая и важная категория — женщины, которых должно разделить на три главных разряда.
Одне — пустые, обессмысленные и бездушные, которыми можно пользоваться, как третьею и четвертою категориею мужчин.
Другие — горячие, преданные, способные, но не наши, потому что не доработались еще до настоящего бесфразного и фактического революционного понимания. Их должно употреблять, как мужчин пятой категории.
Наконец, женщины совсем наши, то есть вполне посвященные и принявшие всецело нашу программу. Они нам товарищи. Мы должны смотреть на них, как на драгоценнейшее сокровище наше, без помощи которых нам обойтись невозможно.
Отношение товарищества к народу.
№ 22. У товарищества ведь нет другой цели, кроме полнейшего освобождения и счастья народа, то есть чернорабочего люда. Но, убежденные в том, что это освобождение и достижение этого счастья возможно только путем всесокрушающей народной революции, товарищество всеми силами и средствами будет способствовать к развитию и разобщению тех бед и тех зол, которые должны вывести, наконец, народ из терпения и побудить его к поголовному восстанию.
№ 23. Под революциею народною товарищество разумеет не регламентированное движение по западному классическому образу — движение, которое, всегда останавливаясь с уважением перед собственностью и перед традициями общественных порядков так называемой цивилизации и нравственности, до сих пор ограничивалось везде низложением одной политической формы для замещения ее другою и стремилось создать так называемое революционное государство. Спасительной для народа может быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую государственность и истребит все государственные традиции, порядки и классы в России.
№ 24. Товарищество поэтому не намерено навязывать народу какую бы то ни было организацию сверху. Будущая организация без сомнения вырабатывается из народного движения и жизни. Но это — дело будущих поколений. Наше дело — страстное, полное, повсеместное и беспощадное разрушение.
№ 25. Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени основания московской Государственной силы не переставали протестовать не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с государством: против дворянства, против чиновничества, против попов, против гилдейского мира и против кулака-мироеда. Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и единственным революционером в России.
№ 26. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всесокрушающую силу — вот вся наша организация, конспирация, задача".
Этот любопытнейший документ, своеобразная квинтэссенция "бесовства", в значительной мере повлиял на соответсвующих персонажей в романе Достоевского. Разбойничью стихию, которую Верховенский по совету Ставрогина должен использовать в интересах революции, олицетворяет в "Бесах" уголовник Федька Каторжный, бывший крепостной Степана Трофимовича Верховенского. Он убивает по приказу Петра Верховенского брата и сестру Лебядкиных, поджигает Шпигулинскую фабрику. Но когда он пробует шантажировать своего хозяина "Петрушу", то быстро отправляется на тот свет. Федор Михайлович предвидел, что разбойничья стихия может выйти у нигилистов из повиновения, и тогда с ней поступят куда жестче, чем при царском правительстве. Прототипом Федьки Каторжного послужил разбойник Александр Кулешов (Кулишов), узник Омского острога, осужденный за убийство к бессрочной каторге. В "Записках из Мертвого дома" он выведен под именем Куликова.
Интересно, что Достоевский как бы предсказал раскаяние Бакунина в Верховенском, хотя, конечно, и не столь глубокое, как у литературного Ставрогина. Николай Всеволодович, как Иуда, повесился, осознав, что вызвал к жизни бесов, которых не сумел обуздать, и совершил преступления, которым нет прощения. Бакунин же от своих взглядов не отступил, хотя порой сомневался в исполнителях им предначертанного.
В статье "Главные основы будущего общественного строя" (1870) Нечаев утверждал: "Все юридические, сословные права, обязанности и институции, освященные религиозными бреднями, не имеют места при новом строе рабочей жизни. Мужчина и женщина… будучи производительным работником, могут быть свободны во всех отношениях… Отношения между полами совершенно свободные". Он также считал, что в коммунистическом обществе должен господствовать принцип "производить для общества как можно более и потреблять как можно меньше". В той же статье проводилась мысль о том, что при коммунизме труд будет обязателен для каждого члена общества под угрозой смерти, а всеми делами распоряжается никому не подотчетный и никому не известный комитет, принудительно регламентирующий все человеческие отношения в обществе. Маркс и Энгельс назвали строй, предлагаемый Нечаевым, "казарменным коммунизмом", и именно такой строй был воплощен в жизнь, где более жестко, а где помягче, в Советском Союзе и так называемых "социалистических странах".
Нечаев настаивал: "Любить народ— значит вести его под картечь"; "Выход из существующего общественного порядка и обновление жизни новыми началами может совершиться только путем сосредоточения всех средств… в руках нашего комитета и объявлением обязательной для всех физической работы".
Достоевский в "Бесах" как бы "реализует" все теоретические пункты "Катехизиса". Деятельность Петра Верховенского и других "бесов" по организации беспорядков, хаоса в городе, хладнокровная и циничная эксплуатация в этих целях "либеральствующей" губернаторши Юлии Михайловны, ее недалекого мужа Лембке, заигрывающего с молодым поколением писателя Кармазинова, компрометация и опутывание сплетнями и интригами городских обывателей, использование уголовных элементов, поджоги, убийства, скандалы, богохульства — все это как бы иллюстрирует положения "Катехизиса".
Л. П. Гроссман отметил, что как Бакунину, так и Ставрогину свойствен "культ России, воинствующий атеизм, всеобщее разрушение" и совпадение гибельной гипертрофии интеллекта у Ставрогина со свидетельствами Анненкова, Белинского и Герцена об исключительной рассудочности Бакунина.
"Из меня вылилось одно отрицание — без всякого великодушия, без всякой силы", — писал Ставрогин в предсмертном письме.
Шатова Николай Всеволодович учил любви к Богу, а Кириллова заразил атеизмом. Бакунин же в молодости был религиозен, целыми страницами выписывал цитаты из Евангелий, а потом превратился в фанатичного богоборца.
Бакунин утверждал: "Если Бог — все, то реальный мир и человек есть ничто. Если Бог — истина, справедливость и бесконечная жизнь, то человек — ложь, несправедливость и смерть. Если Бог господин, то человек — раб". "Бог существует, значит, человек — раб".
"Человек разумен, справедлив, свободен — значит, Бога нет".
Петр Верховенский убеждает Ставрогина, что атеизм — один из важнейших питательных источников бунта: "Вот еще анекдотик: тут по уезду пехотный полк. В пятницу вечером я в Б-цах с офицерами пил. Там ведь у нас три приятеля, vous comprenez? Об атеизме говорили и уж, разумеется, Бога раскассировали. Рады, визжат. Кстати, Шатов уверяет, что если в России бунт начинать, то чтобы непременно начать с атеизма. Может, и правда. Один седой бурбон капитан сидел, сидел, все молчал, ни слова не говорил, вдруг становится среди комнаты и, знаете, громко так, как бы сам с собой: "Если Бога нет, то какой же я после того капитан?" Взял фуражку, развел руки и вышел".
Вероятно, знаменитая фраза "если Бога нет, то какой же я после того капитан?", вложенная в "Бесах" в уста "седого бурбона капитана", восходит к словам Марка Аврелия: "Если боги существуют, то выбыть из числа людей вовсе нестрашно: ведь боги, не ввергнут тебя во зло. Если же богов не существует или им нет дела до людей, то что за смысл мне жить в мире, где нет богов или нет промысла? Но боги существуют…"
В этом в конце концов уверился и Шатов, ставший жертвой "друга Петруши", но всю жизнь колебавшийся между верой и атеизмом.
Таких колебаний, как известно, не избег и Достоевский. Вот замечательный спор Шатова с Ставрогиным, имевший для Достоевского явно автобиографический характер:
"— Если бы веровали? — вскричал Шатов, не обратив ни малейшего внимания на просьбу. — Но не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной? Говорили вы это? Говорили?
— Но позвольте же и мне наконец спросить, — возвысил голос Ставрогин, — к чему ведет весь этот нетерпеливый и… злобный экзамен?
— Этот экзамен пройдет навеки и никогда больше не напомнится вам.
— Вы все настаиваете, что мы вне пространства и времени…
— Молчите! — вдруг крикнул Шатов, — я глуп и неловок, но погибай мое имя в смешном! Дозволите ли вы мне повторить пред вами всю главную вашу тогдашнюю мысль… О, только десять строк, одно заключение.
— Повторите, если только одно заключение…
Ставрогин сделал было движение взглянуть на часы, но удержался и не взглянул.
Шатов принагнулся опять на стуле и, на мгновение, даже опять было поднял палец.
— Ни один народ, — начал он, как бы читая по строкам и в то же время продолжая грозно смотреть на Ставрогина, — ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума; не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости. Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил, с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно. Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит писание, "реки воды живой", иссякновением которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отожествляют они же. "Искание Бога", как называю я всего проще. Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера в него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий Бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог. Никогда еще не было народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы, и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро, или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивал; наука же давала разрешения кулачные. В особенности этим отличалась полунаука, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, не известный до нынешнего столетия. Полунаука — это деспот, каких еще не приходило до сих пор никогда. Деспот, имеющий своих жрецов и рабов, деспот, пред которым все преклонилось с любовью и суеверием, до сих пор немыслимым, пред которым трепещет даже сама наука и постыдно потакает ему. Все это ваши собственные слова, Ставрогин, кроме только слов о полунауке; эти мои, потому что я сам только полунаука, а стало быть, особенно ненавижу ее. В ваших же мыслях и даже в самых словах я не изменил ничего, ни единого слова".
В этих словах Шатова в несколько измененном виде повторена мысль Достоевского о своем символе веры, выраженная им в письме к НД. Фонвизиной от конца января — 20-х чисел февраля 1854 г.: "Я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше бы хотелось бы остаться со Христом, нежели с истиной".
Кириллов в "Бесах" исповедует сходные взгляды: "Если Бог есть, то вся воля его, и без воли его я не могу. Если нет, то вся воля моя, и я обязан заявить своеволие".
Сочувствующий "бесам" писатель Кармазинов, прототипом которого послужил нелюбимый Достоевским И. С. Тургенев, произносит в разговоре с Верховенским-младшим монолог о "чести", вполне соответствующий взглядам Бакунина, Нечаева и их последователей: "Эта способность смотреть истине прямо в лицо принадлежит одному только русскому поколению. Нет, в Европе еще не так смелы: там царство каменное, там еще есть на чем опереться. Сколько я вижу и сколько судить могу, вся суть русской революционной идеи заключается в отрицании чести. Мне нравится, что это так смело и безбоязненно выражено. Нет, в Европе еще этого не поймут, а у нас именно на это-то и набросятся. Русскому человеку честь одно только лишнее бремя. Да и всегда было бременем, во всю его историю. Открытым "правом на бесчестье" его скорей всего увлечь можно. Я поколения старого, и, признаюсь, еще стою за честь, но ведь только по привычке. Мне лишь нравятся старые формы, положим по малодушию; нужно же как-ни-будь дожить век".
Здесь Достоевский обыграл фразу из первого "Издания Общества Народной расправы": "Мы из народа, со шкурой, прохваченной зубами современного устройства, руководимые ненавистью ко всему ненародному, не имеющие понятия о нравственных обязанностях и чести по отношению к тому миру, который ненавидим и от которого ничего не ждем, кроме зла". Позднее, в мартовском выпуске "Дневника писателя за 1876 год", говоря о "либеральных отцах" современной ему молодежи, Достоевский отмечал, что "в большинстве это все-таки была лишь грубая масса мелких безбожников и крупных бесстыдников, в сущности тех же хапуг и "мелких тиранов", но фанфаронов либерализма, в котором они ухитрились разглядеть лишь право на бесчестье".
Стоит отметить, что в отдельном издании Достоевский смягчил кое-какие выпады в адрес Кармазинова — Тургенева. Например, убрал относящуюся к "великому писателю" совершенно убийственную фразу: "Я готов сейчас же продать всю Россию за два пятака, только хвалите меня".
Но, тем не менее, вплоть до конца жизни Федор Михайлович остался об Иване Сергеевиче весьма дурного мнения и не скрывал своего иронического к нему отношения. Вот как Е. Н. Опочинин передает свой разговор с Достоевским о Тургеневе, состоявшийся 19 декабря 1879 года: "Федор Михайлович Достоевский. Наружность незначительная: немного сутуловат; волосы и борода рыжеваты, лицо худое, с выдавшимися скулами; на правой щеке бородавка. Глаза угрюмые, временами мелькает в них подозрительность и недоверчивость, но большею частью видна какая-то дума и будто печаль. В разговоре временами взор загорается, а иногда и грозит (разговор о Тургеневе). "Он всю мою жизнь дарил меня своей презрительной снисходительностью, а за спиной сплетничал, злословил и клеветал".
Потом дальше: "Он (то есть Иван Сергеевич), по самой своей натуре, сплетник и клеветник Знаете, в помещичьем кругу такие бывали: воспитывались они среди наушничества угодливых лакеев и приживальщиков, и обо всех, кто на них не был похож, судили злобно и враждебно. Довольно было, чтоб человек был лучше того, кто о нем судил, чтобы на него упала целая стена клеветы. А этот, кроме всех унаследованных качеств этого круга людей, еще и безмерно мелкодушен: ему надо всем нравиться, надо, чтобы все его хвалили и превозносили — и у нас, и за границей. Для этого и к Флоберу пролез, и ко многим другим. Ну, а для публики такая дружба хороший козырь. "Я-де европейский писатель, не то что другие мои соотечественники, — дружен, мол, с самим Флобером". А посмотрел бы я и послушал, как он с газетчиками и журналистами заграничными разговаривает! Чего, чего на себя не напускает: и простодушия-то и незлобивости, — "никого, мол, я судить не могу и не умею; я, мол, сама искренность и неисчерпаемая доброта". Какая, подумаешь, купель добродетели! А в душе-то на самом деле гнездится мелкая злоба и страшное высокомерие.
У таких людей нет суда вровень с собой для человека. Они не могут судить по правде, а лишь снисходят, обидно и оскорбительно снисходят. Они никого не любят, а если говорят кому, что любят, то врут и притворяются. На самом деле они только стараются показать, что любят: нате, мол, смотрите, я снизошел до любви. И делают это они лишь напоказ, ибо знают, что любовь красива и вызывает сочувствие, а оно им необходимо. По-настоящему, у них и родины, отечества нет; они космополиты, граждане вселенной. Может быть, это и высоко, и хорошо, — только не надо бы им сюсюкать над родиной напоказ. А послушать, как распоется такой вселенский гражданин, так какое хочешь черствое сердце тронет: тут тебе и ширь, и даль синяя, и леса, и степи… И все это со вздохом, со слезой. Или мужиков станет описывать: милее какого-нибудь Калиныча для него и на свете нет. А маменька его (Ивана Сергеевича), чай, не мало раз порола этих Калинычей, и Хорей, и Ермолаев и драла с них по семи шкур. Да и сам-то Тургенев не отказался бы от этого удовольствия, — только положение его не таково, нельзя себе этого было позволить, когда и можно было "гулять на всей барской воле".
А талантом его Бог не обидел: может и тронуть, и увлечь. Но все-таки даже и в самых молодых и как будто бы искренних его вещах чувствуется как бы преднамеренность, какая-то холодная снисходительность. Чувствуется, что он совсем не любит того, кого столь трогательным образом описывает. Словно игра одна актерская: "смотрите, мол, как я умею чувствовать". Даже и слезами иногда разольется".
По словам Опочинина, "Федор Михайлович говорил, сильно нервничая, то двигая как бы непроизвольно руками, то передвигая бумаги на столе. Только под конец, несмотря на произносимые едкие слова, он говорил довольно плавно и спокойно, но с губ его не сходила ироническая усмешка".
В "Бесах" спародирована и иерархия, господствующая в "Народной расправе", последовательно проводимое Нечаевым и Бакуниным деление общества на различные категории, подлежащие либо уничтожению, либо использованию в качестве материала для достижения главной цели, а также маниакальная страсть революционеров к секретности и конспирации. Вот характерный диалог "главных бесов" Ставрогина и Петра Верховенского: "Петр Степанович, конечно, знал, что рискует, пускаясь в такие выверты, но уж когда он сам бывал возбужден, то лучше желал рисковать хоть на все, чем оставлять себя в неизвестности. Николай Всеволодович только рассмеялся.
— А вы все еще рассчитываете мне помогать? — спросил он.
— Если кликнете. Но знаете, что есть один самый лучший путь?
— Знаю ваш путь.
— Ну нет, это покамест секрет. Только помните, что секрет денег стоит.
— Знаю сколько и стоит, — проворчал про себя Ставрогин, но удержался и замолчал.
— Сколько? что вы сказали? — встрепенулся Петр Степанович.
— Я сказал: ну вас к черту и с секретом! Скажите мне лучше, кто у вас там? Я знаю, что мы на именины идем, но кто там именно?
— О, в высшей степени всякая всячина! Даже Кириллов будет.
— Все члены кружков?
— Черт возьми, как вы торопитесь! Тут и одного кружка еще не состоялось.
— Как же вы разбросали столько прокламаций?
— Там, куда мы идем, членов кружка всего четверо. Остальные, в ожидании, шпионят друг за другом взапуски и мне переносят. Народ благонадежный. Все это материал, который надо организовать, да и убираться. Впрочем, вы сами устав писали, вам нечего объяснять.
— Что ж, трудно, что ли, идет? Заколодило?
— Идет? Как не надо легче. Я вас посмешу: первое что ужасно действует — это мундир. Нет ничего сильнее мундира. Я нарочно выдумываю чины и должности: у меня секретари, тайные соглядатаи, казначеи, председатели, регистраторы, их товарищи — очень нравится и отлично принялось. Затем следующая сила, разумеется, сентиментальность. Знаете, социализм у нас распространяется преимущественно из сентиментальности. Но тут беда, вот эти кусающиеся подпоручики; нет-нет да и нарвешься. Затем следуют чистые мошенники; ну эти, пожалуй, хороший народ, иной раз выгодны очень, но на них много времени идет, неусыпный надзор требуется. Ну и, наконец, самая главная сила — цемент, все связующий, — это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал, кто этот "миленький" трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове! За стыд почитают.
— А коли так, из чего вы хлопочете?
— А коли лежит просто, рот разевает на всех, так как же его не стибрить! Будто серьезно не верите, что возможен успех? Эх, вера-то есть, да надо хотенья. Да, именно с этакими и возможен успех. Я вам говорю, он у меня в огонь пойдет, стоит только прикрикнуть на него, что недостаточно либерален. Дураки попрекают, что я всех здесь надул центральным комитетом и "бесчисленными разветвлениями". Вы сами раз этим меня корили, а какое тут надувание: центральный комитет — я да вы, а разветвлений будет сколько угодно.
— И все этакая-то сволочь!
— Материал. Пригодятся и эти.
— А вы на меня все еще рассчитываете?
— Вы начальник, вы сила; я у вас только сбоку буду, секретарем. Мы, знаете, сядем в ладью, веселки кленовые, паруса шелковые, на корме сидит красна девица, свет Лизавета Николаевна… или как там у них, чорт, поется в этой песне…
— Запнулся! — захохотал Ставрогин. — Нет, я вам скажу лучше присказку. Вы вот высчитываете по пальцам, из каких сил кружки составляются? Все это чиновничество и сентиментальность — все это клейстер хороший, но есть одна штука еще получше: подговорите четырех членов кружка укокошить пятого, под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитою кровью как одним узлом свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать. Ха, ха, ха!
"Однако же ты… однако же ты мне эти слова дол-жен выкупить, — подумал про себя Петр Степанович, — и даже сегодня же вечером. Слишком ты много уж позволяешь себе".
Самая фамилия Кармазинов происходит от "кармазинный" (cramoisi — франц.) — темно-красный и намекает на сочувствие Тургенева "красным". Поэтому и связь Кармазинова с "бесами" кажется вполне органичной.
Достоевский, раздраженный романом Тургенева "Дым", попытался в личной беседе прояснить, как же автор относится к идее самобытности России. Но тургеневскую мысль о том, что никакого самобытного русского начала не существует, а есть только общая для всех дорога европейской цивилизации, Достоевский не принял и резко посоветовал Ивану Сергеевичу купить телескоп, чтобы лучше рассмотреть из-за границы, что же происходит на родине. Писатели так и остались во враждебных отношениях.
Как отмечал Е. Соловьев в биографическом очерке Достоевского, "в "Бесах" в лице писателя Кармазинова он потешался над Тургеневым за его "страсть изображать, например, поцелуи не так, как они происходят у всего человечества, а чтобы кругом рос дрок или какая-нибудь другая трава, о которой надо справляться в ботанике, причем и на нем должен быть непременно какой-нибудь фиолетовый оттенок, которого, конечно, никто никогда не видал, а дерево, под которым уселась интересная пара, непременно како-го-нибудь оранжевого цвета". Этот пуризм, очевидно, происходил от слишком серьезного, слишком вдумчивого отношения к жизни, которая представлялась Достоевскому как религиозная проблема прежде всего. Все равно как каждого его героя жизнь прежде всего мучает, так она мучила и его самого. Где тут описывать поцелуи интересных пар!.. Это-то уж, не-сомнению, взгляд на жизнь тяжкодума, городского пролетария".
Здесь весьма точно передан характер взаимоотношений Бакунина и Нечаева. Достоевский проницательно понял, что такие, как Петр Верховенский (Нечаев), просто используют таких, как Ставрогин (Бакунин), а потом безжалостно избавятся от них, когда минует в них необходимость. Развитие социалистических революций в XX веке вполне подтвердило прогноз Достоевского. Вспомним хотя бы сталинские чистки 20-х—30-х годов, безжалостные расправы с соратниками по партии.
Думаю, не случайно Верховенский-младший носит имя Петр. Ставрогин — это своеобразный Христос революции, отрицающий Христа евангельского. А Верховенский — это новый апостол Петр, призванный создать "церковь революции" — сеть кружков и законспирированных пятерок.
Верховенский — практик, Ставрогин — теоретик Адвокат В. Д. Спасович, послуживший прототипом адвоката Фетюковича в "Братьях Карамазовых", обсуждая вопрос о возможном авторе "Катехизиса", подчеркивал: "Нечаев был прежде всего революционер дела. Между тем в авторе катехизиса мы видим теоретика, который на досуге, вдали от дела, сочиняет революцию, графит бумагу, разделяет людей на разряды по этим графам, одних обрекает на смерть, других полагает ограбить, третьих запугать и т. д. Это чистейшая, отвлеченная теория. Я вижу в содержании этого катехизиса большое сродство, так сказать, химическое, с образом мыслей Нечаева… я полагаю, что катехизис есть эмиграционное сочинение, произведшее на Нечаева известное впечатление и принятое им во — многих частях в руководство. Яне смею приписывать его Бакунину; но во всяком случае происхождение его эмиграционное".
Достоевский пародировал эпатирующие лозунги социалистов и анархистов в тех прокламациях, которые "с содроганием" распространяет капитан Лебядкин: "Запирайте скорее церкви, уничтожайте Бога, нарушайте браки, уничтожайте права наследства, берите ножи". В уста одного из "бесов", Шигалева, Достоевский вложил гениальный афоризм: "Все рабы и в рабстве равны".
Идея Шигалева о разделении человечества на "два неравные человечества" сродни теории Раскольникова о двух разрядах людей. В "Бесах" содержание этой книги изложено с нескрываемой иронией: "Одна десятая доля получает свободу личности и безграничное право над остальными девятью десятыми. Те же должны потерять личность и обратиться вроде как в стадо и при безграничном повиновении достигнуть рядом перерождений первобытной невинности, вроде как бы первобытного рая, хотя, впрочем, и будут работать. Меры, предлагаемые автором для отнятия у девяти десятых человечества воли и переделки его в стадо, посредством перевоспитания целых поколений, — весьма замечательны, основаны на естественных данных и очень логичны. Можно не согласиться с иными выводами, но в уме и в знаниях автора усумниться трудно". Позднее в январском выпуске "Дневника писателя" за 1876 год Достоевский признавался: "Я никогда не мог понять мысли, — писал он, — что лишь одна десятая доля людей должна получать высшее развитие, а остальные девять десятых должны лишь послужить к тому материалом и средством, а сами оставаться во мраке. Я не хочу мыслить и жить иначе, как с верой, что все наши девяносто миллионов русских… будут все, когда-нибудь, образованны, очеловечены и счастливы".
Писатель также подметил, что "бесы" готовы избавляться не только от ставших помехами вождей и от исполнителей, вроде капитана Лебядкина, услуги которых им больше не нужны. Потому-то Петруша спокойно бросает своих соратников на произвол судьбы и бежит за границу, после того как неудачей заканчивается революция в одном отдельно взятом губернском городе.
Новая волна статей о Нечаеве и "Народной расправе" была вызвана открывшимся 1 июля 1871 года в Петербургской судебной палате процессом над большой группой молодежи, преимущественно студенческой, в той или иной степени связанной с организацией Нечаева. К тому времени Достоевским уже была опубликована первая часть романа, две главы второй части и в общих чертах намечены продолжение и окончание "Бесов".
Дело "об обнаруженном в различных местах империи заговоре, направленном к ниспровержению установленного в государстве правительства" слушалось с перерывами до сентября. Подсудимые в зависимости от степени участия в деятельности общества были разделены на три группы. Первая и важнейшая группа состояла из помощников Нечаева по убийству— Успенского, Кузнецова, Прыжова, Николаева; других влиятельных членов общества — Ф. В. Волховского, В. Ф. Орлова, М. П. Коринфского; видных революционеров, находившихся в некоторой связи с обществом (П. Н. Ткачев), и тех, кто был лично особенно близок к Нечаеву (Е. Х. Томилова). Приговор по делу этой группы был вынесен 15 июля, а Достоевский вернулся в Петербург после многолетнего пребывания за границей 8 июля 1871 года, когда многое в "Бесах" уже вполне устоялось. Но кое-какие детали, связанные с тем же "Катехизисом революционера" и с явной харизматичностью Нечаева, выявившейся в показаниях его соратников, Достоевский добавил в роман по материалам процесса. В результате Верховенский стал менее шутом, а более — демонической, наводящей неподдельный ужас личностью, да и у Ставрогина демонизма прибавилось.
Достоевский записал в связи с процессом, что "Нечаев не социалист, но бунтовщик, в идеале его бунт и разрушение, а там "что бы ни было".
О Нечаеве на процессе говорилось, естественно, очень много. За исключением Енишерлова, у которого были личные основания ненавидеть Нечаева, подсудимые отзывались о нем с уважением, хотя и не без сожаления. Даже сильнее других разочаровавшийся в Нечаеве Кузнецов показывал, что Нечаев "о положении народа… говорил с страшным энтузиазмом, и видно было, что во всяком его слове была искренняя любовь". Подсудимый Прыжов заявил: "Я прожил 40 лет, встречался со многими литераторами, учеными, вообще с людьми, известными своею деятельностью, но такой энергии, как у Нечаева, я никогда не встречал и не могу представить себе". Другой подсудимый, Рипман, утверждал, что Нечаев казался ему "в высшей степени сильным, энергическим человеком, обладающим большим даром убеждения" и он "совершенно верил Нечаеву, как вообще верил в таких людей, которые задаются хорошими целями". С особым восторгом говорил о Нечаеве Успенский: "Нечаев обладал страшной энергией и производил большое впечатление на лиц, знавших его. Он был верен своей цели, очень предан своему делу и личной вражды ни к кому не имел". На процессе также отмечалось, что Нечаев "производил впечатление человека полнейшей преданности делу и той идее, которой он служил. Сведениями он обладал громадными и умел чрезвычайно ловко пользоваться своими знаниями. Поэтому мы относились к нему с полнейшим доверием". Адвокат В. Д. Спасович говорил на суде: "Хотя Нечаев — лицо весьма недавно здесь бывшее, однако он походит на сказочного героя… Он возымел еще в январе 1869 года мысль гениальную, он задумал (живой человек) создать самому для себя легенду, сделаться мучеником и прослыть таковым на всю землю русскую… вранье явилось в нем, по всей вероятности, потому, что в плане его действий была ложь как средство для достижения известной цели; но известно, что такое средство весьма опасно действует на характер. Оно до такой степени входит в плоть и кровь лжеца, что сей последний незаметно привыкает употреблять ее потом без всякой нужды, просто из любви к искусству… Этот страшный, роковой человек всюду, где он ни останавливался, приносил заразу, смерть, аресты, уничтожение. Есть легенда, изображающая поветрие в виде женщины с кровавым платком. Где она появится, там люди мрут тысячами. Мне кажется, Нечаев совершенно походит на это сказочное олицетворение моровой язвы". При этом, правда, Спасович также назвал Нечаева Хлестаковым. А вот другой адвокат, Соколовский, утверждал на процессе, что Нечаев — "ничтожная на самом деле личность", просто человек "с болезненным самолюбием".
Достоевский объединил эти характеристики в своем Петре Верховенском, органически соединив хлестаковщину с демонизмом и дьявольщиной. В поздних набросках к роману о Верховенском-младшем говорилось: "Необыкновенный по уму человек, но легкомыслие, беспрерывные промахи даже в том, что бы он мог знать. Обидчивость и невыдержанность характера. Если б он был с литературным талантом, то был бы не ниже никого из наших великих критиков-руководителей начала шестидесятых годов. Он писал бы, конечно, другое, чем они, но эффект произвел бы тот же самый… Он и теперь действует за границей и говорит обаятельно. Он понял, например, что Кириллову ужасно трудно застрелить себя и что он верует, пожалуй, "пуще попа".
Он очень остроумно развивал свой план Ставр(огину) и умно смотрел на Россию. Только странно все это: он ведь серьезно думал, что в мае начнется, а в октябре кончится. Как же это назвать? Отвлеченным умом? Умом без почвы и без связей — без нации и без необходимого дела? Пусть потрудятся сами читатели".
Однако в дальнейшем, уже после завершения "Бесов", когда в январе 1873 года в Московском окружном суде с участием присяжных прошел суд над возвращенным в Россию Нечаевым, последнее слово Сергея Геннадиевича разочаровало Достоевского, не увидевшего в нем действительно крупной личности, соответствующей масштабу совершенных и задуманных преступлений: "Ведь уж, кажется, следил за делом, даже писал о нем, и вдруг — удивился: никогда я не мог представить себе, чтобы это было так несложно, так однолинейно глупо. Нет, признаюсь, я до самого последнего момента думал, что все-таки есть что-нибудь между строчками, и вдруг — какая казенщина! Ничего не мог я себе представить неожиданнее. Какие восклицания, какой маленький-маленький гимназистик "Да здравствует земский собор, долой деспотизм!" Да неужели же он ничего не мог умнее придумать в своем положении".
Вероятно, Достоевский бы еще раз изменил мнение о Нечаеве, узнай он о финале жизни Нечаева. Лишенный в тюрьме возможности писать (за "дурное поведение" у него отобрали перо и бумагу), Сергей Геннадиевич обратил весь свой пропагандистский дар в устное слово и сумел довольно быстро распропагандировать и заставить служить себе тех солдат и унтер-офицеров, которые непосредственно его охраняли. С их помощью Нечаев смог установить связь с членами организации "Народная воля", готовившими покушение на царя. Солдатам же он объяснял, что царя вскоре убьют и вместо него выберут другого, и впредь царей будут только выбирать, а вся земля отойдет крестьянам. Народовольцы разрабатывали планы освобождения Нечаева или путем налета на тюрьму, или с помощью распропагандированных им солдат, переодев его в солдатский мундир. Однако Нечаев сам велел отказаться пока от планов его освобождения в пользу подготовки цареубийства. Цареубийство, как известно, удалось, но в результате в первой половине 1881 года "Народная воля" была разгромлена, а наиболее активные ее члены арестованы и казнены. Тем самым почти полностью оборвалась связь Нечаева с волей, хотя ни один народоволец не упомянул жандармам об этой связи и о наличии в Петропавловской крепости тайной солдатской организации. Нечаев начал готовить побег с помощью своих солдат, но в конце 1881 года один из народовольцев, Лев Мирский, наконец рассказал о нечаевской организации в крепости. Все ее участники были арестованы, в том числе и уже уволившиеся в тот момент в запас. Их осудили к каторжным работам. Нечаева на суд не вызывали, в материалах дела он фигурировал как "арестант № 5". Его перевели в камеру № 1, полностью изолированную от других, так что ни перестукиванием, ни иным образом Нечаев не мог общаться с другими узниками. Питание его ухудшили, время прогулок сократили с 2 часов до 20 минут, но теперь его не выпускали на свежий воздух, а из всех книг разрешили читать только Библию.
Вскоре у узника развилась цинга. Тогда врач предписал отпускать Нечаеву в день полбутылки молока и возобновить прогулки на воздухе. Это было сделано, но цинга осложнилась водянкой, и 21 ноября 1882 года узник скончался, почти на два года пережив обессмертившего его писателя.
Очевидно, Достоевский обратил внимание на показания Г. Енишерлова, подчеркнувшего цинизм взглядов Нечаева не только на людей, принадлежащих к миру, осужденному на разрушение, но и на студенчество, недовольство которого он стремился использовать в своих целях. "Я находил всегда Нечаева в озлобленном и скептическом настроении человека, — показывал Енишерлов, — которому не удалось предпринятое дело, который не услышал сочувственного отклика. По его выражению, русское общество состоит из холопов, в которых не вспыхнет революционная искра, как бы ее ни раздували. Из этого общества студенческая среда наиболее благоприятна революционной пропаганде; но и в ней пропаганда тогда только будет иметь успех, когда скроется на первых порах под каким-нибудь лично студенческим делом". Достоевский в "Бесах" сделал эту мысль жизненным кредо Верховенского: "Неужели вы до сих пор не понимали, Кириллов, с вашим умом, что все одни и те же, что нет ни лучше, ни хуже, а только умнее и глупее; и что если все подлецы (что, впрочем, вздор), то, стало быть, и не должно быть неподлеца!" "Нечаев явился к нам в качестве агента Женевского общества, и те бланки и прокламации, которые он принес, заставляли нас думать, что он действительно лицо доверенное, и приход его ко мне в качестве ревизора от Женевского комитета еще более меня в этом убедил. Все это заставляло думать, что дело происходит в громадных размерах, между тем как тут был обман, автором которого был Нечаев, а обманутыми были мы", — говорил на суде ближайший помощник Нечаева Успенский. И он же утверждал: "Нечаеву в погоне за своей целью, в его безустанной работе некогда было заниматься какими бы то ни было личными отношениями к кому бы то ни было.
Правила революционера, которыми Нечаев был проникнут до мозга костей, положительно запрещали всякую личную месть, хотя бы она была и полезна для общества. Наконец, смею думать, Нечаев был настолько человек что никогда не решился бы пожертвовать человеческою жизнью из-за личного неудовольствия. Во всяком случае, я не замечал в нем никакой вражды". "Этими товарищами, — тонко заметил Спасович, — он мог руководить своими словами, личным своим авторитетом; но этого ему мало: он привык командовать и не мог терпеть рассуждений. И вот для достижения этой цели, для усиления своей власти он созидал и ставил за своими плечами целый ряд призраков… Нечаев был человек, который предпочитал спокойно властвовать и командовать, нежели рассуждать. Привычка генеральствовать как будто была врождена ему, та привычка, в которой он обвинял всех тех, которые его расспрашивали об обществе". Хроникер по поводу тактики Верховенского: "Петр Степанович несомненно был виноват пред ними: все бы могло обойтись гораздо согласнее и легче, если б он позаботился хоть на капельку скрасить действительность. Вместо того чтобы предоставить факт в приличном свете, чем-нибудь римско-гражданским или вроде того, он только выставил грубый страх и угрозу собственной шкуре, что было уже просто невежливо. Конечно, во всем борьба за существование, и другого принципа нет, это всем известно, но ведь все-таки…"
Г. Енишерлов писал, что Нечаев скомпрометировал многих студентов, "втолкнув вполне умышленно в казематы сотни людей, если чем-либо виноватых, то единственно своею доверчивостью и благодушием". Спасович развил эту мысль: "Читались показания студента Енишерлова, который дошел до того, что подозревал, не был ли Нечаев сыщиком. Я далек от этой мысли, но должен сказать, что если бы сыщик с известною целью задался планом как можно более изловить людей, готовых к революции, то он действительно не мог искуснее взяться за это дело, нежели Нечаев". Вспомним характерный разговор между Ставрогиным и Петром Верховенским:
"— А слушайте, Верховенский, вы не из высшей полиции, а?
— Да ведь кто держит в уме такие вопросы, тот их не выговаривает.
— Понимаю, да ведь мы у себя.
— Нет, покамест не из высшей полиции".
Таким образом, писатель оставил возможные подозрения у читателей насчет связей Верховенского-младшего с полицией.
Достоевский развил по-своему и другой мотив, часто звучавший на процессе и неразрывно связанный с высказанным предположением о Нечаеве как о сыщике: речь идет о внедрявшемся Нечаевым принципе взаимного шпионажа одного члена общества за другим. Об этом на суде говорил Ф. Ф. Рипман: "Вскоре после того как мы дали согласие, Нечаев начал запугивать нас, если можно так выразиться, властью и силою комитета, о котором он говорил, что будто он существует и заведует нами. Так один раз Нечаев пришел к нам и сказал, что сделалось комитету известно, что будто кто-то из нас проговорился о существовании тайного общества. Мы не понимали, каким образом могло это случиться. Он сказал: "Вы не надейтесь, что вы можете притворяться и что комитет не узнает истины: у комитета есть полиция которая очень зорко следит за каждым членом". При этом он прибавил, что если кто из членов как-нибудь проговорится или изменит своему слову и будет поступать вопреки распоряжениям тех, кто стоит выше нашего кружка, то комитет будет мстить за это".
В романе Петр Верховенский на каждого члена "пятерки" ведет досье и имеет агентов, вроде Агафьи, служанки Липутина, для слежки за своими товарищами. Шигалев говорит о Верховенском: "У него хорошо в тетради… у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом".
Хотя "пятерок" всего четыре, Петр Степанович мистифицирует соратников, создавая представление о мощной и многочисленной организации, управляемой из единого центра.
Ставрогин подсказывает Верховенскому идею кровавой поруки, о которой говорилось на процессе по делу об убийстве И. Иванова: "Все это чиновничество и сентиментальность — все это клейстер хороший, но есть одна штука еще получше: подговорите четырех членов кружка укокошить пятого, под видом того, что тот донесет, и тотчас же вы их всех пролитою кровью, как одним узлом, свяжете. Рабами вашими станут, не посмеют бунтовать и отчетов спрашивать".
"Останемся только мы, — похваляется Петр Верховенский, — заранее предназначившие себя для приема власти: умных приобщим себе, а на глупцах поедем верхом". Он убеждает Ставрогина: "Слушайте, я сам видел ребенка шести лет, который вел домой пьяную мать, а та его ругала скверными словами. Вы думаете, я этому рад? Когда в наши руки попадет, мы, пожалуй, и вылечим… если потребуется, мы на сорок лет в пустыню выгоним… Но одно или два поколения разврата теперь необходимо; разврата неслыханного, подленького, когда человек обращается в гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь — вот чего надо! А тут еще "свеженькой кровушки", чтоб попривык Чего вы смеетесь? Я себе не противоречу. Я только филантропам и Шигалевщине противоречу, а не себе. Я мошенник, а не социалист. Ха-ха-ха! Жаль только, что времени мало. Я Кармазинову обещал в мае начать, а к Покрову кончить. Скоро? Ха, ха! Знаете ли, что я вам скажу, Ставрогин: в русском народе до сих пор не было цинизма, хоть он и ругался скверными словами. Знаете ли, что этот раб крепостной больше себя уважал, чем Кармазинов себя? Его драли, а он своих богов отстоял, а Кармазинов не отстоял". В черновых планах "О том, чего хотел Нечаев" Достоевский записал еще определеннее: "Год такого порядка или ближе — и все элементы к огромному русскому бунту готовы. Три губернии вспыхнут разом. Все начнут истреблять друг друга, предания не уцелеют. Капиталы и состояния лопнут, и потом, с обезумевшим после года бунта населением, разом ввести социальную республику, коммунизм и социализм… Мне нет дела, что потом выйдет: главное, чтоб существующее было потрясено, расшатано и лопнуло".
"Боже! Петруша двигателем! В какие времена мы живем!" — ужасается Верховенский-старший. "О карикатура!.. Да неужто ты себя такого, как есть, людям взамен Христа предложить желаешь?" — понимает кощунственный замысел сына Степан Трофимович.
Есть еще один претендент на роль нового Христа и одновременно главного "беса" — Николай Всеволодович Ставрогин. Однако, в отличие от Верховенского-младшего, он натура не цельная, а метущаяся, раздвоенная. За душу Ставрогина ведут еще борьбу Бог и дьявол, и он должен погибнуть.
В намечавшемся предисловии к "Бесам" Достоевский хотел пояснить его главную идею: "В Кириллове народная идея — сейчас же жертвовать собою для правды. Даже несчастный, слепой самоубийца 4 апреля (речь идет о Дмитрии Каракозове, неудачно покушавшемся на Александра II 4 апреля 1866 года. — Б. С.) в то время верил в свою правду… Жертвовать собою и всем для правды — вот национальная черта поколения. Благослови его Бог и пошли ему понимание правды. Ибо весь вопрос в том и состоит, что считать за правду. Для того и написан роман".
Возможно, писатель сознавал, что какая-то часть правды есть и на стороне других "бесов", не исключая и Петра Верховенского, и это делало еще более трагическим мировосприятие Достоевского. Федора Михайловича не могло не беспокоить то, что нигилисты, оставляя за собой часть правды, паразитируют на ней, обосновывают страданиями народа и порочными государственными порядками необходимость атеизма и, как ему казалось, уничтожения России как государства.
Устами Петра Верховенского Достоевский задает вопрос: "Если бы каждый из нас знал о замышленном политическом убийстве, то пошел ли бы он донести, предвидя все последствия, или остался бы дома, ожидая событий?" И тут же оговаривается: "Туг взгляды могут быть разные". Для "бесов" ответ на этот вопрос был ясен, а для самого Достоевского — далеко нет, как свидетельствует запись, сохранившаяся в дневнике А. С. Суворина. В беседе с издателем "Нового времени" о политических преступлениях и о возможном взрыве в Зимнем дворце Достоевский в конце 1870-х годов спрашивал Суворина: "Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы? — Нет, не пошел бы… — И я бы не пошел".
Но причины, по которым Достоевский не пошел бы доносить о замышляемом политическом убийстве, были совсем иными, чем у его героя. Федор Михайлович не хотел совершать греха доносительства, а Верховенский-младший считал хорошим делом террор во имя революции.
Очень глубокий анализ "Бесов" как вещи пророческой и сверхактуальной для послереволюционной России дал русский философ Ф. А. Степун. В статье "Бесы" и большевистская революция" он писал: "Живя в 1867 году за границей, Достоевский с тревогой всматривался во все, происходящее на родине. И чем больше он всматривался, тем настойчивее укреплялась в нем мысль о неизбежности столкновения между "европейским антихристом" и "русским Христом". Волновала его больше всего мысль, не заразится ли Россия западными ядами атеизма, позитивизма и социализма.
В этих мыслях застал Достоевского приехавший в Дрезден брат его жены, Анны Григорьевны, студент Петровской академии. Под влиянием его живых рассказов в Достоевском родилась мысль написать роман о студенческом движении и выдвинуть на первый план фигуру студента Иванова, который, по рассказам шурина, играл в движении большую роль. Узнав впоследствии, что Иванов, названный в романе Шатовым, был расстрелян Нечаевым, Достоевский поразился этим фактом как сбывшимся предсказанием. Убедившись, что он еще не оторвался от России, что чувствует биение ее пульса, Достоевский окончательно решился засесть за роман-памфлет и показать в нем, как "бесы" вышли из русского человека и вошли в стадо свиней"…
Из письма Каткову от 8 октября 1876 года видно, что "Памфлет", который писался без подлинного вдохновения, постепенно начал как бы по своей воле перерождаться в глубокомысленный трагический роман, в котором мелкий бес — Верховенский стал постепенно вытесняться сложною фигурой Николая Всеволодовича Ставрогина. Благодаря этой подмене героев роман переместился из плоскости политической в плоскость философскую, как бы в доказательство правды вещих слов датского богослова Кирке-гарда: "Коммунизм будет выдавать себя за движение политическое, но окажется, в конце концов, движением религиозным", конечно, только по структуре своего сознания, по страстности своего исповедничества, но не по содержанию своей веры.
За этой раздвоенностью внешнего облика скрывается глубочайшая трагедия. Кириллов чувствует, что "Бог необходим, а потому и должен быть", но признать разумом существование Бога он не в силах; разумом он утверждает, что "Бога нет и быть не может"…
Образ Степана Трофимовича написан не без иронии, но и не без любви. Есть в нем и лжегероическая поза, и благородная фраза, и чрезмерная обидчивость приживальщика, но есть в нем и подлинное благородство, и патетическое гражданское мужество. На празднике нигилистов Степан Трофимович не только с вдохновением, но даже с нравственным пафосом выкрикивает, что "мир спасет красота", что Шекспир и Рафаэль выше освобождения крестьян, выше народности и выше социализма. Освистанный на празднике, он надевает дорожную шинель и, умиленно чувствуя себя русским скитальцем и лишним человеком, выходит на большак, чтобы утонуть в русских просторах. На постоялом дворе он встречается с книгоношей, которая читает ему рассказ об исцелении гадаринского бесноватого. Степан Трофимович потрясен: ему вдруг открываются глаза на народ, за который он всю жизнь боролся, но которого никогда не знал, на великую правду, которой испокон веков живет этот народ, на правду православия…
Темные силы "Бесов" располагаются Достоевским как бы по двум палатам. В верхней палате царствуют Кириллов и Ставрогин. В нижней верховодят Верховенский и Шигалев с их многочисленным охвостьем. Для бесов верхней палаты характерно, что они бытийствуют, но, в сущности, не действуют, в то время как бесы нижней палаты неустанно крутятся в суете небытия, провозвестником которого является инженер Нил Федорович Кириллов, быть может, самый сложный и глубокий образ Достоевского.
Внешность Кириллова нарисована Достоевским с исключительной силой символического ознаменования его внутренней сущности. Он живет только по ночам, когда все и вся спит, живет в отрешенности от мира, в глубоком одиночестве. Он почти ничего не ест, как монах-аскет, но неустанно пьет крепчайший чай. На всем его образе лежит печать безблагодатно-наркотического мистицизма. Цвет лица у него грязновато-бледный, землистый ("прах ты и в землю отыдеши"). У него черные глаза без блеска: они поглощают, но не излучают света. Его речь порывиста и невнятна ("мысль изреченная есть ложь").
Как ни мрачен мир Кириллова, в нем все же светятся несколько светлых пятен: лампада перед иконою, которую он, "атеист", зажигает как будто бы ради своей хозяйки (верно ли это?), дети, с которыми он играет в мяч, и зеленые, яркие с жилками листья, о которых он ребенком любил вспоминать зимой. Иногда его мрачное лицо освещается, принимает детское выражение, что очень идет ему…
Сообщение Достоевского Страхову, что он собирается написать роман-памфлет из жизни революционеров, вызвало после выхода "Бесов" ряд догадок о том, с кого Достоевским были списаны его темные герои. Не раз высказывалось предположение, что прообразом Ставрогина надо считать Михаила Бакунина. Некоторое, и даже существенное, сходство, бесспорно, налицо. Бакунин, как и Ставрогин, верит в дьявола, быть может, даже канонически. В своих размышлениях о Боге и государстве Бакунин, во всяком случае, восторженно славит этого извечного "бунтаря" и "безбожника" как "первого революционера", начавшего великое дело освобождения человека от "позора незнания рабства". Бог и свобода для Бакунина несовместимы, а потому он и определяет свободу как действенное разрушение созданного Богом мира. Страсть к разрушению для него подлинно творческая страсть, и он вдохновенно призывает революционеров "довериться вечному духу разрушения, который потому только все разрушает, что таит в себе вечно бьющий ключ жизни и творчества".
Несмотря на это сходство, Ставрогин и Бакунин все же весьма разные люди. Бакунин — огнедышащий вулкан, Ставрогин — вулкан уже давно потухший. Бакунин действенно несется над жизнью, Ставрогин мертво и бездейственно созерцает ее полет. О мертвенности Ставрогина Достоевский не раз говорит в "Бесах", отмечая механичность души своего героя и "марионеточность" его тела. И действительно: любое душевное движение Ставрогина может словно поршнем вытолкнуть вперед и снова взять обратно. Романо Гвардини отмечает, что за механичностью Ставрогина чувствуется неподвижность скелета. К этой механичности смерти прибавляется еще механичность летаргика…
В отличие от красавца Ставрогина Верховенский никого не влечет к себе и многих от себя отталкивает. Тем не менее Ставрогин и Верховенский тесно связаны друг с другом. Даже и внешность Верховенского представляет собой несколько карикатурный вариант внешности Ставрогина. Ставрогин — красавец, но в его красоте есть какая-то чрезмерность. "Волосы что-то уж очень черны, светлые глаза что-то уж очень спокойны и ясны, цвет лица что-то уж очень нежен и бел, зубы — как жемчужины, губы — как кораллы; казалось бы писаный красавец, а в то же время как будто бы и отвратительный". Верховенский не красавец, но все же недурен собой. Как и у Ставрогина, у него высокий лоб. Как и в лице Ставрогина, есть в его лице нечто излишнее. Взор слишком пристален, нос слишком остр, губы слишком тонки. Хотя в его лице не чувствуется мертвой маски, как в лице Ставрогина, в нем все же чувствуется нечто больное. Несмотря на то что Верховенский хорошо выглядит, его лицо никому не нравится.
Оба молодых человека обладают большой физической силой и самоуверенностью с той только разницей, что самоуверенность Ставрогина сосредоточена на вере в себя, а самоуверенность Верховенского держится уж очень развязным самодовольством…
Глава "Иван Царевич", в которой Петр Степанович умоляет Ставрогина возглавить революцию, — одна из самых замечательных глав романа. Все, что Верховенский говорит о себе, с психологической точки зрения более чем неправдоподобно, оно, в сущности, совершенно невозможно. Какой революционер будет признаваться избранному им вождю, которого он к тому же втайне ненавидит, в том, что он не социалист, а мошенник, что он — ни во что не верующий нигилист, собирающийся разрушать жизнь пьянством, развратом, сплетнями, доносами, шпионажем и свеженькою кровушкою. Не ясно ли, что все эти мысли не мысли Нечаева-Верховенского о революции, а мысли самого Достоевского о том кровавом кошмаре, который неизбежно вспыхнет в России, когда бесы войдут в стадо свиней, то есть в Нечаевых, Серно-Соловьевых и др. (письмо к Майкову). То, что читатель пророческий анализ революции Достоевского послушно принимает за программу и тактику Верховенского, доказывает громадную художественную силу Достоевского. Чтобы придать словам Верховенского некоторую правдоподобность, Достоевский устами Ставрогина высказывает предположение, что Петр Степанович пьян, а может быть, даже и помешан. Но странным образом все эти догадки, долженствующие объяснить поведение Верховенского, преподносятся читателю так, что он в них как-то не верит, а только чувствует исступленность Верховенского, одержимость его таинственными бесовскими силами.
Если отбросить психологический колорит сумбурно-восторженной речи Верховенского и сосредоточить свое внимание на заключающейся в ней историософской и социологической характеристике грядущей большевистской революции, то нельзя будет не поразиться исключительной дальнозоркости Достоевского.
До захвата власти Лениным "Бесы" многими общественными деятелями и почти всеми партийными революционерами воспринимались как злостное издевательство над русским освободительным движением. Таким отношением к "Бесам" объясняется то, что протест Горького против их постановки на сцене Художественного театра нашел широкий отклик в кругах русской общественности. Но времена изменились: сейчас, думается, всем должно быть ясно, что "Бесы" гораздо в большей степени произведение пророческое, чем злостно-сатирическое.
Читая бредовую проповедь Верховенского, нельзя не чувствовать, что она кипит бакунинской страстью к разрушению и нечаевским презрением не только к народу, но даже и к собственным "шелудивым" революционным кучкам, которые он сколачивал, чтобы пустить смуту и раскачать Россию. В духе Нечаева и Ткачева Верховенский обещает Ставрогину, что народ к построению "каменного здания" допущен не будет, что строить они будут вдвоем, он, Верховенский, со своим Иваном-царевичем. Надо ли доказывать, что следов бакунинской страсти к разрушению и фашистских теорий Ткачева и Нечаева можно искать только в программе и тактике большевизма. Интересно, что, мечтая о великой революционной смуте, Верховенский жалел о том, что мало остается времени и что в России нет пролетариата. Этими жалобами он касался разногласий между народниками и Плехановым, за примирением которых Вера Засулич в 1881 году обращалась к Карлу Марксу.
Думаю, что не будет преувеличением сказать, что Достоевский предчувствовал, что социалистическая революция будет произведена по рецепту Нечаева и Ткачева, то есть преждевременно и без участия необходимого для нее пролетариата. Предчувствия его сбылись.
Об исполнении роли Петра Верховенского И. Н. Берсеневым в спектакле МХТ (1913) критика писала как о значительном театральном событии: "И внешность у него великолепная, и вся суетливая жестикуляция, и даже тот тик, какой ввел актер, это жевание каких-то комочков… А во внутреннем содержании образа многое схвачено глубоко, тонко и передано выразительно и ярко. За игрою все время следишь с вниманием напряженным, и целый рой мыслей бежит в это время в голове. Лучше всего — первое явление, в красной гостиной, где у г. Берсенева по-настоящему великолепное по богатству содержания лицо, и особенно тот разговор с Ставрогиным, когда Петр Верховенский впадает в жуткий пафос, который ему присущ, когда говорит Николай Всеволодович об Иван-Царевиче. Тут только этот бес становится не только гаденьким, но и страшным, тут открывается краешек покрова над тайной его влияния".
Бердяев в "Мировоззрении Достоевского" утверждал: "Революция совершилась по Достоевскому. Он раскрыл ее идейные основы, ее внутреннюю диалектику и дал ее образ. Он из глубины духа, из внутренних процессов постиг характер русской революции, а не из внешних событий окружающей его эмпирической действительности. "Бесы" — роман, написанный не о настоящем, а о грядущем. В русской действительности 60-х и 70-х годов не было еще ни Ставрогина, ни Кириллова, ни Шатова, ни П. Верховенского, ни Шигалева. Эти люди появились у нас позже, уже в XX веке, когда почва углубилась и начались у нас религиозные веяния. Нечаевское дело, которое послужило поводом к составлению фабулы "Бесов", в своей явленной эмпирии не походило на то, что раскрывается в "Бесах". Достоевский раскрывает глубину, выявляет последние начала, его не интересует поверхность вещей. Глубинные и последние начала должны раскрыться в грядущем. И Достоевский весь обращен к будущему, которое должно родиться от почуянного им бурного внутреннего движения. Самый характер его художественного дара может быть назван пророческим. И чрезвычайно антиномично его отношение к революции. Он — величайший изобличитель лжи и неправды того духа, который действует в революции, он предвидит в грядущем нарастание антихристова духа, духа человеко-божества. Но нельзя было бы назвать Достоевского консерватором или реакционером в обычном, вульгарном смысле слова. Он был революционером духа в каком-то более глубоком смысле слова. Для него нет возврата к тому устойчивому, статическому душевнотелесному бытовому строю и укладу жизни, который века существовал до начавшейся революции духа. Достоевский слишком апокалиптически и эсхатологически настроен, чтобы представлять себе такой возврат, такую реставрацию старой, спокойной жизни. Он один из первых почуял, как ускоряется всякое движение в мире, как все идет к концу. "Конец мира идет", — заносит он в свою записную книжку. Консерватором, в обычном смысле слова, нельзя быть при такой настроенности. Вражда Достоевского к революции не была враждой бытового человека, отстаивающего какие-либо интересы старого строя жизни. Это была вражда апокалиптического человека, ставшего на сторону Христа в последней борьбе его с антихристом. Но тот, кто обращен к Христу Грядущему и к последней борьбе в конце времен, так же человек будущего, а не прошлого, как и тот, кто обращен к грядущему антихристу и в последней борьбе стал на его сторону. Обычная борьба революции и контрреволюции происходит на поверхности.
В этой борьбе сталкиваются разные интересы, интересы тех, которые отходят в прошлое и вытесняются из жизни, с интересами тех, которые идут им на смену в первых местах на пиру жизни. Достоевский стоит вне этой борьбы за первые места земной жизни. Большие люди, люди духа, обычно ведь стояли вне такой борьбы и не могли быть причисленными ни к какому лагерю. Можно ли сказать, что Карлейль или Ницше принадлежат к лагерю "революции" или "контрреволюции"? Вероятно, они, как и Достоевский, должны быть признаны "контрреволюционерами" с точки зрения революционной черни и революционной демагогии. Но потому только, что всякий дух враждебен тому, что на поверхности жизни именуется "революциями", что революция духа вообще отрицает дух революции. Достоевский был таким апокалиптическим человеком последних времен. И к нему нельзя подходить с вульгарными и пошлыми критериями "революционности" или "контрреволюционности" старого мира. Для него революция была совершенно реакционной".
Образ Ставрогина также привлек особое внимание С. Н. Булгакова, утверждавшего в "Русской трагедии": "Но вот что важно, это — тот вопрос, которым выдает себя при этом Ставрогин: "А можно ли веровать в беса, не веруя совсем в Бога?" — "О, очень можно, сплошь и рядом", — был ответ Тихона, и это был ответ о Ставрогине. В том состоянии одержимости, в каком находится Ставрогин, он является как бы отдушиной из преисподней, через которую проходят адские испарения. Он есть не что иное, как орудие провокации зла. В романе Достоевского художественно поставлена эта проблема провокации, понимаемой не в политическом только смысле, но в более существенном, жизненно-религиозном. Ставрогин есть одновременно и провокатор, и орудие провокации. Он умеет воздействовать на то, в чем состоит индивидуальное устремление данного человека, толкнуть на гибель, воспламенив в каждом его особый огонь, и это испепеляющее, злое, адское пламя светит, но не согревает, жжет, но не очищает. Ведь это Ставрогин прямо или косвенно губит и Лизу, и Шатова, и Кириллова, и даже Верховенского и иже с ним, причем в действительности губит не он, но оно, то, что действует в нем, через него и помимо него. Каждого из подчиняющихся его влиянию обманывает его личина, но все эти личины — разные, и ни одна не есть его настоящее лицо. Он одновременно возбуждает душевную бурю в Шатове и внушает Кириллову его бред, рыцарски-капризно женится на Хромоножке и участвует в садистском обществе, растлевает ребенка, чтобы не говорить уже об остальном. Так и не совершилось его исцеление, не изгнаны были бесы, и "гражданина кантона Ури" постигает участь гадаринских свиней, как и всех, его окружающих Никто из них не находит полного исцеления у ног Иисусовых, хотя иные (Шатов, Кириллов) его уже ищут, но… "Но, — говорит Ставрогину еп. Тихон, — полный атеизм не только почтеннее светского равнодушия, но совершенный атеист стоит на предпоследней верхней ступени до совершенной веры (там перешагнет ли ее, нет ли), а равнодушный никакой веры не имеет, кроме дурного страха". Здесь, как и в других романах, Достоевский старается проникнуть в глубину "совершенного атеизма", того религиозного отчаяния, из которого трагически родится (или же так и не родится) вера. Христос или гадаринская бездна — вот религиозный смысл трагедии, вот ее правда, ее проповедь: иначе нельзя, иного выхода нет, tertium non datur (третьего не дано (лат.). — Б. С.). Так стояло это в душе Достоевского, в которой всегда совершенная вера трагически боролась с совершенным неверием, то побеждающая, то побеждаемая, и эту же трагедию чрез свой собственный дух он ощущал и в русской душе, и в духовном организме России, в которой святая Русь борется с царством карамазовщины. В "Бесах" еще нет того разделения света и тьмы, как в "Братьях Карамазовых", где старикашке Федору Карамазову противостоит старец Зосима, а Ивану — Алеша, здесь одни лишь гадаринские бесноватые, один мрак Зато он сгущен до последней мучительности, и эта его острота, его невыносимость и делает его предрассветным, не тьмой безразличия и хаоса, но той "сенью смертной", в которой рождается "свет велий". И в этом смысле "Бесы", повторяем, есть книга о Христе, есть отрицательная мистерия".
Н. А. Бердяев писал о "Бесах": "Достоевский открыл одержимость, бесноватость в русских революционерах. Он почуял, что в революционной стихии активен не сам человек, что им владеют не человеческие духи. Когда в дни осуществляющейся революции перечитываешь "Бесы", то охватывает жуткое чувство. Почти невероятно, как можно было все так предвидеть и предсказать. В маленьком городе, во внешне маленьких масштабах давно уже разыгралась русская революция и вскрылись еще духовные первоосновы, даны были ее духовные первообразы. Поводом к фабуле "Бесов" послужило нечаевское дело. Левые круги наши увидели тогда в "Бесах" карикатуру, почти пасквиль на революционное движение и революционных деятелей. "Бесы" были внесены в index книг, осужденных "прогрессивным" сознанием. Понять всю глубину и правду "Бесов" можно лишь в свете иного сознания, сознания религиозного; эта глубина и эта правда ускользает от сознания позитивистического. Если рассматривать этот роман как реалистический, то многое в нем неправдоподобно и не соответствует действительности того времени. Но все романы Достоевского неправдоподобны, все они написаны о глубине, которую нельзя увидать на поверхности действительности, все они были пророчеством. Пророчество приняли за пасквиль. Сейчас, после опыта русской революции, даже враги Достоевского должны признать, что "Бесы" — книга пророческая. Достоевский видел духовным зрением, что русская революция будет именно такой и иной быть не может. Он предвидел неизбежность беснования в революции. Русский нигилизм, действующий в хлыстовской русской стихии, не может не быть беснованием, исступленным и вихревым кружением. Это исступленное вихревое кружение и описано в "Бесах". Там происходит оно в небольшом городке. Ныне происходит оно по всей необъятной земле русской. И начало это исступленное вихревое кружение от того же духа, от тех же начал, от которых пошло оно и в том же маленьком городке.
Ныне водители русской революции поведали миру русский революционный мессианизм, они несут народам Запада, пребывающим в "буржуазной" тьме, свет с Востока. Этот русский революционный мессианизм был раскрыт Достоевским и понят им как негатив какого-то позитива, как извращенный апокалипсис, как вывернутый наизнанку положительный русский мессианизм, не революционный, а религиозный. Все герои "Бесов" в той или иной форме проповедуют русский революционный мессианизм, все они одержимы этой идеей. У колеблющегося и раздвоенного Шатова перемешано сознание славянофильское с сознанием революционным. Такими Шатовыми полна русская революция. Все они, как и Шатов Достоевского, готовы в исступлении выкрикивать, что русский революционный народ — народ-богоносец, но в Бога они не верят. Некоторые из них хотели бы верить в Бога — и не могут; большинство же довольствуется тем, что верит в богоносный революционный народ. В типичном народнике Шатове перемешаны элементы революционные с элементами реакционными, "черносотенными". И это характерно. Шатов может быть и крайним левым и крайним правым, но и в том и в другом случае он остается народолюбцем, демократом, верующим прежде всего в народ. Такими Шатовыми полна русская революция; у всех у них не разберешь, где кончается их крайняя левость и революционность и начинается крайняя правость и реакционность. Они всегда враги культуры, враги права, всегда истребляют свободу лица. Это они утверждают, что Россия выше цивилизации и что никакой закон для нее не писан. Эти люди готовы истребить Россию во имя русского мессианизма. У Достоевского была слабость к Шатову, он в себе самом чувствовал шатовские соблазны. Но силой своего художественного прозрения он сделал образ Шатова отталкивающим и отрицательным.
В центре революционного беснования стоит образ Петра Верховенского. Это и есть главный бес русской революции. В образе Петра Верховенского Достоевский обнажил более глубокий слой революционного беснования, в действительности прикрытый и невидимый. Петр Верховенский может иметь и более благообразный вид. Но Достоевский сорвал с него покровы и обнажил его душу. Тогда образ революционного беснования предстал во всем своем безобразии. Он весь трясется от бесовской одержимости, вовлекая всех в исступленное вихревое кружение.
Всюду он в центре, он за всеми и за всех. Он — бес, вселяющийся во всех и овладевающий всеми. Но и сам он бесноватый. Петр Верховенский прежде всего человек совершенно опустошенный, в нем нет никакого содержания. Бесы окончательно овладели им и сделали его своим послушным орудием. Он перестал быть образом и подобием Божиим, в нем потерян уже лик человеческий. Одержимость ложной идеей сделала Петра Верховенского нравственным идиотом. Он одержим был идеей всемирного переустройства, всемирной революции, он поддался соблазнительной лжи, допустил бесов овладеть своей душой и потерял элементарное различие между добром и злом, потерял духовный центр. В образе Петра Верховенского мы встречаемся с уже распавшейся личностью, в которой нельзя уже нащупать ничего онтологического. Он весь есть ложь и обман, и он всех вводит в обман, повергает в царство лжи. Зло есть изолгание бытия, лжебытие, небытие. Достоевский показал, как ложная идея, охватившая целиком человека и доведшая его до беснования, ведет к небытию, к распадению личности. Достоевский был большой мастер в обнаружении онтологических последствий лживых идей, когда они целиком овладевают человеком. Какая же идея овладела целиком Петром Верховенским и довела личность его до распадения, превратила его в лжеца и сеятеля лжи? Это все та же основная идея русского нигилизма, русского социализма, русского максимализма, все та же инфернальная страсть к всемирному уравнению, все тот же бунт против Бога во имя всемирного счастья людей, все та же подмена царства Христова царством антихриста. Таких бесноватых Верховенских много в русской революции, они повсюду стараются вовлечь в бесовское вихревое движение, они пропитывают русской народ ложью и влекут его к небытию. Не всегда узнают этих Верховенских, не все умеют проникнуть вглубь, за внешние покровы. Хлестаковых революции легче различить, чем Верховенских, но и их не все различают, и толпа возносит их и венчает славой.
Достоевский предвидел, что революция в России будет безрадостной, жуткой и мрачной, что не будет в ней возрождения народного. Он знал, что немалую роль в ней будет играть Федька-каторжник и что победит в ней шигалевщина. Петр Верховенский давно уже открыл ценность Федьки-каторжника для дела русской революции. И вся торжествующая идеология русской революции есть идеология шигалевщины. Жутко в наши дни читать слова Верховенского: "В сущности наше учение есть отрицание чести, и откровенным правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно". И ответ Ставрогина: "Право на бесчестье — да это все к нам прибегут, ни одного там не останется!" И русская революция провозгласила "право на бесчестье", и — все побежали за ней. А вот не менее важные слова: "Социализм у нас распространяется преимущественно из сентиментальности". Бесчестье и сентиментальность — основные начала русского социализма. Эти начала, увиденные Достоевским, и торжествуют в революции. Петр Верховенский видел, какую роль в революции будут играть "чистые мошенники". "Ну, это, пожалуй, хороший народ, иной раз выгодны очень, но на них много времени идет, неусыпный надзор требуется". И дальше размышляет П. Верховенский о факторах русской революции: "Самая главная сила — цемент все связующий, это стыд собственного мнения. Вот это так сила! И кто это работал, кто этот "миленький" трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове! За стыд почитают". Это было очень глубокое проникновение в революционную Россию. В русской революционной мысли всегда был "стыд собственного мнения". Этот стыд почитался у нас за коллективное сознание, сознание более высокое, чем личное. В русской революции окончательно угасло всякое индивидуальное мышление, мышление сделалось совершенно безличным, массовым. Почитайте революционные газеты, прислушайтесь к революционным речам, и вы получите подтверждение слов Петра Верховенского. Кто-то потрудился-таки над тем, чтобы "ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове". Русский революционный мессианизм предоставляет собственные идеи и мнения буржуазному Западу. В России все должно быть коллективом, массовым, безличным. Русский революционный мессианизм есть шигалевщина. Шигалевщина движет и правит русской революцией.
"Шигалев смотрел так, как будто ждал разрушения мира, и не то чтобы когда-нибудь, по пророчествам, которые могли бы и не состояться, а совершенно определенно, так этак послезавтра утром, ровно в двадцать пять минут одиннадцатого". Все русские революционеры-максималисты смотрят так, как смотрел Шигалев, все ждут разрушения старого мира послезавтра утром. И тот новый мир, который возникнет на развалинах старого мира, есть мир шигалевщины. "Выходя из безграничной свободы, — говорит Шигалев, — я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавлю, однако ж, что, кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого". Все революционные Шигалевы так говорят и так поступают. Петр Верховенский так формулирует сущность шигалевщины Ставрогину: "Горы сравнять — хорошая мысль, не смешная. Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию… Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание; мы пустим пьянство, сплетни, донос; мы пустим неслыханный разврат, мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство… Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного шара отселе. Не нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание; полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно, чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое". В этих изумительных по своей пророческой силе словах Достоевский устами П. Верховенского приводит все к ходу мыслей Великого инквизитора. Это доказывает, что в "Легенде о Великом инквизиторе" Достоевский в значительной степени имел в виду социализм. Достоевский обнаруживает всю призрачность демократии в революции. Никакой демократии не существует, правит тираническое меньшинство. Но тирания эта, неслыханная в истории мира, будет основана на всеобщем принудительном уравнении. Шигалевщина и есть исступленная страсть к равенству, доведенному до конца, до предела, до небытия. Безбрежная социальная мечтательность ведет к истреблению бытия со всеми его богатствами, она у фанатиков перерождается в зло. Социальная мечтательность совсем не невинная вещь. Это понимал Достоевский. Русская революционно-социалистическая мечтательность и есть шигалевщина. Во имя равенства мечтательность эта хотела бы истребить Бога и Божий мир. В той тирании и том абсолютном уравнении, которыми увенчалось "развитие и углубление" русской революции, осуществляются золотые сны и мечты русской революционной интеллигенции. Это были сны и мечты о царстве шигалевщины. Многим оно представлялось более прекрасным, чем оказалось в действительности. Многих наивных и простодушных русских социалистов, мечтавших о социальной революции, смущают торжествующие крики: "Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны… Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей!" Достоевский был более проницателен, чем признанные учителя русской интеллигенции, он знал, что русский революционизм, русский социализм в час своего торжества должен кончиться этими шигалевскими выкриками".
Судя по тексту романа, Николай Всеволодович Ставрогин родился около 1840 года. С осени 1855 года по конец 1860 года он учился в Петербургском лицее. В 1861 году Ставрогин поступил в гвардию; но в следующем году последовали дуэли, суд и разжалование в солдаты. Однако в 1863 году Николай Всеволодович сумел реабилитироваться во время подавления очередного польского восстания, был произведен в офицеры и вышел в отставку. Далее следуют его новые похождения в Петербурге, в ходе которых происходит его сближение с Петром Верховенским, Лебядкиным и Кирилловым. В июне 1864 года он растлевает в бане 14-летнюю Матрешу, которая в итоге кончает с собой от недетских переживаний. Пытаясь несколько своеобразно загладить свой грех, Николай Всеволодович в марте 1865 года женится на Лебядкиной. Весной 1866 года он уезжает из России в Европу, где, как и Достоевский, странствует четыре года. Осенью 18б7 года Ставрогин встречается с Шатовым и Кирилловым. По словам Шатова, обращенным к Ставрогину, "в то же самое время, когда вы насаждали в моем сердце Бога и родину… вы отравили сердце этого… маньяка, Кириллова, ядом… Вы утверждали в нем ложь и клевету". Тогда же Николай Всеволодович активно участвует в реорганизации тайного общества по новому плану и пишет для него устав. В мае 1868 года у него, как и у Достоевского, появляются галлюцинации, после чего в его душе зарождается идея исповеди и покаяния. В конце 1868 года Ставрогин отказывается от российского подданства, становится гражданином швейцарского кантона Ури и покупает там дом. В январе — июле 1869 года у Николая Всеволодовича случается любовная связь с Марией Шаговой в Париже. Он также увлекается Лизой Тушиной, затем происходит скандал с Дашей Шатовой, и у Николая Всеволодовича рождается план двоеженства. Ставрогин признается: "Я почувствовал ужасный соблазн на новое преступление… но я бежал, по совету другой девушки, которой я открылся почти во всем". В июле — августе 1869 года он пишет исповедь и возвращается в Россию вместе с грузом отпечатанной в типографии исповеди, а 12 сентября 18б9года начинается действие в романе, укладывающееся в месяц.
Ставрогин отказывается от навязываемой ему Верховенским роли самозванца "Ивана-Царевича", призванного возглавить революцию: "Я не мог быть тут товарищем, ибо не разделял ничего… потому, что все-таки имею привычки порядочного человека и мне мерзило".
Но в то же время Николай Всеволодович не может забыть о своих грехах. Стремление освободиться от ненавистных воспоминаний-галлюцинаций путем исповеди и покаяния приводит Ставрогина к старцу Тихону, и следует признание: "Я не убивал и был против, но я знал, что они будут убиты, и не остановил убийц".
Встреча Ставрогина с Тихоном и его неудавшаяся исповедь — это кульминационный пункт "Бесов", от которого начинается путь Ставрогина к самоубийству. Однако при жизни Достоевского эта глава так и не была напечатана, поскольку М. Н. Катков счел ее слишком скандальной. После того как она была впервые обнародована в 1912 году, среди исследователей не утихают споры, насколько автобиографично сделанное Ставрогиным признание в том, что он растлил в бане 14-летнюю Матрешу, чем спровоцировал в конечном счете ее самоубийство. Этот спор вряд ли когда-нибудь будет окончен. Достоевский неоднократно рассказывал подобные истории о растлении несовершеннолетних, происходившие будто бы или на его глазах, или с кем-то из знакомых, или даже это совершалось им самим. Но в последнем случае он обычно оговаривался, что все это придумал. Вероятно, мы никогда не узнаем, был ли подобный грех в жизни Достоевского или это — только результат творческой фантазии, полет которой настолько захватил Федора Михайловича, что он переживал грех Ставрогина так, будто он случился с ним сам. По словам Л. Гроссмана, Достоевский "с какой-то поражающей настойчивостью обращался к безобразной теме о влечении пресыщенных сладострастников к детскому телу".
Согласно воспоминаниям княгини З. А. Трубецкой, Достоевский в салоне А. П. Философовой в 1870-е годы рассказывал об одном эпизоде своего детства: "Самый ужасный, самый страшный грех — изнасиловать ребенка. Отнять жизнь — это ужасно, — говорил Достоевский, — но отнять веру в красоту любви — еще более страшное преступление". И Достоевский рассказал эпизод из своего детства. Когда я в детстве жил в Москве в больнице для бедных, рассказывал Достоевский, где мой отец был врачом, я играл с девочкой (дочкой кучера или повара). Это был хрупкий, грациозный ребенок лет девяти. Когда она видела цветок, пробивающийся между камней, то всегда говорила: "Посмотри, какой красивый, какой добрый цветочек!" И вот какой-то мерзавец, в пьяном виде, изнасиловал эту девочку, и она умерла, истекая кровью. Помню, рассказывал Достоевский, меня послали за отцом в другой флигель больницы, прибежал отец, но было уже поздно. Всю жизнь это воспоминание меня преследует, как самое ужасное преступление, как самый страшный грех, для которого прощения нет и быть не может, и этим самым страшным преступлением я казнил Ставрогина в "Бесах".
Однако хорошо известно, что в то время детям Достоевских запрещалось играть с другими детьми. Одно это обстоятельство заставляет усомниться в точности передачи рассказа писателя век спустя. Хотя, например, мысль о тождестве определенных видов красоты и доброты звучит вполне по-достоевски, но скорее можно предположить, что писатель просто вложил ее в уста девочки, а не услышал от нее в действительности.
Как справедливо отмечает В. Свинцов, сделавший критический разбор данного и других свидетельств, "более ста лет тому назад Достоевский поделился детским впечатлением с гостями, собравшимися в гостиной А. П. Философовой, его рассказ запомнил (заметьте: запомнил, а не записал тогда же) юный В. В. Философов, впоследствии передал кому-то из членов семьи и т. д., пока наконец это воспоминание, реконструированное опять же по памяти, не было записано кн. Трубецкой и передано С. В. Белову. Рассказ Достоевского и запись кн. Трубецкой разделены огромным хронологическим и информационным пространством.
И здесь не может не насторожить одна особенность: в документальных свидетельствах, сопутствующих биографии Достоевского, нет буквально ни одного упоминания об эпизоде, якобы потрясшем его в детстве. Есть много повторяющихся свидетельств, связанных с различными сторонами жизни Достоевского, но история, слышанная В. В. Философовым и спустя сто с лишним лет воспроизведенная кн. Трубецкой, не упоминалась нигде, никогда, никем. Могло ли так быть? Заметим прежде всего, что никто из людей, окружавших Достоевского в детстве, в том числе и тех, кто должен был стать непосредственным свидетелем происшествия, — никто из них не оставил в своих воспоминаниях и следа, касающегося самого факта сексуального насилия с последующим смертельным исходом. При очевидной неординарности события это представляется слабо совместимым с его подлинностью. В семейных воспоминаниях — скажем, брата Андрея или дочери Любови Федоровны — нет никакого упоминания о факте, потрясшем Достоевского, а между тем очевидно, что этот факт должен был произвести сильное впечатление не на него одного. Андрей Михайлович подробно описывает детство братьев Достоевских, в том числе и такие чрезвычайные события, как, например, пожар. Он затрагивает и некоторые, скажем так, нескромные темы — такие, как "шашни" одного из дядюшек с горничной или "гнусные пороки" подростков в частном пансионате. Мог ли он ничего не знать о кошмарном происшествии, а зная — ни разу не упомянуть? Положим, он был на три с лишним года моложе брата и, стало быть, мог не стать непосредственным свидетелем события. (В еще большей степени, разумеется, эта оговорка относится к воспоминаниям дочери писателя.) Но хоть как-то, хоть в форме изустных семейных рассказов эта история должна была сохраниться. В семьях Философовых и Трубецких сохранялась сто с лишним лет, в многочисленной семье Достоевских — ни малейшего намека.
Еще труднее найти разумный ответ на элементарный, на сам собой напрашивающийся вопрос: почему Достоевский в течение всей жизни ни с кем ни словом не обмолвился о случае, столь взволновавшем его в детстве? Словно бы специально приберегал свой рассказ до конца 70-х годов, до салона А. П. Философовой. Да, конечно, любой изустный рассказ может быть связан с нестандартными обстоятельствами места и времени. В жизни каждого человека возможны эпизоды, лишь единожды упомянутые в общении с другими людьми или даже вовсе не упомянутые. (Как могла остаться, кстати уж сказать, неизвестной история, рассказанная кн. Трубецкой, если бы не судьба, сведшая ее с С. В. Беловым, не исследовательская настойчивость последнего.) Нужно признать, однако, что это плохо соотносится с "ужасом, не оставлявшим писателя до конца дней" (И. Волгин). Не верится, что столь сильные эмоции, столь мучительные переживания ни разу не обнаружились, не выплеснулись в разговорах с близкими людьми. На тысячах страниц воспоминаний современников, в десятках и сотнях эпизодов, среди которых нередко упоминаются и весьма откровенные разговоры, — опять-таки ни следа, ни намека.
Особого внимания под этим углом зрения заслуживает огромный массив писем Достоевского, дошедших до нашего времени, тщательнейше проанализированных и откомментированных специалистами. Многие из них адресованы, опять же подчеркну, очень близким людям и в высшей степени откровенны, доверительны. (Таковы хотя бы письма к старшему брату Михаилу, который — уместно будет заметить — по обстоятельствам дела и сам должен был стать свидетелем чрезвычайного события. Прямое или хотя бы косвенное упоминание о нем в переписке братьев было бы вполне естественным.) И здесь — ни следа, ни намека на страшную историю. И уж совсем невозможно объяснить, почему о детском впечатлении, якобы мучившем его всю жизнь, писатель не рассказал самому близкому человеку — Анне Григорьевне Достоевской. Ни в ее опубликованных "Воспоминаниях", ни в дневниках, ни в переписке супругов — об этом ни слова, ни полслова. Более того, есть бесспорный факт, свидетельствующий со всей очевидностью, что Достоевский в разговорах с женой ни разу не коснулся этой истории. В 1914 году Анна Григорьевна ознакомилась с текстом того самого скандального письма, в котором Страхов сообщал Толстому о якобы имевшем место самопризнании Достоевского Висковатову в ставрогинском грехе. (Письмо было написано в 1883 году и опубликовано журналом "Современный мир" в октябре 1913-го.) Подготовленный Анной Григорьевной ответ Страхову вошел в заключительную часть "Воспоминаний". Здесь достаточно подробно рассказывается о том, как редактор "Русского вестника" М. Катков отказался печатать главу из "Бесов", описывающую поступок Ставрогина, и как Достоевский, переделывая текст, зачитывал варианты "своим друзьям". Было бы, разумеется, очень кстати, очень к месту сослаться на детское потрясение Федора Михайловича, если бы… если бы автору "Воспоминаний" хоть раз довелось что-нибудь слышать об этом".
Стоит заметить, что в 1904 году, незадолго до смерти, П. А. Висковатов в своем альбоме повторил свои утверждения насчет Достоевского: "Достоевский вечно колебался между чудными порывами и грязным развратом (растление девочки при участии гувернантки в бане), и при этом страшное раскаяние и готовность на высокий подвиг мученичества. Высокий альтруизм и мелкая зависть (к Тургеневу в Москве, где я жил с Достоевским в одном номере). Недаром он говорил: "Во мне сидят все три Карамазова".
Так что можно не сомневаться, что о растлении девочки в бане Достоевский ему точно рассказывал. Остается только вопрос, было ли это происшествие с самим Достоевским или мы имеем дело с плодом писательской фантазии, которую Висковатов принял за чистую монету.
По поводу письма Страхова Толстому А. Г. Достоевская признавалась Л. П. Гроссману: "У меня потемнело в глазах от ужаса и возмущения. Какая неслыханная клевета! И от кого же она исходит? От нашего лучшего друга, от постоянного нашего посетителя, свидетеля на нашей свадьбе — от Николая Николаевича Страхова, который просил меня после смерти Федора Михайловича поручить ему написать биографию Достоевского в посмертном издании его сочинений".
Вот самое скандальное место из письма Страхова Толстому, вызвавшего гневную отповедь Анны Григорьевны: "Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Рус-8 со, считал себя лучшим из людей и самым счастливым. По случаю биографии я живо вспомнил все эти черты. В Швейцарии, при мне, он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: "Я ведь тоже человек!" Помню, как тогда же мне было поразительно, что это было сказано проповеднику гуманности и что тут отозвались понятия вольной Швейцарии о правах человека.
Такие сцены были с ним беспрестанно, потому что он не мог удержать своей злости. Я много раз молчал на его выходки, которые он делал совершенно по-бабьи, неожиданно и непрямо; но и мне случалось раза два сказать ему очень обидные вещи. Но, разумеется, в отношении к обидам он вообще имел перевес над обыкновенными людьми, и всего хуже то, что он этим услаждался, что он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что… в бане с маленькой девочкой, которую привела ему гувернантка. Заметьте при этом, что при животном сладострастии у него не было никакого вкуса, никакого чувства женской красоты и прелести. Это видно в его романах. Лица, наиболее на него похожие, — это герой "Записок из подполья", Свидригайлов в "Преступлении и наказании" и Ставрогин в "Бесах". Одну сцену из Ставрогина (растление и пр.) Катков не хотел печатать, а Достоевский здесь ее читал многим. При такой натуре он был очень расположен к сладкой сантиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания — его направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости. Как мне тяжело, что я не могу отделаться от этих мыслей, что не умею найти точки примирения. Разве я злюсь? Завидую? Желаю ему зла? Нисколько, я только готов плакать, что это воспоминание, которое могло бы быть светлым, только давит меня. Припоминаю Ваши слова, что люди, которые слишком хорошо нас знают, естественно не любят нас. Но это бывает иначе. Можно при (долгом) близком знакомстве узнать в человеке черту, за которую ему потом будешь все прощать. Движение истинной доброты, искра настоящей сердечной теплоты, даже одна минута настоящего раскаяния — может все загладить; и если бы я вспомнил что-нибудь подобное у Д., я бы простил его и радовался бы на него. Но одно возведение себя в прекрасного человека, одна головная и литературная гуманность — Боже, как это противно! Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал себя счастливцем, героем и нежно любил одного себя. Так как я про себя знаю, что могу возбуждать сам отвращение, и научился понимать и прощать в другом это чувство, то я думал, что найду выход и по отношению к Д. Но не нахожу и не нахожу! Вот маленький комментарий к моей Биографии; я мог бы записать и рассказать и эту сторону в Д.; много случаев рисуется мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее; но пусть эта правда погибнет, будем щеголять одною лицевою стороною жизни, как мы это делаем везде и во всем!"
Знакомый Тургенева И. И. Ясинский писал в мемуарах, что эпизод с баней — это устный рассказ, выдуманный Достоевским, чтобы мистифицировать Медведева. Как-то раз Достоевский пришел к Тургеневу, чтобы покаяться якобы в совершенном им преступлении: "Ах, Иван Сергеевич, я пришел к вам, дабы высотою ваших этических взглядов измерить бездну моей низости!" И когда Тургенев пришел в негодование от, рассказа, Достоевский, уходя, сказал: "А ведь это я все изобрел, Иван Сергеевич, единственно из любви к вам и для вашего развлечения". По словам И. И. Ясинского, Тургенев, уже после ухода Достоевского, пришел к выводу, что Федор Михайлович весь этот эпизод выдумал. Но, возможно, Тургенев заподозрил, что что-то подобное в жизни Достоевского имело место, и отсюда — замечания Тургенева о сходстве Достоевского с маркизом де Садом.
Анна Григорьевна так прокомментировала утверждения Страхова:
"Письмо Н. Н. Страхова возмутило меня до глубины души. Человек, десятки лет бывавший в нашей семье, испытавший со стороны моего мужа такое сердечное отношение, оказался лжецом, позволившим себе взвести на него такие гнусные клеветы! Было обидно за себя, за свою доверчивость, за то, что оба мы с мужем так обманулись в этом недостойном человеке.
Меня удивило, в письме Н. Н. Страхова, что "все время писанья (Воспоминаний) он боролся с подымавшимся в нем отвращением". Но зачем же, чувствуя отвращение к взятому на себя труду и, очевидно, не уважая человека, о котором взялся писать, Страхов не отказался от этого труда, как сделал бы на его месте всякий уважающий себя человек? Не потому ли, что не желал поставить меня, издательницу, в затруднительное положение в деле приискания биографа? Но ведь биографию взял на себя писать Ор. Ф. Миллер, да и имелись в виду другие литераторы (Аверкиев, Случевский), написавшие ее для дальнейших изданий.
Страхов говорит в своем письме, что Достоевский был зол, и в доказательство приводит глупенький случай с кельнером, которым он будто бы "помыкал". Мой муж, из-за своей болезни, был иногда очень вспыльчив, и возможно, что он закричал на лакея, замедлившего подать ему заказанное кушанье (в чем другом могло бы выразиться "помыкание" кельнера?), но это означало не злость, а лишь нетерпеливость. И как неправдоподобен ответ слуги: "Я ведь тоже человек!" В Швейцарии простой народ так груб, что слуга, в ответ на обиду, не ограничился бы жалостными словами, а сумел и посмел бы ответить сугубою дерзостью, вполне рассчитывая на свою безнаказанность.
Не могу понять, как у Страхова поднялась рука написать, что Федор Михайлович был "зол" и "нежно любил одного себя"? Ведь Страхов сам был свидетелем того ужасного положения, в которое оба брата Достоевские были поставлены запрещением "Времени", происшедшим благодаря неумело написанной статье ("Роковой вопрос") самого же Страхова. Ведь не напиши Страхов такой неясной статьи, журнал продолжал бы существовать и приносить выгоды и после смерти М. М. Достоевского, на плечи моего мужа не упали бы все долги по журналу и не пришлось бы ему всю свою остальную жизнь так мучиться из-за уплаты взятых на себя по журналу обязательств. Поистине можно сказать, что Страхов был злым гением моего мужа не только при его жизни, но, как оказалось теперь, и после его смерти. Страхов был очевидцем и того, что Федор Михайлович долгое время помогал семье своего умершего брата М. М. Достоевского, своему больному брату Николаю Михайловичу и пасынку ПА. Исаеву. Человек со злым сердцем, любивший одного себя, не взял бы на себя трудно выполнимых денежных обязательств, не взял бы на себя и заботу о судьбе родных. И вот, зная мельчайшие подробности жизни Федора Михайловича, сказать про него, что он был "зол" и "нежно любил одного себя", было со стороны Страхова полною недобросовестностью.
Со своей стороны, я, прожившая с мужем четырнадцать лет, считаю своим долгом засвидетельствовать, что Федор Михайлович был человеком беспредельной доброты. Он проявлял ее в отношении не одних лишь близких ему лиц, но и всех, о несчастии, неудаче или беде которых ему приходилось слышать. Его не надо было просить, он сам шел со своею помощью. Имея влиятельных друзей (К. П. Победоносцева, Т. И. Филиппова, И. А. Вышнеградского), муж пользовался их влиянием, чтобы помочь чужой беде. Скольких стариков и старух поместил он в богадельни, скольких детей устроил в приюты, скольких неудачников определил на места! А сколько приходилось ему читать и исправлять чужих рукописей, сколько выслушивать откровенных признаний и давать советы в самых интимных делах. Он не жалел ни своего времени, ни своих сил, если мог оказать ближнему какую-либо услугу. Помогал он и деньгами, а если их не было, ставил свою подпись на векселях и, случалось, платился за это. Доброта Федора Михайловича шла иногда вразрез с интересами нашей семьи, и я подчас досадовала, зачем он так бесконечно добр, но я не могла не приходить в восхищение, видя, какое счастье для него представляет возможность сделать какое-либо доброе дело.
Страхов пишет, что Достоевский был "завистлив". Но кому же он завидовал? Все, интересующиеся русскою литературой, знают, что Федор Михайлович всю жизнь благоговел пред гением Пушкина и лучшею статьею, возвеличившею великого поэта, была Пушкинская речь, произнесенная им в Москве при открытии ему Памятника.
Отношения моего мужа к Тургеневу в юности были восторженные. В письме к брату от 16 ноября 1845 года он пишет про Тургенева: "Но, брат, что это за человек! Я тоже едва ль не влюбился в него. Поэт, талант, аристократ, красавец, богач, умен, образован, 25 лет, — я не знаю, в чем природа отказала ему? Наконец, характер неистощимо прямой, прекрасный, выработанный в доброй школе"… Впоследствии Федор Михайлович разошелся с ним в убеждениях, но Тургенев в письме своем от 28 марта (9 апреля) 1877 года писал: "Я решился написать Вам это письмо, несмотря на возникшие между нами недоразумения, вследствие которых наши личные отношения прекратились. Вы, я уверен, не сомневаетесь в том, что недоразумения эти не могли иметь никакого влияния на мое мнение о Вашем первоклассном таланте и о том высоком месте, которое Вы по праву занимаете в нашей литературе"… В 1880 году на московском празднестве, говоря о пушкинской Татьяне, Федор Михайлович сказал: "Такой красоты положительный тип русской женщины почти уже не повторялся в нашей художественной литературе — кроме разве образа Лизы в "Дворянском гнезде" Тургенева"…
Но еще более вопиющею несправедливостью были слова Страхова, что мой муж был "развратен", что "его тянуло к пакостям, и он хвалился ими". В доказательство Страхов приводит сцену из романа "Бесы", которую "Катков не хотел печатать, но Достоевский здесь ее читал многим".
Федору Михайловичу для художественной характеристики Николая Ставрогина необходимо было приписать герою своего романа какое-либо позорящее его преступление. Эту главу романа Катков действительно не хотел напечатать и просил автора ее изменить. Федор Михайлович был огорчен отказом и, желая проверить правильность впечатления Каткова, читал эту главу своим друзьям: К. П. Победоносцеву, А. Н. Майкову, Н. К. Страхову и др., но не для похвальбы, как объясняет Страхов, а прося их мнения и как бы суда над собой. Когда же все они нашли, что сцена "чересчур реальна", то муж стал придумывать новый варьянт этой необходимой, по его мнению, для характеристики Ставрогина сцены. Варьянтов было несколько, и между ними была сцена в бане (истинное происшествие, о котором мужу кто-то рассказывал). В сцене этой принимала преступное участие "гувернантка", и вот ввиду этого, лица, которым муж рассказывал варьянт (в том числе и Страхов), прося их совета, выразили мнение, что это обстоятельство может вызвать упреки Федору Михайловичу со стороны читателей, будто он обвиняет в подобном бесчестном деле "гувернантку" и идет таким образом против так называемого "женского вопроса", как когда-то упрекали Достоевского, что он, выставив убийцей студента Раскольникова, будто бы тем самым обвиняет в подобных преступлениях наше молодое поколение, студентов.
И вот этот варьянт романа, эту гнусную роль Ставрогина, Страхов, в злобе своей, не задумался приписать самому Федору Михайловичу, забыв, что исполнение такого изощренного разврата требует больших издержек и доступно лишь для очень богатых людей, а мой муж всю свою жизнь был в денежных тисках. Ссылка Страхова на профессора ПА Висковатова для меня тем поразительнее, что профессор никогда у нас не бывал; Федор же Михайлович имел о нем довольно легковесное мнение…
С своей стороны, я могу засвидетельствовать, что, несмотря на иногда чрезвычайно реальные изображения низменных поступков героев своих произведений, мой муж всю жизнь оставался чуждым "развращенности". Очевидно, большому художнику благодаря таланту не представляется необходимым самому проделывать преступления, совершенные его героями, иначе пришлось бы признать, что Достоевский сам кого-нибудь укокошил, если ему удалось так художественно изобразить убийство двух женщин Раскольниковым.
С глубокою благодарностью вспоминаю я, как относился Федор Михайлович ко мне, как оберегал меня от чтения безнравственных романов и как возмущался, когда я, по молодости лет, передавала ему слышанный от кого-либо скабрезный анекдот. В своих разговорах муж мой всегда был очень сдержан и не допускал циничных выражений. С этим, вероятно, согласятся все лица, его помнящие.
Прочитав клеветническое письмо Страхова, я решила протестовать. Но как это сделать? Для возражения против письма было упущено время: появилось оно в октябре 1913 года, я же узнала о нем почти через год. Да и что такое значит возражение, помещенное в газетах? Оно затеряется в текущих новостях, забудется, да и многими ли будет прочтено? Я стала советоваться с моими друзьями и знакомыми, из которых некоторые знавали моего покойного мужа. Мнения их разделились. Одни говорили, что к этим гнусным клеветам надо отнестись с презрением, которое они заслуживают. Говорили, что значение Федора Михайловича в русской и всемирной литературе настолько высоко, что клеветы не повредят его светлой памяти; указывали и на то, что появление письма не вызвало даже никаких толков в текущей литературе, до того большинству пишущих была ясна клевета и понятен клеветник Другие говорили, что, напротив, мне необходимо протестовать, помня пословицу: "Calomniez, calomniez, il en reste toujours quelque chose!" "Клевещите, клевещите, что-нибудь да останется!" (франц.) Говорили, что из того обстоятельства, что я, посвятившая всю свою жизнь служению мужу и его памяти, не нашла возможным опровергнуть клевету, могут вывести, что в ней заключалось что-нибудь верное. Мое молчание явилось бы как бы подтверждением клеветы.
Многие, возмущенные письмом Страхова, находили, однако, что одно мое опровержение недостаточно. Что следует друзьям и лицам, с добрым чувством помнящим Федора Михайловича, написать протест против взведенных на него Страховым клевет. Некоторые лица взяли на себя труд составления протеста и собирание подписей. Другие лица захотели выразить свое возмущение отдельными письмами. Многие из друзей моих высказали мнение, что, в противовес клевете, следовало бы приложить к протесту статьи (воспоминания), которые разновременно были напечатаны в журналах и рисуют Федора Михайловича, как необычайно доброго и отзывчивого человека. Следуя совету друзей, присоединяю как протест, так и статьи к моим воспоминаниям.
Говоря со многими лицами по поводу этого злосчастного, так омрачившего последние мои годы письма, я спрашивала, как они представляют себе, — что побудило Страхова написать его письмо? Большинство склонялось к тому, что это было "jalousie de metier" — "профессиональная зависть" (франц.), столь обычное в литературном мире; что, вероятно, Федор Михайлович по своей искренности, а может быть, и резкости, обидел Страхова (последний и сам говорит об этом), и вот явилось желание отомстить, хотя бы и умершему. Высказать свое мнение печатно Страхов не посмел, так как знал, что вызовет против себя слишком много защитников памяти Достоевского, а ссориться с людьми было не в характере Страхова. Одно из лиц, близко знавшее Страхова, высказало мне мысль, что своим письмом он хотел "очернить, принизить" Достоевского в глазах Толстого. Когда я усомнилась в этом предположении, мой собеседник высказал свое мнение о Страхове довольно оригинальное:
"Кто, в сущности, был Страхов? Это исчезнувший в настоящее время тип "благородного приживальщика", каких было много в старину. Вспомните, он месяцами гостит у Толстого, у Фета, у Данилевского, а по зимам ходит до определенным дням обедать к знакомым и переносит слухи и сплетни из дома в дом. Как писатель-философ он был мало кому интересен, но он был всюду желанный гость, так как всегда мог рассказать что-нибудь новое о Толстом, другом которого он считался. Дружбою этою он очень дорожил, и, будучи высокого о себе мнения, возможно, что считал себя опорою Толстого. Каково же могло быть возмущение Страхова, когда Толстой, узнав о смерти Достоевского, назвал усопшего своей "опорой" и высказал искреннее сожаление, что не встречался с ним. Возможно, что Толстой часто восхищался талантом Достоевского и говорил о нем, и это коробило Страхова, и, чтоб пресечь это восхищение, он решил взвести на Достоевского ряд клевет, чтобы его светлый образ потускнел в глазах Толстого. Возможно, что у Страхова была и мысль отомстить Достоевскому за нанесенные когда-то обиды, очернив его пред потомством, так как, видя, каким обаянием пользуется его гениальный друг, он мог предполагать, что впоследствии письма Толстого и его корреспондентов будут напечатаны, и хоть чрез много-много лет злая цель его будет достигнута".
Не разделяя исключительное мнение моего собеседника, я закончу этот тяжелый эпизод моей жизни словами письма Страхова: "в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости"…
Мне всю жизнь представлялось некоторого рода загадкою то обстоятельство, что мой добрый муж не только любил и уважал меня, как многие мужья любят и уважают своих жен, но почти преклонялся предо мною, как будто я была каким-то особенным существом, именно для него созданным, и это не только в первое время брака, но и во все остальные годы до самой его смерти. А ведь в действительности я не отличалась красотой, не обладала ни талантами, ни особенным умственным развитием, а образования была среднего (гимназического). И вот, несмотря на это, заслужила от такого умного и талантливого человека глубокое почитание и почти поклонение. (Лица, читавшие письма моего незабвенного мужа ко мне, не сочтут мои слова за бахвальство. (Прим. А. Г. Достоевской.)
Эта загадка для меня несколько выяснилась, когда я прочла примечание В. В. Розанова к письму Н. И. Страхова от 5 января 1890 года в книге "Литературные изгнанники". Выписываю это примечание:
"Никто, ни даже "друг", исправить нас не сможет; но великое счастье в жизни встретить человека совсем другой конструкции, другого склада, других всех воззрений, который, всегда оставаясь собою и нимало не вторя нам, не подделываясь (бывает!) к нам и не впутываясь своею душою (и тогда притворною душою!) в нашу психологию, в нашу путаницу, в нашу мочалку, — являл бы твердую стену и отпор нашим "глупостям" и "безумиям", какие у всякого есть. Дружба — в противоречии, а не в согласии. Поистине, Бог наградил меня, как учителем, Страховым: и дружба с ним, отношения к нему всегда составляли какую-то твердую стену, о которую — я чувствовал, что всегда могу на нее опереться или, вернее, к ней прислониться. И она не уронит и согреет".
Действительно, мы с мужем представляли собой людей "совсем другой конструкции, другого склада, других воззрений", но "всегда оставались собою", нимало не вторя и не подделываясь друг к другу, и не впутывались своею душою — я — в его психологию, он — в мою, и таким образом мой добрый муж и я — мы оба чувствовали себя свободными душой. Федор Михайлович, так много и одиноко мысливший о глубоких вопросах человеческой души, вероятно, ценил это мое невмешательство в его душевную и умственную жизнь, а потому иногда говорил мне: "Ты единственная из женщин, которая поняла меня!" (то есть то, что для него было важнее всего). Его отношения ко мне всегда составляли какую-то "твердую стену, о которую (он чувствовал это), что он может на нее опереться или, вернее, к ней прислониться. И она не уронит и согреет".
Этим объясняется, по-моему, и то удивительное доверие, которое муж мой питал ко мне и ко всем моим действиям, хотя все, что я делала, не выходило за пределы чего-нибудь обыкновенного.
Эти-то отношения с обеих сторон и дали нам обоим возможность прожить все четырнадцать лет нашей брачной жизни в возможном для людей счастье на земле".
Анна Григорьевна искренне полагала, что Достоевский может любить только так, как он любил ее. А в ней-то он как раз ценил стабильность, домашность, предсказуемость, можно даже сказать, бесстрастность. Последняя жена писателя не знала писем и дневников Аполлинарии Сусловой, из которых мы уже убедились, что сладострастие совсем не чуждо было Федору Михайловичу и любовная страсть могла захватить все его естество. Так что в образе Ставрогина отразились не только различные литературные и реальные прототипы, но и метания души самого Достоевского.
Психиатр H. A. Юрман утверждал: "Хотя Достоевский и не любил впоследствии говорить о своей жизни в Сибири, не любил, даже когда другие придавали этому особое значение, но каково ему было на каторге, какие душевные муки он на ней испытывал, видно из его письма к брату Андрею Михайловичу из Семипалатинска от 6 ноября 1854 г., в котором он пишет о своем пребывании на каторге: "а те 4 года считаю я за время, в которое я был похоронен живой и закрыт в гробу. Что за ужасное было это время, не в силах я рассказать тебе, друг мой. Это было страдание невыразимое, бесконечное, потому что всякий час, всякая минута тяготела, как камень, у меня на душе. Во все 4 года не было мгновения, в которое бы я не чувствовал, что я в каторге". Но та же каторга, со всеми ее ужасами, как выражается сам Достоевский, "много вывела и многое привила". Вывела, как я уже говорил, психастению, которую "как рукой сняло", и привила эпилептические припадки, которые не оставляли уже Достоевского в течение всей его последующей жизни. Хотя следует заметить, что психастенические черты характера в форме фобий, страхов наблюдались у Достоевского в течение всей его жизни, как это хорошо видно, например, из его писем к жене…
В 1845 году Достоевский пишет брату о "Минушках, Кларушках, Маринах и т. п.", которые "похорошели донельзя, но стоят страшных денег". "На днях Тургенев и Белинский разбранили меня в прах за беспорядочную жизнь", — прибавляет он. Об этом письме упоминает в своей книге и Мережковский. По поводу заключительных слов из того же письма: "я болен нервами и боюсь горячки или лихорадки нервической. Порядочно жить я не могу, до того я беспутен". Мережковский указывает не без иронии, что "почтительный и целомудренный биограф О. Ф. Миллер спешит сделать предположение, что "беспутство", о котором здесь идет речь, есть только денежная беспорядочность Федора Михайловича, но именно этою поспешностью оправдания поселяет сомнение в душе читателя"…"
Несомненно, еще до каторги у Достоевского была склонность к сладострастию, и он вел отнюдь не монашеский образ жизни. Да и позднее сексуальная составляющая жизни значила для него немало — вспомним хотя бы свидетельства А. П. Сусловой.
Историку и литератору Е. Н. Опочинину Достоевский говорил 23 декабря 1879 года: "Тут (то есть в отношениях между мужчиной и женщиной) одна из сторон непременно терпит, непременно бывает обижена, особенно если оба молоды: или юноша сходится с недостойной, часто даже прямо с негодной, женщиной и этим роняет и обижает себя, или, наоборот, негодяй, из поздних ранний, обманывает и обижает доверчивую женщину с чистой душой. Бывает, что дело становится и непоправимым. Бывает, что и прекрасный цветок обольют скверными помоями. Это уж всего хуже, а случается на каждом шагу. Вы знаете ли, что даже проститутку, вот такую — настоящую панельную проститутку, рублевую, мужчине легко обидеть, ибо в нем всегда больше извращенности".
Аналогичное свидетельство находим мы у С. В. Ковалевской, которая вспоминала: "Иногда Достоевский бывал очень реален в своей речи, совсем забывая, что говорит в присутствии барышень. Мать мою он порой приводил в ужас. Так, например, однажды он начал рассказывать сцену из задуманного им еще в молодости романа: герой — помещик средних лет, очень хорошо и тонко образованный, бывал за границей, читает умные книжки, покупает картины и гравюры. В молодости он кутил, но потом остепенился, обзавелся женой и детьми и пользуется общим уважением.
Однажды просыпается он поутру, солнышко заглядывает в окна его спальни; все вокруг него так опрятно, хорошо и уютно. И он сам чувствует себя таким опрятным и почтенным. Во всем теле разлито ощущение довольства и покоя. Как истый сибарит, он не торопится проснуться, чтобы подольше продлить это приятное состояние общего растительного благополучия.
Остановившись на какой-то средней точке между сном и бдением, он переживает мысленно разные хорошие минуты своего последнего путешествия за границу. Видит он опять удивительную полосу света, падающую на голые плечи св. Цецилии, в Мюнхенской галерее. Приходят ему тоже в голову очень умные места из недавно прочитанной книжки "о мировой красоте и гармонии".
Вдруг, в самом разгаре этих приятных грез и переживаний, начинает он ощущать неловкость — не то боль внутреннюю, не то беспокойство. Вот так бывает с людьми, у которых есть застарелые огнестрельные раны, из которых пуля не вынута: за минуту перед тем ничего не болело, и вдруг заноет старая рана, и ноет, ноет.
Начинает наш помещик думать и соображать: что бы это значило? Болеть у него ничего не болит; горя нет никакого. А на сердце точно кошки скребут, да все хуже и хуже.
Начинает ему казаться, что должен он что-то припомнить, и вот он силится, напрягает память… И вдруг действительно вспомнил, да так жизненно, реально, и брезгливость при этом такую всем своим существом ощутил, как будто вчера это случилось, а не двадцать лет тому назад. А между тем за все эти двадцать лет и не беспокоило это его вовсе.
Вспомнил он, как однажды, после разгульной ночи и подзадоренный пьяными товарищами, он изнасиловал десятилетнюю девочку.
Мать моя только руками всплеснула, когда Достоевский это проговорил.
— Федор Михайлович! Помилосердуйте! Ведь дети тут! — взмолилась она отчаянным голосом.
Я и не поняла тогда смысла того, что сказал Достоевский, только по негодованию мамы догадалась, что это должно быть что-то ужасное.
Впрочем, мама и Федор Михайлович скоро стали отличными друзьями. Мать его очень полюбила, хотя и приходилось ей подчас терпеть от него".
Комментируя процитированное выше письмо Н. Н. Страхова Л. Н. Толстому с описанием растления девочки, будто бы совершенного Достоевским, Н. А. Юрман утверждал: "Письмо исчерпывающее по полноте и определенности сведений. Достаточно было бы одного этого письма, чтобы можно было составить себе определенное мнение о патологичности характера Достоевского. Тут характерные для эпилептика злобность, завистливость, болезненное самолюбие, эгоцентризм, импульсивность поступков, которые он делал "совершенно по-бабьи, неожиданно", и наряду с этим резко выраженная наклонность к "сладкой сантиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям". Затем в области сексуальной "услаждение" обидами, наклонность хвалиться "пакостями", что Блох очень удачно называет "словесным эксгибиционизмом", "животное сладострастие" при отсутствии вкуса, "чувства женской красоты и прелести" и, наконец, случай "в бане с маленькой девочкой", которым Достоевский "похвалялся" перед Висковатовым. Правда, Булгаков говорит по поводу письма Страхова, что рассказ Достоевского Висковатову (представляющий аналогию с рассказом Тургеневу) о растлении девочки во всяком случае требует проверки, ибо мог быть "надрывом самоуничижения, — при болезненной сложности характера Достоевского возможна и прямая клевета на себя". Но даже сам Булгаков прибавляет — нет сомнения, что всеми "бесами", о которых рассказывает Достоевский в своем романе, был одержим он сам, во всей антиномичности своего духа". Да, наконец, не так уж это важно, был ли в данном случае "надрыв самоуничижения" или действительный факт, важно, как совершенно верно замечает Мережковский, что в воображении Достоевского могли возникать подобные образы. С другой стороны, Страхов, "моральным качествам" которого "отдает должное" тот же Булгаков, едва ли позволил бы себе называть Достоевского "развратным", говорить о его "животном сладострастии" на основании одного только случая с девочкой…"
Как уже указано выше, в "Бесах" была глава, где описывается растление Ставрогиным девочки, которую Катков не хотел печатать, но которую Достоевский, по словам Страхова, читал многим. В настоящее время эта глава опубликована (Документы по истории литературы и общественности, Выпуск первый. Ф. М. Достоевский. Издательство Центроархива. РСФСР. Москва, 1922). При сопоставлении всего вышеизложенного, мне кажется, получается яркий в сексуальном отношении облик. Да и сам Достоевский в этом отношении не щадил себя. "А хуже всего, что натура моя подлая и слишком страстная", — пишет он А. Майкову из Женевы 16–28 августа 1867 года по поводу своего проигрыша в рулетку в Бадене. "Везде-то и во всем я до последнего предела дохожу, всю жизнь за черту переходил", — пишет он дальше. Но если бы даже и не было всех только что приведенных биографических данных, то в самих произведениях Достоевского имеется такая масса описаний различного рода болезненных уклонений в сексуальной области, эти описания сделаны так тонко, верно в научном отношении, что только личное переживание их, страдание этими аномалиями и побуждало автора к описанию их и дало возможность выполнить это так гениально. Никакое знакомство, изучение по книгам, специальным руководствам не дало бы таких обширных, глубоких познаний в этой области, не говоря о том, что в некоторых случаях Достоевский значительно расширяет границы области сексуальных аномалий, внося от себя нечто новое, и все это в такой художественной форме. Многие его описания могут служить образцами, по которым можно изучать аномалии половой жизни.
Интересна оценка Достоевского в сексуальном отношении его женою А. Г. Достоевскою, которая считала его "одним из целомудреннейших людей" и была крайне огорчена мнением И. С. Тургенева, считавшего Достоевского циником и позволившего себе назвать его "русским маркизом де Садом". Еще больше возмущается А. Г. Достоевская выше приведенным письмом H. H. Страхова к Л. Н. Толстому, еще раз утверждая, что Достоевский "всю жизнь оставался чуждым "развращенности". Но, не говоря уже о чисто патологической ревности, примеры которой приводит сама А. Г. Достоевская в своих воспоминаниях, достаточно прочитать письма Достоевского к А. Г., чтобы убедиться, насколько мнение А. Г. Достоевской является неосновательным, пристрастным. В них поражает та пылкая страсть, которую проявляет Достоевский по отношению к своей жене, причем эта страсть с годами не только не охлаждалась, но, напротив, разгоралась все более и более. Это подтверждает и сам Достоевский, например, в письме от 15 июля 1877 г. он пишет: "целые 10 лет я был в тебя влюблен и все crescendo, и хоть и ссорился с тобой иногда, а все любил до смерти". Большинство писем к жене заканчивается самыми страстными излияниями. В конце письма от 4—16 августа 1879 г. Достоевский пишет: "целую тебя поминутно в мечтах моих всю, поминутно взасос. Особенно люблю то, про что сказано: и предметом сим прелестным, восхищен и упоен он. Этот предмет целую поминутно во всех видах и намерен целовать всю жизнь". В другом письме (от 7— 19 августа 1879 г.) Достоевский обещается "щипаться до тех пор, пока разлюблю". В письме от 16–28 августа 1879 г. Достоевский пишет о своем "постоянном, мало того: все более, с каждым годом, возрастающем, супружеском восторге". Письмо от 3–4 июня 1880 г. из Москвы заканчивается словами: "а я все вижу прескверные сны, кошмары каждую ночь, о том, что ты мне изменяешь с другими. Ей-Богу. Страшно мучаюсь". Следует добавить, что в некоторых письмах выражения страсти носили, по-видимому, настолько интимный характер, что А.Г. вынуждена была их зачеркнуть.
В. П. Свинцов также не без оснований указывает на "красноречивые признания В. В. Тимофеевой, писавшей о трагической тайне, которую Достоевский "навеки унес с собою" и которую "у людей, признающих святую свободу совести, нет даже права разгадывать". (Разгадывать и не будем, но совсем уж мельком, совсем попутно, чтобы не уклоняться от главной линии, заметим, что хорошо известная "зацикленность" Достоевского на теме так называемого ставрогинского греха вряд ли объяснима якобы пережитым в детстве потрясением, как это нынче принято авторитетно утверждать.)
Тот же автор полагает, что: "сама сцена сексуальной близости с Матрешей содержит неброские, но все же заметные знаки эротики с учетом неизбежных для времени и социальной среды ограничений, о которых уже говорилось. Ставрогин не просто посадил Матрешу к себе на колени, не просто целовал ее, как и она в какой-то момент "стала ужасно целовать сама". Он целовал ее ноги. Для Достоевского это был особый знак и одновременно едва ли не граница литературных приличий, за которые он не мог позволить себе выйти. Да и какие еще могли быть "детали" (уж не сексуальные ли позы?!), если и в таком скромном виде глава "У Тихона" в редакции "Русского вестника" была сочтена неприличной. И если даже усовершенствованные ее варианты доброжелательно настроенные к автору люди (А. Н. Майков, Н. Н. Страхов и другие) находили "чересчур реальными".
"…Федор Михайлович по какому-то поводу завел речь об отношениях между полами. Из особой горячности, с какой он говорил об этих отношениях, я вижу, что он как будто очень интересуется ими". E. H. Опочинин вспомнил: "Всего сполна не буду записывать: пожалуй, уж слишком откровенно".
Как отмечает В. П. Свинцов, "По первому впечатлению Ставрогина, Матреше было "лет четырнадцать"… В другом месте главы "У Тихона", а также в набросках к роману имеются иные возрастные указатели — от десяти до тринадцати лет. Эта "нерешительность" Достоевского в определении возраста Матреши сама по себе примечательна. Интересно, однако, что если первое впечатление Ставрогина соответствовало действительности, то его поступок по действовавшему в те времена "Уложению о наказаниях" был уголовно ненаказуем, он не мог быть квалифицирован как "растление". Таким образом, страхи Ставрогина (или Достоевского за Ставрогина?) не имели, так сказать, под собой юридического основания… Я имею в виду отдельно зафиксированную реплику "Миленький" в той части набросков, которая относится к исповеди Ставрогина. Откуда вдруг это странное "миленький"? По тире, которое здесь обозначает прямую речь, по простонародной, "бабьей", тональности, по ряду сопутствующих деталей можно с достаточной степенью вероятности предположить, что это слово было не чем иным, как сохранившимся в памяти Ставрогина обращением к нему Матреши в эпизоде их сексуальной близости".
"Вдруг лицо его преобразилось, глаза засверкали, как угли, на которые попал ветер мехов… Достоевский говорил быстро, волнуясь и сбиваясь…" Ну как не поверить этим словам из воспоминания В. В. Философова (в передаче 3. А. Трубецкой)? Значительно труднее поверить рассказу самого Достоевского, аутентичности его сюжета. К ранее высказанным сомнениям добавлю еще два.
Вспомним обстоятельства дела: маленького Федю "послали за отцом, но было уже поздно". Отец будущего писателя Михаил Андреевич Достоевский, штаб-лекарь Мариинской больницы и коллежский асессор, констатировав смерть девочки, как, впрочем, и сам факт сексуального насилия, не мог, не имел права не уведомить о происшедшем полицию. Почему же ни в уголовной хронике тех лет, ни в полицейских архивах не обнаруживается никаких свидетельств об этом преступлении, по тем временам гораздо более неординарном, нежели в наши печальные дни? Это во-первых. Во-вторых, слабо верится в сам тот факт, что результатом сексуального насилия стала смерть (да еще и чуть ли не мгновенная) девочки в возрасте 10–12 лет".
Один из таких случаев, имевший место в середине 60-х годов, весьма показателен. В доме Корвин-Круковских, в присутствии двух сестер (к старшей Достоевский был, вероятно, неравнодушен) и их матери, он делился замыслом нового романа, в котором молодой помещик изнасиловал десятилетнюю девочку. Как вспоминала впоследствии младшая из сестер, в замужестве Ковалевская, известный русский математик, Достоевский настолько увлекся рассказом, что перешел границы приличия и вызвал возмущенную реплику хозяйки дома.
В одной из бесед с Е. Н. Опочининым Достоевский, размышляя вслух о разного рода сексуальных аномалиях, рассказал о случае некрофилии, свидетелем которого он якобы был. Примечательно, что первый публикатор опочининских "Бесед с Достоевским" в 1936 году, Ю. Верховский, не решился включить этот художественно отработанный рассказ в текст мемуаров — и, по-видимому, именно по причине рискованности самого предмета. Рассказ не входил и в дважды изданный двухтомник "Достоевский в воспоминаниях современников" (1964 и 1990). Впервые он был опубликован лишь в 1992 году в "Новом мире". В беседе с Опочининым Достоевский также говорит о человеке вообще: "В этом отношении (т. е. в половом) столько всяких извращений, что и не перечтешь… Я думаю, однако же, что всякий человек до некоторой меры подвержен такой извращенности, если не на деле, то хотя бы мысленно… Только никто не хочет в этом сознаваться". Несомненно, к "всяким людям" Достоевский причислял и себя.
В. В. Тимофеева, корректор журнала "Гражданин", где Достоевский в начале 70-х годов был редактором, вспоминала "о трагедии неугомонной и неподкупной религиозной совести, в которой палач и мученик таинственно сливаются иногда воедино", причем "тайны этой трагедии" Достоевский, по ее словам, "навеки унес с собой".
Когда Достоевский слушал смертный приговор на Семеновской площади Петербурга в декабре 1849-го, он, по его собственному признанию, раскаивался "в иных тяжелых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат в тайне на совести)". В. П. Свинов полагает, что все эти свидетельства можно интерпретировать в плане осознания Достоевским какого-то греха молодости, еще до ареста по делу петрашевцев: "Итак, снова тайна, да еще и связанная с тяжелыми делами, которые лежат на совести всю жизнь. Слишком серьезные, слишком значительные слова, чтобы считать их общим местом, всего лишь приличествующей ситуации риторикой. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем, в чем состояла трагическая тайна Достоевского, которую он "навеки унес с собой". Об этом мог знать разве что священник Владимирской церкви, исповедовавший Достоевского перед смертью. (Отец Мегорский, если верить воспоминаниям Анны Григорьевны…)"
И тот же Свинцов верно указывает, что "в тексте главы "У Тихона" нет ни малейшего намека на сексуальное насилие. Ставрогин обманул, совратил, обольстил Матрешу, воспользовался ее мгновенной влюбленностью в "барина", человека из другого, из высокого, из недоступного мира. Разумеется, и это скверно (не говоря уж о страшном финале — самоубийстве Матреши). Однако насилия не было. Насилие существовало лишь в замысле, в черновых набросках к "Бесам", где действительно говорится, что "князь" (черновая ипостась Ставрогина) "изнасиловал ребенка". Строго говоря, по впечатлению Ставрогина, Матреше было четырнадцать, но тогда его поступок даже не считался растлением по действовавшему тогда уголовному законодательству, и Николаю Всеволодовичу оставались только вечные нравственные муки, но никак не угроза уголовного наказания.
Ставрогин не может раскаяться до конца, не может совладать со своими страстями. Осознание прежних грехов не мешает ему творить новые. И самоубийство для него становится лучшим выходом. Этот последний грех избавляет окружающий мир от того зла, которое он, вольно или невольно, несет с собой. В частности, "гражданин кантона Ури" предпочитает повторить судьбу Иуды, но не увлекать с собой в омут страстей Дарью Шатову, готовую следовать с ним хоть на край света. По оценке С. Н. Булгакова, "Ставрогина нет, ибо им владеет дух небытия, и он сам знает о себе, что его нет, отсюда вся его мука, вся странность его поведения, эти неожиданности и эксцентричности, которыми он хочет как будто самого себя разубедить в своем небытии; а равно и та гибель, которую он неизбежно и неотвратимо приносит существам, с ним связанным".
Вячеслав И. Иванов в статье "Достоевский и роман-трагедия" подметил тесную связь главных героев "Бесов" с образами гетевского "Фауста": "Достоевский хотел показать в "Бесах", как Вечная Женственность в аспекте русской Души страдает от засилия и насильничества "бесов", искони борющихся в народе с Христом за обладание мужественным началом народного сознания. Он хотел показать, как обижают бесы, в лице Души русской, самое Богородицу (отсюда символический эпизод поругания почитаемой иконы), хотя до самих невидимых покровов Ее досягнуть не могут (символ нетронутой серебряной ризы на иконе Пречистой в доме убитой Хромоножки). Задумав основать роман на символике соотношений между Душою Земли, человеческим я, дерзающим и зачина-тельным, и силами Зла, Достоевский естественно должен был оглянуться на уже данное во всемирной поэзии изображение того же по символическому составу мифа — в "Фаусте" Гете. Хромоножка заняла место Гретхен, которая, по разоблачениям второй части трагедии, тожественна и с Еленою, и с Матерью-Землей; Николай Ставрогин — отрицательный русский Фауст, — отрицательный потому, что в нем угасла любовь и с нею угасло то неустанное стремление, которое спасает Фауста; роль Мефистофеля играет Петр Верховенский, во все важные мгновения возникающий за Ставрогиным с ужимками своего прототипа. Отношение между Гретхен и Mater Gloriosa — то же, что отношение между Хромоножкою и Богоматерью. Ужас Хромоножки при появлении Ставрогина в ее комнате предначертан в сцене безумия Маргариты в тюрьме. Ее грезы о ребенке почти те же, что бредовые воспоминания гетевской Гретхен…
Мне не надобен нов-высок терем,
Я останусь в этой келейке;
Уж я стану жить, спасатися
За тебя Богу молитися.
Эта песня Хромоножки — песня русской Души, таинственный символ ее сокровенного келейничества. Она молится о возлюбленном, чтобы он пребыл верен — не столько ей самой, сколько своему Богоносному назначению, и терпеливо ждет его, тоскуя и спасаясь — ради его спасения. У Гете Гретхен песнею о старом короле, когда-то славном на крайнем Западе, в ultima Thule, и о его кубке также обращает к отсутствующему возлюбленному чаровательное напоминание о верности.
Та, кто поет песню о келейничестве любви, — не просто "медиум" Матери-Земли… но и символ ее: она представляет в мифе Душу Земли русской. И недаром она — без достаточных прагматических оснований — законная жена протагониста трагедии, Николая Ставрогина. И недаром также она вместе и не жена ему, но остается девственною: "князь мира сего" господствует над Душою Мира, но не может реально овладеть ею, — как не муж Самаритянки четвертого Евангелия тот, кого она имеет шестым мужем. Ставрогина же ясновидящая, оправившись от первого ужаса, упрямо величает "князем", противополагая ему в то же время подлинного "его".
"Виновата я, должно быть, перед ним в чем-нибудь очень большом, — вот не знаю только, в чем виновата, вся в этом беда моя ввек… Молюсь я, бывало, молюсь, и все думаю про вину мою великую перед ним".
Этот другой, светлый князь — герой-богоносец, в лице которого ждет юродивая духовидица самого Князя Славы. И уже хромота знаменует ее тайную Богоборческую вину — вину какой-то изначальной нецельности, какого-то исконного противления Жениху, ее покинувшему, как Эрос покидает Психею, грешную неким первородным грехом естества перед божественною Любовью.
"Как, разве вы не князь?.. Всего от врагов его ожидала, но такой дерзости никогда! Жив ли он? Убил ты его или нет, признавайся!.. Говори, самозванец, много ли взял? За большие ли деньги согласился… Гришка Отрепьев, анафема!"
"Сова слепая", "сыч" и "плохой актер", Гришка Отрепьев, "проклятый на семи соборах", христопродавец и сам дьявол, подменивший собою (загубивший, быть может, — во всяком случае, как-то предавший) "сокола ясного", который "где-то там, за горами, живет и летает, на солнце взирает", — вот "дурной сон", приснившийся Хромоножке перед приходом Ставрогина и вторично переживаемый ею в бреду пророческом — уже наяву.
Но кто же Николай Ставрогин? Поэт определенно указывает на его высокое призвание; недаром он носитель крестного имени ("ставрос" — крест). Ему таинственно предложено было некое царственное помазание. Он — Иван-царевич; все, к нему приближающиеся, испытывают его необычайное, нечеловеческое обаяние. На него была излита благодать мистического постижения последних тайн о Душе народной и ее ожиданиях Богоносца. Он посвящает Шатова и Кириллова в начальные мистерии русского мессианизма. Но сам, в какое-то решительное мгновение своего скрытого от нас и ужасного прошлого, изменяет даруемой ему святыне. Он дружится с сатанистами, беседует с Сатаной, явно ему предается. Отдает ему свое я, обещанное Христу, и оказывается опустошенным, — до предварения еще при жизни "смерти второй", до конечного уничтожения личности в живом теле. Он нужен злым силам своею личиною, — нужен, как сосуд их воли и проявитель их действия; своей же воли уже вовсе не имеет. Изменник перед Христом, он неверен и Сатане. Ему должен он предоставить себя, как маску, чтобы соблазнить мир самозванством, чтобы сыграть роль лже-Царевича, — и не находит на то в себе воли. Он изменяет революции, изменяет и России (символы: переход в чужеземное подданство и, в особенности, отречение от своей жены, Хромоножки). Всем и всему изменяет он и вешается, как Иуда, не добравшись до своей демонической берлоги в угрюмом горном ущелье. Но измена Сатане не лишает его страдательной роли восприимчивого проводника и носителя сатанинской силы, которая овладевает вокруг него и через него стадом одержимых. Они — стадо, потому что изо всех них как бы вынуто Я: парализовано в них живое Я и заменено чуждою волей. Лишь двое людей, отмеченных Ставрогиным, своего Я не отдали и от стада отделились: это — Кириллов и Шатов. Как же распорядились они своим Я?
Кириллов утверждает свое Я для себя, в замкнутости личного отъединения, но Христу им не жертвует, хотя Христа как-то знает и любит. Он сам хочет стать Богом: ведь был же Богом Христос!.. Кириллов все чай пьет по ночам; чаепитие — симптом русского медитативного идеализма… Христос смерти не убоялся, — не убоится и Кириллов. Для этого надлежит ему взойти на одинокую Голгофу своевольного дерзновения — убить самого себя, ради себя же… И обезумев от разрыва всех вселенских связей, он совершает, в пустынной гордыне духа, свою антихристову, свою антиголгофскую жертву, Богочеловек наизнанку — "человеко-бог", захотевший сохранить свою личность и ее погубивший, воздвигнуть сыновство на отрицании отчества, на небытии (seine Sach auf Nichts).
Шатов также не отдал своего Я бесам, за что и был ими растерзан. Свое Я пожелал он слить с Я народным, но зато и утвердить народное Я, как Христа. Он отшатнулся от бесов, но зашатался в вере народной. Признак неправого отношения Шатова ко Христу — в том, что через Него он не познал Отца. Он надумал, злоупотребив светлыми откровениями, почерпнутыми из отравленного колодца ставрогинской души, — что русский Христос — сам народ, долженствующий воплотить в своем грядущем мессии духовное и мужеское свое начало, чтобы провозгласить устами этого мессии и опять-таки самозванца: "я есмь жених". Мистик Шатов, поистине, не божество делает атрибутом народа, но народ возводит до Божества, как говорит сам. Пощечина его Ставрогину — черта необходимая: еретик казнит предательство своего ересиарха за то, что Ставрогин "Христом" русским стать не захотел, и веру Шатова обманул, и жизнь его разбил. Тем не менее, заслуга этого шатуна в том, что от одержимого стада он все же отшатнулся и в Душу Земли все же поверил: оттого и дружна с ним юродивая Мария Тимофеевна. "Шатушка" озарен, — через любовь к истинному Христу, пусть неправую и темную, но бессознательно коренящуюся в его народной стихии, — скользнувшим по нему отблеском некоей благости; он выступает великодушным, всепрощающим защитником и опекуном женской Души в ее грехе и уничижении (Marie) — и умирает мученической смертью.
Теургическая загадка, загаданная пророчественным творением Достоевского: как возможен Иван-Царевич, грядущий во имя Господне, — как возможен приход суженого Земли русской жениха-богоносца? И не таит ли в себе внутреннего противоречия само чаяние Богоносца? Ведь Христом помыслить его религиозно нельзя; но что же Богоносец, если не тот, кто отдал свое Я Христу и Христа вместил? Как религиозно преодолевается эта антиномия, составляющая корень русской трагедии? Как земля русская может стать Русью святой? Народ — церковью? Как невозможное для людей возможным становится для Бога?.. Достоевский начинает мечтать о таинственном посланнике старца Зосимы, одном из ожидаемых "чистых и избранных", — как о предуготовителе свершительного чуда, как о зачинателе "нового рода людей и новой жизни".
Достоевский писал по поводу Ставрогина: "Есть в таких натурах нечто от Стеньки Разина. Необъятная сила, непосредственно ищущая спокою, волнующаяся до страдания и с радостью бросающаяся во время исканий и странствий в чудовищные уклонения и эксперименты, может все же установиться на такой сильной идее, которая сумеет организовать эту беззаконную мощь "до елейной тишины".
Ставрогин в разговоре с Шатовым, который только что дал ему пощечину, заявляет:
"— Я вам только кстати замечу, как странность, — перебил вдруг Ставрогин, — почему это мне все навязывают какое-то знамя? Петр Верховенский тоже убежден, что я мог бы "поднять у них знамя", по крайней мере мне передавали его слова. Он задался мыслию, что я мог бы сыграть для них роль Стеньки Разина "по необыкновенной способности к преступлению", — тоже его слова.
— Как? — спросил Шатов, — "по необыкновенной способности к преступлению"?
— Именно.
— Гм. А правда ли, что вы, — злобно ухмыльнулся он, — правда ли, что вы принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу? Правда ли, что маркиз де Сад мог бы у вас поучиться? Правда ли, что вы заманивали и развращали детей? Говорите, не смейте лгать, — вскричал он, совсем выходя из себя, — Николай Ставрогин не может лгать пред Шатовым, бившим его по лицу! Говорите все, и если правда, я вас тотчас же, сейчас же убью, тут же на месте!
— Я эти слова говорил, но детей не я обижал, — произнес Ставрогин, но только после слишком долгого молчания. Он побледнел, и глаза его вспыхнули".
Здесь Николай Всеволодович, с одной стороны, пытается отмежеваться от некоторых, наиболее экстремистских замыслов Петра Верховенского. С другой стороны, Николай Всеволодович фактически признается не только в своем сладострастии и разврате, но и в том ужасном поступке, который он совершил по отношению к Матреше. По реакции Ставрогина Шатов должен был догадаться, что тот что-то нехорошее с девочками на самом деле делал.
Фамилия "Ставрогин" (от греч. "ставрос" — крест) намекает на то, что этот герой должен стать "русским Христом", но от слабости души не в состоянии справиться со своим высоким предназначением.
Непосредственным введением в сложную религиозно-философскую атмосферу исповеди Ставрогина может служить следующая характеристика этого персонажа, относящаяся к весне — лету 1871 года: "Князь понимает, что его мог бы спасти энтузиазм (н(а)пр(имер), монашество, самопожертвование исповедью). Но для энтузиазма недостает нравственного чувства (частию от неверия). "Ангелу Сардийской церкви напиши". Частию от буйных телесных инстинктов. Из гордой иронии на несовладание с самим собою — он женился… Из страсти к мучительству — изнасиловал ребенка. Страсть к угрызениям совести… Страстность — Лиза. Овладев ею — убивает Хромоножку. С убийством Шатова — порыв сумасшествия (речи, молебны), и повесился. Тоска. Но главное все-таки — безверие. Ужас к самому себе: н(а)пр(имер), от сознания наслаждения в страдании других. Князь говорит Тихону прямо, что иногда он глубоко страждет укорами совести, иногда же эти укоры обращаются ему в наслаждение. (Булавки под ногтями у ребенка.) Не на что опереться нравственному чувству. Тихон прямо ему: "Почвы нет. Иноземное воспитание. Полюбите народ, святую веру его. Полюбите до энтузиазма".
Но Ставрогин полюбить не может и гибнет.
В письме к своей племяннице С. А. Ивановой от 6 (18) января 1871 года Достоевский объяснял отказ посвятить ей роман следующим обстоятельством: "Одно из главных лиц романа признается таинственно другому лицу в одном своем преступлении. Нравственное влияние этого преступления на это лицо играет большую роль в романе, преступление же, повторяю, хоть о нем и можно прочесть, но посвятить не годится".
Глава мыслилась Достоевским как бы идейным и композиционным центром романа. Но уже набранная, в корректуре, она была отвергнута редакцией журнала.
После возвращения из Москвы, где велись переговоры с редакцией "Русского вестника" по поводу забракованной главы, Достоевский писал С. А. Ивановой 4 февраля 1872 г.: "Вторая часть моих забот был роман. Правда, возясь с кредиторами, и писать ничего не мог; но по крайней мере, выехав из Москвы, я думал, что переправить забракованную главу романа так, как они хотят в редакции, все-таки будет не Бог знает как трудно. Но когда я принялся за дело, то оказалось, что исправить ничего нельзя, разве сделать какие-нибудь перемены самые мелкие. И вот в то время, когда я ездил по кредиторам, я выдумал, большею частию сидя на извозчиках, четыре плана и почти три недели мучился, который взять. Кончил тем, что все забраковал и выдумал перемену новую, то есть оставляя сущность дела, изменил текст настолько, чтоб удовлетворить целомудрие редакции. И в этом смысле пошлю им ultimatum. Если не согласятся, то уже я и не знаю, как сделать".
Дальнейшая судьба главы "У Тихона" выясняется из письма Достоевского к Н. А. Любимову (конец марта — начало апреля 1872 г.), из которого видно, что писатель к этому времени вновь выслал в Москву переделанную им главу.
"Мне кажется, — пишет Достоевский Н. А. Любимову, — то, что я Вам выслал (глава 1 — я "У Тихона"; 3 малые главы), теперь уже можно напечатать. Все очень скабрезное выкинуто, главное сокращено, и вся эта полусумасшедшая выходка достаточно обозначена, хотя еще сильнее обозначится впоследствии. Клянусь Вам, я не мог не оставить сущности дела, это целый социальный тип (в моем убеждении), наш тип, русский, человека праздного, не по желанию быть праздным, а потерявшего связи со всем родным и, главное, веру, развратного из тоски, но совестливого и употребляющего страдальческие судорожные усилия, чтоб обновиться и вновь начать верить. Рядом с нигилистами это явление серьезное. Клянусь, что оно существует в действительности. Это человек, не верующий вере наших верующих и требующий веры полной, совершенной, иначе… Но все объяснится еще более в 3-й части".
Целомудрие "Русского вестника", однако, так и не было удовлетворено, и глава "У Тихона" при жизни Достоевского не была напечатана.
Как писал Н. А. Бердяев в статье "Ставрогин", "поражает отношение самого Достоевского к Николаю Всеволодовичу Ставрогину. Он романтически влюблен в своего героя, пленен и обольщен им. Никогда ни в кого он не был так влюблен, никого не рисовал так романтично. Николай Ставрогин — слабость, прельщение, грех Достоевского. Других он проповедовал как идеи, Ставрогина он знает как зло и гибель. И все-таки любит и никому не отдаст его, не уступит его никакой морали, никакой религиозной проповеди. Николай Ставрогин — красавец, аристократ, гордый, безмерно сильный, "Иван Царевич", "принц Гарри", "Сокол"; все ждут от него чего-то необыкновенного и великого, все женщины в него влюблены, лицо его — прекрасная маска, он весь — загадка и тайна, он весь из полярных противоположностей, все вращается вокруг него, как солнца. И тот же Ставрогин — человек потухший, мертвенный, бессильный творить и жить, совершенно импотентный в чувствах, ничего уже не желающий достаточно сильно, неспособный совершить выбор между полюсами добра и зла, света и тьмы, неспособный любить женщину, равнодушный ко всем идеям, блазированный и истощенный до гибели всего человеческого, познавший большой разврат, ко всему брезгливый, почти неспособный к членораздельной речи. Под красивой, холодной, застывшей маской ставрогинского лика погребены потухшие страсти, истощенные силы, великие идеи, безмерные, безудержные человеческие стремления. В "Бесах" не дано прямой и ясной разгадки тайны Ставрогина. Чтобы разгадать эту тайну, нужно проникнуть глубже и дальше самого романа, в то, что было до его раскрывшегося действия. И тайну индивидуальности Ставрогина можно разгадать лишь любовью, как и всякую тайну индивидуальности. Постигнуть Ставрогина и "Бесы" как символическую трагедию можно лишь через мифотворчество, через интуитивное раскрытие мифа о Ставрогине как явлении мировом…
Мы встречаем Николая Ставрогина, когда нет у него уже никакой творческой духовной жизни. Он уже ни к чему не способен. Вся жизнь его в прошлом, Ставрогин — творческий, гениальный человек Все последние и крайние идеи родились в нем: идея русского народа-богоносца, идея человекобога, идея социальной революции и человеческого муравейника. Великие идеи вышли из него, породили других людей, в других людей перешли. Из духа Ставрогина вышел и Шатов, и П. Верховенский, и Кириллов, и все действующие лица "Бесов". В духе Ставрогина зародились и из него эманировали не только носители идей, но и все эти Лебядкины, Лутугины, все низшие иерархии "Бесов", элементарные духи. Из эротизма ставрогинского духа родились и все женщины "Бесов". От него идут все линии. Все живут тем, что было некогда внутренней жизнью Ставрогина. Все бесконечно ему обязаны, все чувствуют свое происхождение от него, все от него ждут великого и безмерного — и в идеях, и в любви. Все влюблены в Ставрогина, мужчины и женщины. П. Верховенский и Шатов не менее, чем Лиза и Хромоножка, все прельщены им, все боготворят его, как кумира, и в то же время ненавидят его, оскорбляют его, не могут простить Ставрогину его брезгливого презрения к собственным созданиям. Идеи и чувства Ставрогина отделились от него и демократизировались, вульгаризировались. И собственные ходячие идеи и чувства вызывают в нем отвращение, брезгливость. Николай Ставрогин прежде всего аристократ, аристократ духа и русский барин. Достоевскому был чужд аристократизм, и лишь через влюбленность свою в Ставрогина он постиг и художественно воспроизвел этот дух…
В чем же трагедия ставрогинского духа, в чем тайна и загадка его исключительной личности? Как понять бессилие Ставрогина, его гибель? Ставрогин остается неразрешимым противоречием и вызывает чувства противоположные. Приблизить к разрешению этой загадки может лишь миф о Ставрогине как творческой мировой личности, которая ничего не сотворила, но вся изошла, иссякла в эманировавших из нее "бесах". Это — мировая трагедия истощения от безмерности, трагедия омертвения и гибели человеческой индивидуальности от дерзновения на безмерные, бесконечные стремления, не знавшие границы, выбора и оформления. "Я пробовал везде мою силу… На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказалась беспредельною… Но к чему приложить эту силу — вот чего никогда не видел, не вижу и теперь… Я все так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовольствие… Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы; но я не люблю и не хотел разврата… Я никогда не могу потерять рассудок и никогда не могу поверить идее в той степени, как он (Кириллов). Я даже заняться идеей в той степени не могу". Так писал Николай Ставрогин о себе Даше. Но писал это он тогда, когда уже весь истощился, изошел, омертвел, перестал существовать, когда ничего уже не желал и ни к — чему не стремился. Ему дано было жизнью и смертью своей показать, что желать всего без выбора и границы, оформляющей лик человека, и ничего уже не желать — одно, и что безмерность силы, ни на что не направленной, и совершенное бессилие — тоже одно.
Этому творческому и знавшему безмерность желаний человеку не дано было ничего сотворить, не дано было просто жить, остаться живым. Безмерность желаний привела к отсутствию желаний, безграничность личности к угере личности, неуравновешенность силы привела к слабости, бесформенная полнота жизни к безжизненности и смерти, безудержный эротизм к неспособности любить. Ставрогин все испытал и перепробовал, как великие, крайние идеи, так и великий, крайний разврат и насмешливость. Он не мог сильно пожелать одного и одному отдаться. Ходят темные слухи о том, что он принадлежал к тайному обществу растления малолетних и что маркиз де Сад мог бы ему позавидовать. Бездарный Шатов, плебейски принявший великую идею Ставрогина, в исступлении допрашивает его, правда ли это, мог ли все это совершить носитель великой идеи? Он боготворит Ставрогина и ненавидит его, хочет убить его. Все с тем же жутким сладострастием безмерности Ставрогин берет ни в чем не повинного человека за нос или кусает ухо. Он ищет предельного, безмерного как в добре, так и в зле. Одного божественного ему казалось слишком мало, во всем ему нужно было перейти за пределы и границы в тьму, в зло, в дьявольское. Он не мог и не хотел сделать выбора между Христом и антихристом, Богочеловеком и человекобогом. Он утверждал и Того и другого разом, он хотел всего, всего добра и всего зла, хотел безмерного, беспредельного, безграничного. Утверждать только антихриста и отвергнуть Христа — это уже выбор, предел, граница. Но в духе Ставрогина жило и знание Богочеловека, и от Христа он не хотел отказаться в безмерности своих стремлений. Но утверждать разом и Христа и антихриста — значит все утерять, стать бедным, ничего уже не иметь. От безмерности наступает истощение. Николай Ставрогин — это личность, потерявшая границы, от безмерного утверждения себя потерявшая себя. И даже когда испытывает Ставрогин свою силу через самообуздание, через своеобразную аскезу (он вынес пощечину Шатова, хотел объявить о своем браке с Хромоножкой и мн. др.), он исходит, истощается в безмерности этого испытания. Его аскеза не есть оформление, не есть кристаллизация личности, в ней есть сладострастие. Разврат Ставрогина есть перелив личности за грани в безмерность небытия. Ему мало бытия, он хотел и всего небытия, полюса отрицательного не менее, чем полюса положительного. Жуткая безмерность небытия — соблазн разврата.
В нем есть прельщение смерти, как равносильной и равнопритягательной жизни. Метафизику разврата, бездонную глубину его тьмы Достоевский понимал, как ни один писатель мира. Разврат Ставрогина, его жуткое сладострастие, скрытое под маской бесстрастия, спокойствия, холодности, — глубокая метафизическая проблема. Это одно из выражений трагедии истощения от безмерности. В этом разврате сила переходит в совершенное бессилие, оргийность — в ледяной холод, в сладострастии истощается и гибнет всякая страсть. Беспредельный эротизм Ставрогина перелился в небытие. Его обратная сторона — окончательная импотенция чувств. Николай Ставрогин — родоначальник многого, разных линий жизни, разных идей и явлений. И русское декадентство зародилось в Ставрогине. Декадентство есть истощение Ставрогина, его маска. Огромная, исключительно одаренная личность Ставрогина не оформлена и не кристаллизована. Единственное ее оформление и кристаллизация — жуткая застывшая маска, призрачный аполлонизм. Под этой маской — безмерность и безудержность потухших и истощенных страстей и желаний.
Трагедия "Бесов" есть трагедия одержания, беснования. В ней раскрывает Достоевский метафизическую истерию русского духа. Все одержимы, все беснуются, все в корчах и в судороге. Один Ставрогин не беснуется — он жутко спокоен, мертвенно холоден, он застыл, утих, умолк. В этом вся суть "Бесов": Ставрогин породил этот бушующий хаос, из себя выпустил всех бесов и в беснование вокруг себя перелил свою внутреннюю жизнь, сам же замер, потух. Безмерность желаний Ставрогина вышла наружу и породила беснование и хаос. Он не совершил творческого акта, не перевел ни одного из своих стремлений в творческое действие, ему не было дано ничего сотворить и осуществить. Его личность расковалась, распылилась и изошла, иссякла в бесновании хаоса, бесновании идей, бесновании страстей, революционных, эротических, и просто мерзости человеческой. Личность, ничего не сотворившая, утеряла себя в эманировавших из нее бесах. Только подлинный творческий акт сохраняет личность, не истощает ее. Истощающая эманация ничего не творит и умерщвляет личность. И трагедия Ставрогина, как трагедия мировая, может быть связана с проблемами творчества и эманации. Все и все в "Бесах" есть эманация Ставрогина, его внутреннего хаоса безмерности. В этой эманации иссякли силы Ставрогина и перелились во всех и вся, в мужчин и женщин, в идейные страсти, в беснование революции, в беснование любви и ненависти. От самого же Ставрогина осталась лишь мертвая маска. Эта маска бродит среди порожденного некогда живым лицом беснования. Маска мертвеца-Ставрогина и беснование из него вышедших, им истощенных сил! Это перевоплощение Ставрогина в П. Верховенского, в Шатова, в Кириллова, даже в Лутугина и Лебядкина, и воплощение чувств его в Лизе, в Хромоножке, в Даше и есть содержание "Бесов". Ставрогин ни с кем не может соединиться, потому что все лишь его порождение, его собственный внутренний хаос. У Ставрогина нет его другого, нет выхода из себя, а есть лишь выходящие из него, лишь истощающая его эманация. Он не сохранил, не собрал своей личности. Выход из себя в другого, с которым совершается подлинное соединение, кует личность, укрепляет ее. Невозможность выйти из себя в творческом акте любви, познания или действия и истощение в собственных эманациях ослабляет личность и распыляет ее. Судьба Ставрогина есть распадение большой, творческой личности, которая вместо творчества новой жизни и нового бытия, творческого выхода из себя в мир истощилась в хаосе, потеряла себя в безграничности. Сила перешла не в творчество, а в самоистребление личности. И там, где огромная личность погибла и силу свою расточила, там началось беснование выпущенных сил, отделившихся от личности. Беснование вместо творчества — вот тема "Бесов". Это беснование совершается на могиле Ставрогина. "Бесы", как трагедия символическая, есть лишь феноменология духа Николая Ставрогина. Реально, объективно, и нет ничего и никого, кроме Ставрогина. Все — он, все — вокруг него. Он — солнце, истощившее свой свет.
И вокруг солнца потухшего, не излучающего уже ни света, ни тепла, вращаются все бесы. И все еще ждут от солнца света и тепла, предъявляют безмерные требования к своему источнику, тянутся к нему с бесконечной влюбленностью и ненавидят, и злобствуют, когда видят солнце потухшее и охлажденное. Одна Даша ничего не ждет, согласна быть сиделкой у постели больного и умирающего. Жизнь с Дашей, маленькая, бесконечно маленькая жизнь, и есть то, во что перешла истощенная безмерность стремлений, не знавшая границ и избраний, бесконечность желаний. Ставрогин обречен Даше. И есть глубокая правда, глубокое прозрение в том, что Ставрогин мог потянуться только к серой и прозаической, умеренной и аккуратной Даше, только около нее искать успокоение.
Очень замечательны эти переходы в противоположных оценках Ставрогина со стороны всех связанных с ним людей. Для всех образ Ставрогина двоится: для Хромоножки он то князь и сокол, то самозванец-купчик, стыдящийся ее; для П. Верховенского он то Иван Царевич, о котором пойдет легенда в русском народе, который станет во главе переворота, то развратный, бессильный, ни к чему не годный барчонок; и для Шатова он то великий носитель идеи русского народа-богоносца, который тоже призван стать во главе движения, то барич, развратник, изменник идее; то же двойственное отношение у Лизы, которая его обожает и ненавидит…
Только барин и аристократ мог бы быть Иваном Царевичем и поднять за собой народ. Но он никогда этого не сделает, не захочет этого сделать и не будет иметь силы этого сделать. Его не пленяет, не вдохновляет никакая демократизация собственных идей, ему противно и брезгливо встречаться с собственными идеями в других, в объективном мире и его движении. И реализация собственной любви, собственной эротической мечты нежеланна ему, почти отвратительна. Жизнь с Дашей лучше жизни с Лизой. Великие идеи и мечты вышли из барина и аристократа Ставрогина не потому, что он в мире совершил творческий акт, а потому, что он истощился от внутреннего хаоса. Порожденные им идеи и мечты персонифицировались и потребовали от него, чтобы он осуществил, реализовал то великое, что в нем зародилось, и негодуют и ненавидят, когда встречают истощенного, потухшего, бессильного, мертвого. Ставрогин все мог бы: он мог бы быть и Иваном Царевичем, и носителем идеи русского мессианизма, и человекобогом, побеждающим смерть, мог бы он и любить Лизу прекрасной, божественной любовью. И он ничего не может, ни на что не имеет силы; безмерность страстей и стремлений истощила его, нуменальное барство не позволило ему совершить тот акт жертвы, после которого начинается подлинное творчество. Он остался в себе и утерял себя, он не нашел своего другого и изошел в других, не своих. Он бессилен над выпущенными им бесами и духами, как злыми, так и добрыми. Он не знает заклинаний. Как бессилен Ставрогин перед Хромоножкой, которая оказывается выше его! У Хромоножки есть глубокие прозрения".
У Ставрогина также, несомненно, был один весьма древний прототип — былинный герой Ставр Годинович. Прототипом Ставра Годиновича, в свою очередь, послужил киевский боярин Ставр. Согласно Новгородской первой летописи, в 1118 году Владимир Мономах разгневался на новгородских бояр и "на сочьского на Ставра и заточи я вся". В "Поучении Владимира Мономаха" тоже названо имя Ставко Гордячича. А в 1960 году был обнаружен "автограф" Ставра, процарапавшего на стене киевского Софийского собора свое имя: Ставр Городятинич.
Как раз в 1860-е годы было опубликовано несколько новых текстов былины о Ставре Годиновиче. В частности, в 1862 году эта былина была помещена в IV выпуске "Песен, собранных П. В. Киреевским". А вот, например, текст былины "Ставр Годинович", опубликованной П. Н. Рыбниковым в 1861 году (он тоже наверняка был известен Достоевскому):
Во стольном было городе во Киеве,
У ласкова князя у Владимира,
Как было пированье, почестный пир
На многие князи, на бояры,
На всех гостей званых-браныих,
Званых-браных гостей, приходящиих.
Все на пиру наедалися,
Все на честном напивалися,
Все на пиру порасхвастались,
Иной хвалится добрым конем,
Иной хвалится шелковым портом,
Иной хвалится селами со приселками,
Иной хвалится городами с пригородками,
Иной хвалится родной матушкой,
А безумный хвастает молодой женой.
Из той из земли Ляховицкия
Сидел молодой Ставер сын Годинович,
Он сидит за столом, сам не хвастает.
Испрогуворил Владимир стольнокиевский:
"Ай же ты, Ставер сын Годинович!
Ты что сидишь, сам да не хвастаешь?
Аль нет у тебя сел со приселками,
Аль нет городов с пригородками,
Аль нет у тебя добрых кумоней,
Аль не славна твоя родна матушка,
Аль не хороша твоя молода жена?"
Говорит Ставер сын Годинович:
"Хотя есть у меня села со приселками,
Хотя есть города с пригородками, —
Да то мне молодцу не похвальба;
Хотя есть у меня добрых комоней,
Добры комони стоят, все не ездятся, —
Да то мне молодцу не похвальба;
Хоть славна моя родна матушка, —
Да и то мне молодцу не похвальба;
Хоть хороша моя молода жена, —
Так и то мне молодцу не похвальба:
Она всех князей-бояр да всех повыманит,
Тебя, солнышка Владимира, с ума сведет".
Все на пиру призамолкнули,
Сами говорят таково слово:
"Ты солнышко Владимир стольнокиевский!
Засадим-ка Ставра в погреба глубокие:
Так пущай-ка Ставрова молода жена
Нас князей-бояр всех повыманит.
Тебя, солнышка Владимира, с ума сведет,
А Ставра она из погреба повыручит!"
А и был у Ставра тут свой человек
Садился на Ставрова на добра коня,
Уезжал во землю Ляховицкую
Ко той Василисе Микуличне:
"Ах ты ей, Василиса дочь Микулична!
Сидишь ты, пьешь да прохлаждаешься,
Над собой невзгодушки не ведаешь:
Как твой Ставер да сын Годинович
Посажен в погреба глубокие;
Похвастал он тобой, молодой женой,
Что князей-бояр всех повыманит,
А солнышка Владимира с ума сведет".
Говорит Василиса дочь Микулична:
"Мне деньгами выкупать Ставра — не выкупить;
Мне силой выручать Ставра — не выручить;
Я могу ли нет Ставра повыручить
Своей догадочкою женскою!"
Скорешенько бежала она к фейлынарам,
Подрубила волоса по-молодецкому,
Накрутилася Васильем Микуличем.
Брала дружинушку хоробрую —
Сорок молодцов удалых стрельцов,
Сорок молодцов удалых борцов,
Поехала ко граду ко Киеву.
Не доедучи до града до Киева,
Пораздернула она хорош-бел шатер,
Оставила дружину у бела шатра,
Сама поехала ко солнышку Владимиру.
Бьет челом, поклоняется:
"Здравствуй, солнышко Владимир стольнокиевский
С молодой княгиней со Опраксией!"
Говорил Владимир стольнокиевский:
"Ты откудашний, удалый добрый молодец,
Ты коей орды, ты коей земли,
Как тебя именем зовут,
Нарекают тебя по отечеству?"
Отвечал удалый добрый мододец
"Что я есть из земли Ляховицкия,
Того короля сын Ляховицкого,
Молодой Василий Микулич-де;
Я приехал к вам о добром деле, о сватовстве
На твоей любимой на дочери".
Говорил Владимир стольнокиевский:
"Я схожу, со дочерью подумаю".
Приходит он ко дочери возлюбленной:
"Ах ты ей же, дочь моя возлюбленна!
Приехал к нам посол из земли Ляховицкия,
Того короля сын Ляховицкого,
Молодой Василий Микулич-де,
Об добром деле, об сватовстве
На тебе любимыя на дочери:
Что же мне с послом будет делати?"
Говорила дочь ему возлюбленна:
"Ты ей, государь родной батюшко!
Что у тебя теперь на разуме?
Выдаешь девчину сам за женщину!
Речь-погуворя — все по-женскому;
Перески тоненьки — все по-женскому;
Где жуковинья были, тут место знать;
Стегна жмет — все добра бережет".
Говорил Владимир стольнокиевский:
"Я схожу посла да поотведаю".
Приходит к послу земли Ляховицкия,
Молоду Василью Микуличу:
"Уж ты молодой Василий сын Микулич-де!
Не угодно ли с пути со дороженьки
Сходить тебе во парную во баенку?"
Говорил Василий Микулич-де:
"Это с дороги не худо бы!"
Стопили ему парну баенку.
Покуда Владимир снаряжается,
Посол той порой во баенке испарился,
С байны идет, ему честь отдает:
"Благодарствуй на парной на баенке!"
Говорил Владимир стольнокиевский:
"Что же меня в баенку не подождал?
Я бы в байну пришел — тебе жару поддал,
Я бы жару поддал и тебя обдал?"
Говорил Василий Микулич-де:
"Что ваше дело домашнее,
Домашнее дело, княженецкое;
А наше дело посольское, —
Недосуг нам долго чваниться,
Во баенке долго нам париться;
Я приехал об добром деле, об сватовстве
На твоей любимой на дочери".
Говорил Владимир стольнокиевский:
"Я схожу, с дочерью подумаю".
Приходит он ко дочери возлюбленной:
"Ты ей же, дочь моя возлюбленна!
Приехал посол земли Ляховицкия
Об добром деле, об сватовстве
На тебе любимой на дочери;
Что же мне с послом будет делати?"
Говорит как дочь ему возлюбленна:
"Ты ей, государь мой родной батюшко!
Что у тебя теперь на разуме?
Выдаешь девчину за женщину!
Речь-погуворя — все по-женскому;
Перески тоненьки — все по-женскому;
Где жуковинья были, тут место знать".
Говорил Владимир стольнокиевский:
"Я схожу посла да поотведаю".
Приходит ко Василью Микуличу,
Сам говорил таково слово:
"Молодой Василий Микулич-де!
Не угодно ли после парной тебе баенки
Отдохнуть во ложне во теплыя?" —
"Это после байны не худо бы!"
Как шел он во ложню во теплую,
Ложился на кровать на тесовую,
Головой-то ложился где ногам быть,
А ногами ложился на подушечку.
Как шел туда Владимир стольнокиевский,
Посмотрел во ложню во теплую:
Есть широкие плеча богатырские.
Говорит посол земли Ляховицкия,
Молодой Василий Микулич-де:
"Я приехал о добром деле, об сватовстве
На твоей любимой на дочери,
Что же ты со мной будешь делати?"
Говорил Владимир стольнокиевский:
"Я пойду, с дочерью подумаю".
Приходит ко дочери возлюбленной:
"Ай же, дочь моя возлюбленная!
Приехал посол земли Ляховицкия,
Молодой Василий Микулич-де,
За добрым делом, за сватовством
На тебе любимой на дочери;
Что же мне с послом будет делати?"
Говорила дочь ему возлюбленна:
"Ты ей, государь родной батюшко!
Что у тебя теперь на разуме?
Выдаешь девчину сам за женщину!"
Говорил Владимир стольнокиевский:
"Я схожу посла да поотведаю".
"Ах ты молодой Василий Микулич-де!
Не угодно ли с моими дворянами потешиться.
Сходить с ними на широкий двор,
Стрелять в колечко золоченое,
Во те в острия ножовые
Расколоть-то стрелочку надвое,
Чтобы были мерою равненьки и весом равны".
Стал стрелять стрелок перво князевый:
Первый раз стрелял, он не дустрелил,
Другой раз стрелил, он перейстрелил,
Третий раз стрелил, он не попал.
Как стал стрелять Василий Микулич-де,
Натягивал скоренько свой тугой лук,
Налагает стрелочку каленую,
Стрелял в колечко золоченое,
Во то острие во ножовое, —
Расколол он стрелочку надвое,
Они мерою равненьки и весом равны.
Сам он говорит таково слово:
"Солнышко Владимир стольнокиевский!
Я приехал об добром деле, об сватовстве
На твоей на любимой на дочери;
Что же ты со мной будешь делати?"
Говорил Владимир стольнокиевский:
"Я схожу-пойду, с дочерью подумаю".
Приходит к дочери возлюбленной:
"Ай же ты, дочь моя возлюбленна!
Приехал посол земли Ляховицкия,
Молодой Василий Микулич-де,
Об добром деле, об сватовстве
На тебе любимой на дочери;
Что же мне с послом будет делати?"
Говорила дочь ему возлюбленна:
"Что у тебя, батюшко, на разуме?
Выдаешь ты девчину за женщину!
Речь-погуворя — все по-женскому;
Перески тоненьки — все по-женскому;
Где жуковинья были, тут место знать". —
"Я схожу посла поотведаю".
Он приходит к Василью Микуличу,
Сам говорит таково слово:
"Молодой Василий Микулич-де,
Не угодно ли тебе с моими боярами потешиться,
На широком дворе поборотися?"
Как вышли они на широкий двор,
Как молодой Василий Микулич-де
Того схватил в руку, того в другую,
Третьего склеснет в середочку,
По трое за раз он на земь ложил, —
Которых положит, те с места не встают.
Говорил Владимир стольнокиевский:
"Ты молодой Василий Микулич-де!
Укроти-ко свое сердце богатырское,
Оставь людей хоть нам на семена!"
Говорил Василий Микулич-де:
"Я приехал о добром деле, об сватовстве
На твоей любимой на дочери;
Буде с чести не дашь, возьму не с чести,
А не с чести возьму, тебе бок набью!"
Не пошел больше к дочери спрашивать,
Стал он дочь свою просватывать.
Пир идет у них по третий день,
Сегодня им идти к божьей церкви.
Закручинился Василий, запечалился.
Говорил Владимир стольнокиевский:
"Что же ты, Василий, не весел есть?"
Говорит Василий Микулич-де:
"Что буде на разуме не весело, —
Либо батюшко мой помер есть,
Либо матушка моя померла.
Нет ли у тебя гуселыциков,
Поиграть во гуселышка яровчаты?"
Как повыпустили они гуселыциков,
Все они играют — все не весело.
"Нет ли у тя молодых затюремщичков?"
Повыпустили молодых затюремщичков,
Все они играют — все не весело.
Говорит Василий Микулич-де:
"Я слыхал от родителя от батюшка,
Что посажен наш Ставер сын Годинович
У тебя в погреба глубокие:
Он горазд играть в гуселышка яровчаты".
Говорил Владимир стольнокиевский:
"Мне повыпустить Ставра, —
Мне не видеть Ставра,
А не выпустить Ставра,
Так разгневить посла!"
А не смеет посла он поразгневати.
Он стал играть в гуселышка яровчаты, —
Развеселился Василий Микулич-де,
Сам говорил таково слово:
"Помнишь, Ставер, памятуешь ли,
Как мы маленьки на улицу похаживали,
Мы с тобой сваечкой поигрывали:
Твоя-то была сваечка серебряная,
А мое было колечко позолоченное?
Я-то попадывал тогды-сегды,
А ты-то попадывал всегды-всегды?"
Говорит Ставер сын Годинович:
"Что я с тобой сваечкой не игрывал!"
Говорил Василий Микулич-де:
"Ты помнишь ли, Ставер, да памятуешь ли,
Мы ведь вместе с тобой грамоте училися:
Моя была чернильница серебряная,
А твое было перо позолочено?
А я-то помакивал тогды-сегды,
А ты-то помакивал всегды-всегды?"
Говорит Ставер сын Годинович:
"Что я с тобой грамоте не учивался!"
Говорил Василий Микулич-де:
"Солнышко Владимир стольнокиевский!
Спусти-ко Ставра съездить до бела шатра
Посмотреть дружинушку хоробрую".
Говорил Владимир стольнокиевский:
"Мне спустить Ставра, — не видать Ставрй,
Не спустить Ставра, — разгневить посла!"
А не смеет он посла да поразгневати.
Он спустил Ставра съездить до бела шатра,
Посмотреть дружинушку хоробрую.
Приехали они ко белу шатру,
Зашел Василий в хорош-бел шатер,
Снимал с себя платье молодецкое,
Одел на себя платье женское,
Сам говорил таково слово:
"Теперича, Ставер, меня знаешь ли?"
Говорит Ставер сын Годинович:
"Молода Василиса дочь Микулична!
Уедем мы во землю Политовскую!"
Говорит Василиса дочь Микулична:
"Не есть хвала добру молодцу,
Тебе воровски из Киева уехати:
Поедем-ко свадебку доигрывать!"
Приехали ко солнышку Владимиру,
Сели за столы за дубовые.
Говорил Василий Микулич-де:
"Солнышко Владимир стольнокиевский!
За что был засажен Ставер сын Годинович
У тебя во погреба глубокие?"
Говорил Владимир стольнокиевский:
"Похвастал он своей молодой женой,
Что князей-бояр всех повыманит,
Меня, солнышка Владимира, с ума сведет".
"Ай ты ей, Владимир стольнокиевский!
А нынче что у тебя теперь на разуме:
Выдаешь девчину сам за женщину,
За меня Василису за Микуличну?"
Тут солнышку Владимиру к стыду пришло,
Повесил свою буйну голову,
Сам говорил таково слово:
"Молодой Ставер сын Годинович!
За твою великую за похвальбу
Торгуй во нашем городе во Киеве,
Во Киеве во граде век беспошлинно!"
Поехали во землю Ляховицкую,
Ко тому королю Ляховицкому.
Тут век про Ставра старину поют,
Синему морю на тишину,
Вам всем, добрым людям, на послушанье.
В этом варианте былины Ставр приходит в Киев с запада — из Ляховицкой земли — Польши, но здесь может подразумеваться вообще любая западная страна. Ставрогин, как мы уже упоминали, участвовал в подавлении Польского восстания 1863—18б4 годов. Кстати сказать, его прототип Бакунин стремился тогда в Польшу, чтобы помочь польским повстанцам, но морская экспедиция, предпринятая им из Швеции в Польшу в марте 1863 года, окончилась неудачей. Возможно, Достоевскому было известно об этом предприятии. Кроме того, в Россию Ставрогин приезжает после четырехлетних странствий по Западной Европе.
Попадание стрелы в кольцо символизирует в былине половой акт. А крестообразное оперение стрелы — намек на имя главного героя. Вообще, былина о Ставре Годиновиче — одна из немногих былин с явной сексуальной подоплекой. Тут и мотив переодевания жены главного героя в мужское платье, и безуспешные попытки князя Владимира разоблачить женское естество претендента на руку его дочери, и тема стыда князя, посрамленного женщиной. Учитывая ярко выраженное сладострастие Николая Всеволодовича, связь его со Ставром кажется вполне вероятной. На роль же Василисы Микуличны в финале "Бесов" претендует Дарья Петровна Шатова. Она уверяет Ставрогина: "Никогда, ничем вы меня не можете погубить, и сами это знаете лучше всех… Если не к вам, то я пойду в сестры милосердия, в сиделки, ходить за больными, или в книгоноши, Евангелие продавать. Я так решила. Я не могу быть ничьею женой; я не могу жить и в таких домах, как этот. Я не того хочу… Вы все знаете". В финале он зовет Дашу с собой "в кантон Ури", и она, не раздумывая, согласилась. Однако Ставрогин предпочитает уйти от нее в небытие, а не возвращаться с ней в "землю Ляховицкую", в данном случае — в Швейцарию.
Реальным прототипом Степана Трофимовича Верховенского явился виднейший русский либеральный историк, специалист по средневековой истории Западной Европы, духовный вождь русских западников Тимофей Николаевич Грановский (1813–1855). Он был другом А. И. Герцена, а в сознании Достоевского через Герцена от Грановского можно было перекинуть мост к Н. П. Огареву и МА Бакунину. Смысл фамилии "Верховенский" разъясняет следующая запись из подготовительных материалов к "Бесам": "Гр(ановски)й во весь роман постоянно пикируется с сыном верховенством…"
Источником сведений о Грановском, с которым Достоевским не был лично знаком, послужила рецензия H. H. Страхова на книгу А. В. Станкевича "Т. Н. Грановский" (1869), опубликованная в "Заре". 26 февраля (10 марта) 1869 года Достоевский писал Страхову: "Книжонка эта нужна мне, как воздух, и как можно скорее, как материал, необходимейший для моего сочинения". В наброске, которым Достоевский начал работу над романом в феврале 1870 года, уже присутствует пародия на Грановского: "Всежизненная беспредметность и нетвердость во взгляде и в чувствах"; "жаждет гонений и любит говорить о претерпенных им", "лил слезы там-то, тут-то", "плачет о всех женах — и поминутно женится". Он "просмотрел совсем русскую жизнь". В письме от 10 февраля 1873 года, посланном наследнику престола, будущему Александру III, вместе с отдельным изданием "Бесов", Достоевский так определял основную идею романа: "Это — почти исторический этюд, которым я желал объяснить возможность в нашем странном обществе таких чудовищных явлений, как нечаевское преступление. Взгляд мой состоит в том, что эти явления не случайность, не единичны… Эти явления — прямое последствие вековой оторванности всего просвещения русского от родных и самобытных начал русской жизни. Даже самые талантливые представители нашего псевдоевропейского развития давным-давно уже пришли к убеждению о совершенной преступности для нас, русских, мечтать о своей самобытности… А между тем главнейшие проповедники нашей национальной несамобытности с ужасом и первые отвернулись бы от нечаевского дела. Наши Белинские и Грановские не поверили бы, если б им сказали, что они прямые отцы Нечаева. Вот эту родственность и преемственность мысли, развившейся от отцов к детям, я и хотел выразить в произведении моем".
Сделав Степана Трофимовича отцом Петруши Верховенского и воспитателем Николая Ставрогина, главных революционных "бесов", Достоевский утверждал, что либеральные деятели, ориентирующиеся на Запад и отстаивающие тезис о том, что к развитию России применимы схемы, созданные на основе изучения западноевропейской истории, являются духовными отцами Нечаева. Писатель полагал, что нечаевско-бакунинская идеология разрушения государства и отрицания христианства взросла на почве католицизма и западных социалистических идей.
Хотя Степан Трофимович у Достоевского превращается в праздного бездельника, вроде гончаровского Обломова, он остается приверженцем высших ценностей. Верховенский-старший на балу у губернатора высказывает мысль, несомненно, принадлежащую самому Достоевскому: "Да знаете ли, знаете ли вы, что без англичанина еще можно прожить человечеству, без Германии можно, без русского человека слишком возможно, без науки можно, без хлеба можно, без одной только красоты невозможно, ибо совсем нечего будет делать на свете! Вся тайна тут, вся история тут! Сама наука не простоит минуты без красоты, — знаете ли вы про это, смеющиеся, — обратится в хамство, гвоздя не выдумаете!.."
В образе Верховенского-старшего Достоевский стремился показать, что гуманитарная наука, не ориентированная на веру, может быть вредна. Он записывал в 1875 году: "В наш век наука сокрушает все, во что до сих пор верили. Всякая твоя прихоть, всякий твой грех, — это следствие твоих естественных потребностей, которые еще не удовлетворены, итак, следовательно, нужно их удовлетворить. Радикальнейшее отрицание христианства и его морали. Христос не знал науки".
Хроникер "Бесов" описывает реакцию Степана Трофимовича на освобождение крестьян: "Великий день девятнадцатого февраля мы встретили восторженно, и задолго еще начали осушать в честь его тосты. Это было еще давно-давно, тогда еще не было ни Шатова, ни Виргинского, и Степан Трофимович еще жил в одном доме с Варварой Петровной. За несколько времени до великого дня Степан Трофимович повадился было бормотать про себя известные, хотя несколько неестественные стихи, должно быть сочиненные каким-нибудь прежним либеральным помещиком:
"Идут мужики и несут топоры,
Что-то страшное будет".
Кажется, что-то в этом роде, буквально не помню. Варвара Петровна раз подслушала и крикнула ему: "вздор, вздор!" и вышла во гневе. Липутин, при этом случившийся, язвительно заметил Степану Трофимовичу:
— А жаль, если господам помещикам бывшие их крепостные и в самом деле нанесут на радостях некоторую неприятность.
И он черкнул указательным пальцем вокруг своей шеи.
— Cher ami, — благодушно заметил ему Степан Трофимович, — поверьте, что это (он повторил жест вокруг шеи) нисколько не принесет пользы ни нашим помещикам, ни всем нам вообще. Мы и без голов ничего не сумеем устроить, несмотря на то, что наши головы всего более и мешают нам понимать.
Замечу, что у нас многие полагали, что в день манифеста будет нечто необычайное, в том роде, как предсказывал Липутин и все ведь так называемые знатоки народа и государства. Кажется, и Степан Трофимович разделял эти мысли, и до того даже, что почти накануне великого дня стал вдруг проситься у Варвары Петровны за границу; одним словом, стал беспокоиться".
Цитируемые Достоевским строчки восходят к анонимному стихотворению "Фантазия", опубликованному в "Полярной звезде" за 1861 год. Соответствующие строки звучат так:
И все чудится, будто встают мужики,
И острят топоры, и сбирают полки,
И огромною ратью идут без бояр На Москву да на Питер…
И катится одна за другой голова —
Что-то грозное будет…
Заканчивается стихотворение словами:
А вокруг собралися попы да полки,
И акафисты правят, и точат штыки —
Что-то страшное будет…
Данный эпизод представляет собой выпад не против Грановского, умершего за шесть лет до крестьянской реформы, а против И. С. Тургенева, который вообще-то был прототипом не Верховенского-старшего, а Кармазинова. В записной тетради Достоевского 1875–1876 годов сразу за строками "Идут мужики…" следует фраза, обращенная непосредственно к Тургеневу: "Вы выпродали имение и выбрались за границу, тотчас же как вообразили, что что-то страшное будет".
Некоторые высказывания Тургенева в "Литературных и житейских воспоминаниях" были обыграны Достоевским в записях к "Бесам" и в самом романе. Так, в очерке "По поводу "Отцов и детей" Тургенев писал:
"…Вероятно, многие из моих читателей удивятся, если я скажу им, что за исключением воззрений Базарова на художества, — я разделяю почти все его убеждения". И процитировал слова "одной остроумной дамы", назвавшей его "нигилистом". Иван Сергеевич заметил по этому поводу: "Не берусь возражать; быть может, эта дама и правду сказала".
В заметках к "Бесам" за 1870 год читаем: "Гр(ановский) соглашается наконец быть нигилистом и говорит: "Я нигилист"… Слухи о том, что Тургенев нигилист, и Княгиня еще больше закружилась". "Великий писатель был у губернатора, но не поехал к Княгине сперва, чем довел ее до лихорадки… Наконец приехал на вечер к Княгине. Просит прощения у Ст(удента) и заявляет ему, что он всегда был нигилистом". "Великий поэт: "Я нигилист".
В февральских записях к "Бесам" было сказано еще резче: "Ш(атов) говорит о помещиках и семинаристах и о том, что Белинский, Грановский — просто ненавидели Россию. (NB. Подробнее и четче об ненависти к России.)
Гр(ановский) (ему в ответ). "О, если б вы знали, как они любили Россию".
Ш(атов): "Себя любили и про себя одних ныли".
Далее следуют слова Хроникера: "Я теперь понимаю, что говорил Ш(атов) об этой ненависти Белинских и всех наших западников к народу, и если они сами будут отрицать это, то ясно, что они не сознают этого. Это так и было: они думали, что ненавидят любя, и так возвещали об себе. Они не стыдились даже своей крайней брезгливости к народу, когда с ним сталкивались в самом деле практически. (В теории-то они его любили.)"
Таким образом, прототипом Верховенского был не только Грановский, но и Тургенев, представлявший даже еще более радикальное крыло либеральной общественности.
Степан Трофимович, в попытке понравиться молодежи, в одном из своих публичных выступлений "бесспорно согласился в бесполезности и комичности слова "отечество"; согласился и с мыслию о вреде религии, но громко и твердо заявил, что сапоги ниже Пушкина и даже гораздо. Его безжалостно освистали, так что он тут же, публично, не сойдя с эстрады, расплакался".
Получается, что Верховенский-старший из конъюнктурных соображений готов принять даже бакунинско-нечаевскую программу, хотя сам к религии просто равнодушен, а вовсе не является воинствующим атеистом и отрицателем государства. В июне 1871 года "Голос" писал, что "главный совет общества" Интернационала будто бы формально одобрил эту программу и признал ее международною, т. е. обязательною для всех сочленов. С тех пор одиозные и официальные газеты общества совершенно откровенно дополнили ее и развили. "Отечество есть пустое слово, ошибка человеческого ума, — говорит La Revolution politique et sociale… Национальность — этот случайный результат рождения — зло: надобно его уничтожить". Этот текст и отразился, скорее всего, в романе Достоевского.
Верховенский-старший раскаивается во многом из того, что он проповедовал. По поводу евангельской притчи: "Тут же на горе паслось большое стадо свиней, и бесы просили его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, вышедши из человека, вошли в свиней; и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, увидя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее, и пришедши к Иисусу нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме, и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся". Степан Трофимович говорит: "видите, это точь-в-точь как наша Россия. Эти бесы, выходящие из больного и входящие в свиней — это все язвы, все миазмы, вся нечистота, все бесы и все бесенята, накопившиеся в великом и милом нашем больном, в нашей России, за века, за века! Oui, cette Russie, que j’aimais toujours (Да, Россия, которую я всегда любил (франц.). — Б. С.). Но великая мысль и великая воля осенят ее свыше, как и того безумного бесноватого, и выйдут все эти бесы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности… и сами будут проситься войти в свиней. Да и вошли уже, может быть! Это мы, мы и те, и Петруша… et les autres avec lui (и вместе с ним другие (франц.). — Б. С.), и я, может быть, первый, во главе, и мы бросимся, безумные и взбесившиеся, со скалы в море и все потонем, и туда нам дорога, потому что нас только на это ведь и хватит. Но больной исцелится и "сядет у ног Иисусовых"… и будут все глядеть с изумлением… Милая, vous comprendrez aprus, а теперь это очень волнует меня… Vous comprendrez aprus… Nous comprendrons ensemble" (вы поймете после… Вы поймете после… Мы поймем вместе (франц.). — Б. С.)".
Степан Трофимович гибнет в дороге, уйдя от общества, раскаявшись и тем получив очищение. Позднее обратили внимание, что в судьбе Верховенско-го-старшего за сорок лет до того была предсказана судьба… Льва Толстого! Тот ведь тоже ушел от родных, чтобы воссоединиться с народом — приверженцами своего учения, простудился в дороге и умер в чужом доме, на чужой постели. Достоевский как бы вывел архетип поведения и трагического исхода народолюбивой русской интеллигенции.
Перед смертью Степан Трофимович, услышав то место из Евангелия от Луки, где говорится о бесах, вошедших в стадо свиней, понимает, кто такие были его сын, Ставрогин, Шигалев и прочие, но обретает веру, что Россия избавится от бесов.
В "Бесах" описаны пожары, устроенные соратниками Верховенского и призванные способствовать хаосу, необходимому для начала революции. Они также приобретают символический образ будущей революционной стихии:
"— Пожар! Все Заречье горит!
Не помню только, где впервые раздался этот ужасный крик: в залах ли, или, кажется, кто-то вбежал с лестницы из передней, но вслед за тем наступила такая тревога, что и рассказать не возьмусь. Больше половины собравшейся на бал публики были из Заречья — владетели тамошних деревянных домов или их обитатели. Бросились к окнам, мигом раздвинули гардины, сорвали шторы. Заречье пылало. Правда, пожар только еще начался, но пылало в трех совершенно разных местах, — это-то и испугало.
— Поджог! Шпигулинские! — вопили в толпе.
Я упомнил несколько весьма характерных восклицаний:
— Так и предчувствовало мое сердце, что подожгут, все эти дни оно чувствовало!
— Шпигулинские, Шпигулинские, некому больше!
— Нас и собрали тут нарочно, чтобы там поджечь!"
Прототипом этих пожаров послужили знаменитые петербургские пожары, которые полиция приписала революционно настроенному студенчеству, чтобы настроить против него общественное мнение и получить предлог для репрессий. Пожары начались с середины мая 1862 года. 24 мая цензор А. В. Никитенко записал об этом в "Дневнике": "Вчера в Петербурге было разом четыре пожара в разных частях города. Один, и всех сильнее… около Лиговки. Толкуют о поджогах. Некоторые полагают, что это имеет связь с известными прокламациями от имени юной России и которые были разбросаны в разных местах".
Большие пожары в последующие годы отмечались и в провинции, однако никаких доказательств связи пожаров со студенческим движением так и не было найдено.
Одновременно с пожарами в Петербурге появилась революционная прокламация "Молодая Россия", авторство которой приписывалось Н. Г. Чернышевскому, тогда как настоящим автором был революционер-народник Петр Григорьевич Зайчневский. Возбужденный этими слухами, Достоевский решил нанести визит главе революционно-демократической партии, которого он принял то ли за организатора, то ли за вдохновителя поджогов, с тем чтобы тот убедил своих товарищей не допустить беспорядков. Чернышевский не имел отношения к прокламации, фактически провоцирующей власти на репрессии против демократического крыла российской интеллигенции. Достоевский, по словам лидера "Современника", произвел на него впечатление человека с глубоким умственным расстройством, ибо сама мысль о причастности его к поджогу Толкучего рынка свидетельствовала, что "умственное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики воспрещают всякий спор с несчастным".
Н. Г. Чернышевский так вспоминал об этой встрече семь лет спустя после кончины Достоевского: "Через несколько дней после пожара, истребившего Толкучий рынок, слуга подал мне карточку с именем Ф. М. Достоевского и сказал, что этот посетитель желает видеть меня. Я тотчас вышел в зал; там стоял человек среднего роста или поменьше среднего, лицо которого было несколько знакомо мне по портретам. По-дошедши к нему, я попросил его сесть на диван и сел подле со словами, что мне очень приятно видеть автора "Бедных людей". Он, после нескольких секунд колебания, отвечал мне на приветствие непосредственным, без всякого приступа, объяснением цели своего визита в словах коротких, простых и прямых, приблизительно следующих: "Я к вам по важному делу с горячей просьбой. Вы близко знаете людей, которые сожгли Толкучий рынок, и имеете влияние на них. Прошу вас, удержите их от повторения того, что сделано ими". Я слышал, что Достоевский имеет нервы расстроенные до беспорядочности, близкой к умственному расстройству, но не полагал, что его болезнь достигла такого развития, при котором могли бы сочетаться понятия обо мне с представлениями в поджоге Толкучего рынка. Увидев, что умственное расстройство бедного больного имеет характер, при котором медики воспрещают всякий спор с несчастным, предписывают говорить все необходимое для его успокоения, я отвечал: "Хорошо, Федор Михайлович, я исполню ваше желание". Он схватил меня за руку, тискал ее, насколько доставало у него силы, произнося задыхающимся от радостного волнения голосом восторженные выражения личной его благодарности мне за то, что по уважению к нему избавляю Петербург от судьбы быть сожженным, на которую был обречен этот город. Заметив через несколько минут, что порыв чувства уже утомляет его нервы и делает их способными успокоиться, я спросил моего гостя о первом попавшемся мне на мысль постороннем его болезненному увлечению и с тем вместе интересном для него деле, как велят поступать в подобных случаях медики. Я спросил его, в каком положении находятся денежные обстоятельства издаваемого им журнала, покрываются ли расходы, возникает ли возможность начать уплату долгов, которыми журнал обременил брата его, Михаила Михайловича, можно ли ему и Михаилу Михайловичу надеяться, что журнал будет кормить их. Он стал отвечать на данную ему тему, забыв прежнюю; я дал ему говорить о делах его журнала сколько угодно. Он рассказывал очень долго, вероятно часа два. Я мало слушал, но делал вид, что слушаю. Устав говорить, он вспомнил, что сидит у меня много времени, вынул часы, сказал, что и сам запоздал к чтению корректур, и, вероятно, задержал меня, встал, простился. Я пошел проводить его до двери, отвечая, что меня он не задержал, что, правда, я всегда занят делом, но и всегда имею свободу отложить дело и на час и на два. С этими словами я раскланялся с ним, уходившим в дверь".
Достоевский же оставил нам злую пародию на Чернышевского. В последней февральской книжке журнала "Эпоха" в 1864 году он опубликовал едкую сатиру на общественные настроения 60-х годов, повесть "Крокодил", в которой критика усмотрела не без оснований пародию на Чернышевского, хотя Достоевский это категорически отрицал. Чернышевский был, однако, хорошо узнаваем современниками в образе почтенного чиновника Ивана Матвеевича, проглоченного крокодилом, но оставшегося в живых и продолжающего из чрева крокодила пропаганду передовых идей, почерпнутых из "прогрессивной печати", вроде того что "экономический принцип прежде всего!". При этом сама прогрессивная печать больше жалеет крокодила, а не Ивана Матвеевича, о чем свидетельствует следующий пассаж из газеты "Волос", узнаваемой пародии на либеральный "Голос" Краевского. Здесь иронически обыгрывается известное выражение "крокодиловы слезы": "Всем известно, что мы прогрессивны и гуманны и хотим угоняться в этом за Европой. Но, несмотря на все наши старания и на усилия нашей газеты, мы еще далеко не "созрели", как о том свидетельствует возмутительный факт, случившийся вчера в Пассаже и о котором мы заранее предсказывали. Приезжает в столицу иностранец-собственник и привозит с собой крокодила, которого и начинает показывать в Пассаже публике. Мы тотчас же поспешили приветствовать новую отрасль полезной промышленности, которой вообще недостает нашему сильному и разнообразному отечеству. Как вдруг вчера, в половине пятого пополудни, в магазин иностранца-собственника является некто необычайной толщины и в нетрезвом виде, платит за вход и тотчас же, безо всякого предуведомления, лезет в пасть крокодила, который, разумеется, принужден был проглотить его, хотя бы из чувства самосохранения, чтоб не подавиться.
Ввалившись во внутренность крокодила, незнакомец тотчас же засыпает. Ни крики иностранца-собственника, ни вопли его испуганного семейства, ни угрозы обратиться к полиции не оказывают никакого впечатления. Изнутри крокодила слышен лишь хохот и обещание расправиться розгами (sic), а бедное млекопитающее, принужденное проглотить такую массу, тщетно проливает слезы".
Жена же Ивана Матвеевича Елена Ивановна и друг дома Семен Семеныч не слишком огорчены его отсутствием. Чернышевский, как известно, самый свой знаменитый роман "Что делать?" написал во время заключения в Петропавловской крепости, а в 1864 году Николая Гавриловича как раз сослали в Сибирь. Его обвинили в составлении прокламации "Барским крестьянам от их доброжелателей поклон", содержавшей крамольный призыв "К топору зовите Русь!". В дальнейшем было доказано, что Николай Гаврилович данную прокламацию не писал, но Достоевский об этом, естественно, не знал. Поэтому топор в руках Раскольникова стал мрачным символом "шестидесятничества". В образе же супруги Ивана Матвеевича увидели злую пародию на супругу Чернышевского Ольгу Сократовну Чернышевскую, урожденную Васильеву, которая послужила одним из прототипов Веры Павловны в знаменитом романе. Как и один из героев "Что делать?", Чернышевский дал жене полную свободу, и она ею пользовалась. О бурных романах Ольги Сократовны было широко известно в Петербурге. Интересно, что в конце жизни Чернышевский уверовал в Бога. Фотография, сделанная в 1889 году на смертном одре, запечатлела православный крестик в его сложенных руках. Но Достоевский об этом уже не мог узнать.
Н. А. Бердяев в "Мировоззрении Достоевского" отмечал: "Пути человеческого своеволия, влекущего к преступлению, Достоевский дальше и глубже исследует в "Бесах". Там явлены роковые последствия одержимости и безбожной индивидуалистической идеей, и безбожной коллективистической идеей. Петр Верховенский от одержимости ложной идеей теряет человеческий образ. Разрушение человека очень далеко ушло по сравнению с Раскольниковым. Петр Верховенский на все способен, он считает все дозволенным во имя своей "идеи". Для него не существует уже человека, и он сам не человек. Мы выходим уже из человеческого царства в какую-то жуткую нечеловеческую стихию. Одержимость безбожной идеей революционного социализма в своих окончательных результатах ведет к бесчеловечности. Происходит нравственная идиотизация человеческой природы, теряется всякий критерий добра и зла. Образуется жуткая атмосфера, насыщенная кровью и убийством. Убийство Шатова производит потрясающее впечатление. Что-то вещее, пророческое есть в картине, раскрывающейся в "Бесах". Достоевский первый узнал неотвратимые последствия известного рода идей. Он глубже видел, чем Вл. Соловьев, который острил о русских нигилистах, приписывая им формулу: человек произошел от обезьяны, поэтому будем любить друг друга. Нет, уж если человек не образ и подобие Божие, а образ и подобие обезьянье, то любить друг друга не будут, то будут истреблять друг друга, то разрешат себе всякое убийство и всякую жестокость. Тогда все дозволено. Достоевский показал перерождение и вырождение самой "идеи", самой конечной цели, которая вначале представлялась возвышенной и соблазнительной. Сама "идея" безобразна, бессмысленна и бесчеловечна, в ней свобода переходит в безграничный деспотизм, равенство — в страшное неравенство, обоготворение человека — в истребление человеческой природы.
"Бесы" стали предупреждением, которое русское общество оценило в полной мере лишь после смерти Достоевского и последовавшего вскоре убийства Александра II, а особенно — после 1917 года. Писатель верил, что главных "бесов" постигнет судьба Ставрогина, но ошибся. Не прошло и сорока лет со смерти Достоевского, как они восторжествовали в России, а затем укрепились едва ли не на трети суши.
Но Достоевский велик не только своим общественным предвидением. Созданные им образы, та мучительная раздвоенность, которую он выявил в человеке не только в вопросах веры, выявленная им расплывчатость, подвижность границ добра и зла в каждом конкретном человеке, стали достоянием последующей литературы, психологии и философии".
"Братья Карамазовы": воскрешение великих грешников
•
Последний роман Достоевского, "Братья Карамазовы", появившийся все в том же "Русском вестнике" в 1879–1880 годах, рассказывает о том, как Бог и дьявол ведут борьбу за души людей. Писатель был убежден, что вера способна вернуть к служению добру даже самого закоренелого атеиста. Достоевский полагал, что не только "покупается счастье страданием", но и что страдание дает человеку истинную веру, основываясь, в том числе, и на своем каторжном опыте. Герои "Братьев Карамазовых" должны были через страдание укрепиться в вере, искупить как грехи отца, так и свои собственные: сладострастие, атеизм, ревность. Венчает роман, как купол церкви, "Легенда о Великом инквизиторе", которую нередко анализируют как отдельное произведение.
Если в "Бесах" Достоевский показывал нам, как идеи атеизма и нигилизма могут пагубно сказаться на обществе и государстве, не готовых дать им отпор, то в "Братьях Карамазовых" писатель исследует воздействие идей атеизма, социализма и следования, можно сказать, Lustprinzip’y (хотя сам этот термин Зигмунд Фрейд ввел уже через много лет после смерти Достоевского) на человеческую личность. Единственное лекарство от разрушительного влияния этих идей писателю виделось в следовании принципам христианской нравственности, через которые и спасаются такие милые его сердцу герои, как Алеша и Митя Карамазовы.
По свидетельству А. Г. Достоевской, Федор Михайлович "особенно ценил в "Братьях Карамазовых" Великого инквизитора, смерть Зосимы, сцену Дмитрия и Алеши (рассказ о том, как Катерина Ивановна к нему приходила), суд, две речи, исповедь Зосимы, похороны Илюшечки, беседу с бабами, три беседы Ивана со Смердяковым, Черта".
Мы же в нашей книге основное внимание уделим таким главнейшим частям "Братьев Карамазовых" с точки зрения их идейного содержания, как разговор Ивана Карамазова с чертом и рассказанная им же брату Алеше Легенда о Великом инквизиторе. Мы также остановимся на образе старика Карамазова и его прототипической связи с отцом писателя. Заодно будет рассмотрен вопрос о влиянии на Достоевского творчества знаменитого маркиза де Сада, которое особенно проявилось в последнем романе писателя, но ощутимо и в других его произведениях. И, наконец, стоит рассмотреть вопрос, каким мыслился Достоевскому второй том "Братьев Карамазовых". Ведь тот роман, который мы имеем, это лишь первый том задуманной дилогии, где никакие сюжетные линии еще не были завершены.
Замысел романа "Братья Карамазовы" восходит еще к "Житию великого грешника". Но еще в 1862 году, заявив в редакционном предисловии к напечатанному во "Времени" "Собору Парижской Богоматери" В. Гюго, что проникающая творчество Гюго идея "восстановления погибшего человека, задавленного несправедливо гнетом обстоятельств, застоя веков и общественных предрассудков" "есть основная мысль всего искусства девятнадцатого столетия", Достоевский выразил уверенность в том, что в недалеком будущем она получит свое воплощение в произведении несравненно более широком по замыслу и значительном по художественному масштабу: "Проследите все европейские литературы нашего века, и вы увидите во всех следы той же идеи, и, может быть, хоть к концу-то века она воплотится наконец вся, целиком, ясно и могущественно в каком-нибудь таком великом произведении искусства, что выразит стремления и характеристику своего времени так же полно и вековечно, как, например, "Божественная комедия" выразила свою эпоху средневековых католических верований и идеалов".
Определенный же и более конкретный характер мысль Достоевского о создании романа-эпопеи дантовского типа о воскрешении погибающего человека получила в годы завершения Львом Толстым "Войны и мира", которую многие критики определяли как образец нового русского национального эпоса. К концу 1870-х годов замысел "Жития великого грешника" превращается в замысел двухтомного или даже трехтомного романа о нравственном скитальчестве Алексея Карамазова и его братьев. Алеша воспитывается в качестве послушника в монастыре, откуда уходит в мир.
Решающее влияние на формирование фабулы романа оказало знакомство Достоевского на каторге в Омском остроге с дворянином Дмитрием Ильинским, несправедливо обвиненным и осужденным за отцеубийство. Он стал прототипом Дмитрия Карамазова. История же мнимого отцеубийства стала основой сюжета романа.
В 1871 году в журнальном варианте третьей главы второй части романа "Бесы" Ставрогин рассказывал Даше Шатовой о "бесе", который его посещает: "Я опять его видел… Сначала здесь, в углу, вот тут, у самого шкафа, а потом он сидел все рядом со мной, всю ночь, до и после моего выхода из дому… Вчера он был глуп и дерзок. Это тупой семинарист, самодовольство шестидесятых годов, лакейство мысли, лакейство среды, души, развития, с полным убеждением в непобедимости своей красоты… ничего не могло быть гаже. Я злился, что мой собственный бес мог явиться в такой дрянной маске. Никогда еще он так не приходил… Я знаю, что это я сам в разных видах, двоюсь и говорю сам с собой. Но все-таки он очень злится; ему ужасно хочется быть самостоятельным бесом и чтоб я в него уверовал в самом деле. Он смеялся вчера и уверял, что атеизм тому не мешает". Здесь уже предвосхищен "кошмар Ивана Карамазова" — разговор с чертом.
13 сентября 1874 года Достоевский сделал в записной книжке следующую заметку: "Драма. В Тобольске, лет двадцать назад, вроде истории Иль(ин)ского. Два брата, старый отец, у одного невеста, в которую тайно и завистливо влюблен второй брат. Но она любит старшего. Но старший, молодой прапорщик, кутит и дурит, ссорится с отцом. Отец исчезает… Старшего отдают под суд и осуждают на каторгу… Брат через 12 лет приезжает его видеть. Сцена, где безмолвно понимают друг друга… День рождения младшего. Гости в сборе. Выходит. "Я убил". Думают, что удар.
Конец: тот возвращается. Этот на пересыльном. Его отсылают. Младший просит старшего быть отцом его детей.
"На правый путь ступил!"
Здесь братьев еще только двое, а фабула предельно проста. Убил младший, а подумали на старшего. А мотив, почему младший подставляет старшего, — соперничество из-за невесты. Непосредственную же работу над романом Достоевский начал только в 1878 году.
Первоначально события романа были отнесены к 1850-м годам, к дореформенному времени, что больше соответствует реальным обстоятельствам дела Ильинского, осужденного в 1847 году, еще до судебной реформы. Достоевский также учитывал, что мнимый отцеубийца был осужден на двадцатилетнюю каторгу. Местом преступления сначала был избран Тобольск, настоящая родина Ильинского.
Однако Тобольск Достоевский знал мало, был лишь там проездом в Сибирь и обратно. Да и писателю очень важно было перенести действие в Европейскую Россию, показать Оптину пустынь. Поэтому в "Братьях Карамазовых" вымышленный город Скотопригоньевск списан с реальной Старой Руссы, где Достоевский подолгу задерживался в последние годы жизни. Дочь писателя Л. Ф. Достоевская, перечитывая роман уже взрослой, легко узнала в нем "топографию Старой Руссы. Дом старика Карамазова — это наша дача с небольшими изменениями; красивая Грушенька — молодая провинциалка, которую мои родители знали в Старой Руссе. Купец Плотников был излюбленным поставщиком моего отца. Ямщики — Андрей и Тимофей — наши любимые ямщики, возившие нас ежегодно на берег Ильменя, где осенью останавливались пароходы".
Самое название городка — Скотопригоньевск — навеяно тем обстоятельством, что на центральной Торговой площади Старой Руссы, на берегу упомянутой в романе заболоченной речки (Малашки), находился Конный рынок, где шла оживленная торговля скотом.
Писатель П. К. Мартьянов так излагал в своих воспоминаниях обстоятельства дела прототипа Дмитрия Карамазова: "Присланный за отцеубийство дворянин был подпоручик Ильин (в действительности — Ильинский. — Б. С.), служивший в Тобольске в линейном батальоне. По решению суда, за дурное поведение он был приговорен к разжалованию в рядовые, а по обвинению в отцеубийстве, за неимением достаточных доказательств, суд полагал оставить его в сильном подозрении. Но император Николай Павлович, на утверждение которого восходила конфирмация военного суда, изволил положить резолюцию: "Отцеубийца не должен служить в рядах войск В каторжные работы на двадцать лет".
Сам Достоевский следующим образом описал ДН. Ильинского в "Записках из Мертвого дома": "Только в остроге я слышал рассказы о самых страшных, о самых неестественных поступках, о самых чудовищных убийствах, рассказанные с самым неудержимым, с самым детски веселым смехом. Особенно не выходит у меня из памяти один отцеубийца. Он был из дворян, служил и был у своего шестидесятилетнего отца чем-то вроде блудного сына. Поведения он был совершенно беспутного, ввязался в долги. Отец ограничивал его, уговаривал; но у отца был дом, был, хутор, подозревались деньги, и — сын убил его, жаждая наследства.
Преступление было разыскано только через месяц. Сам убийца подал заявление в полицию, что отец его исчез неизвестно куда. Весь этот месяц он провел самым развратным образом. Наконец, в его отсутствие, полиция нашла тело. На дворе, во всю длину его, шла канавка для стока нечистот, прикрытая досками.
Тело лежало в этой канавке. Оно было одето и убрано, седая голова была отрезана прочь, приставлена к туловищу, а под голову убийца подложил подушку. Он не сознался; был лишен дворянства, чина и сослан в работу на двадцать лет. Все время, как я жил с ним, он был в превосходнейшем, в веселейшем расположении духа. Это был взбалмошный, легкомысленный, нерассудительный в высшей степени человек, хотя совсем не глупец. Я никогда не замечал в нем какой-нибудь особенной жестокости. Арестанты презирали его не за преступление, о котором не было и помину, а за дурь, за то, что не умел вести себя. В разговорах он иногда вспоминал о своем отце. Раз, говоря со мной о здоровом сложении, наследственном в их семействе, он прибавил:
"Вот родитель мой, так тот до самой кончины своей не жаловался ни на какую болезнь". Такая зверская бесчувственность, разумеется, невозможна. Это феномен; тут какой-нибудь недостаток сложения, какое-нибудь телесное и нравственное уродство, еще не известное науке, а не просто преступление. Разумеется, я не верил этому преступлению. Но люди из его города, которые должны были знать все подробности его истории, рассказывали мне все его дело. Факты были до того ясны, что невозможно было не верить. Арестанты слышали, как он кричал однажды ночью во сне, — "Держи его, держи! Голову-то ему руби, голову, голову!.."
Во втором томе "Записок" Достоевский с радостью сообщил:
"На днях издатель "Записок из Мертвого дома" получил уведомление из Сибири, что преступник был действительно прав и десять лет страдал в каторжной работе напрасно; что невинность его обнаружена по суду, официально. Что настоящие преступники нашлись и сознались и что несчастный уже освобожден из острога. Издатель никак не может сомневаться в достоверности этого известия… Прибавлять больше нечего. Нечего говорить и распространяться о всей глубине трагического в этом факте, о загубленной еще смолоду жизни под таким ужасным обвинением. Факт слишком понятен, слишком поразителен сам по себе.
Мы думаем тоже, что если такой факт оказался возможным, то уже самая эта возможность прибавляет еще новую и чрезвычайно яркую черту к характеристике и полноте картины Мертвого дома".
Таким образом, психологическое чутье не обмануло писателя, изначально сомневавшегося в виновности Дмитрия Николаевича Ильинского, ибо не мог быть так спокоен и весел настоящий отцеубийца.
И в письме к соредактору "Русского вестника" Н. А. Любимову от 16 ноября 1879 года Достоевский утверждал, что Митя Карамазов "очищается сердцем и совестью, под грозой несчастья и ложного обвинения. Принимает душой наказание не за то, что он сделал, а за то, что он был так безобразен, что мог и хотел сделать преступление, в котором ложно будет обвинен судебной ошибкой. Характер вполне русский: гром не грянет, мужик не перекрестится". Но это уже было сказано при отсылке в журнал законченного текста "Братьев Карамазовых". Вызревал же роман в течение нескольких лет.
Достоевский писал в "Дневнике писателя" за январь 1876 г.: "Я давно уже поставил себе идеалом — написать роман о русских теперешних детях, ну и, конечно, о теперешних их отцах, в теперешнем взаимном их соотношении". Он имел в виду будущих "Братьев Карамазовых".
В письме к Х.Д. Алчевской 9 апреля 1876 года Достоевский сообщал: "Готовясь написать один очень большой роман… задумал погрузиться специально в изучение не действительности собственно, я с нею и без того знаком, а подробностей текущего. Одна из самых важных задач в этом текущем для меня… молодое поколение и вместе с тем современная русская семья, которая, я предчувствую это, далеко не такова, как всего еще двадцать лет назад…"
В майском номере "Дневника писателя" за 1876 год Достоевский анализировал опубликованное в газете "Новое время" предсмертное письмо самоубийцы-"нигилистки" акушерки Писаревой. Он относил ее к тем молодым людям, которые мечтают "о таком устройстве мира, где прежде всего будет хлеб и хлеб будет раздаваться поровну, а имений не будет", ожидают "будущего устройства общества без личной ответственности" и "чрезмерно" преувеличивают значение денег "по идее, которую им придают". Достоевский писал в связи с подробными предсмертными распоряжениями Писаревой относительно той крохотной суммы денег, которая после нее осталась: "Эта важность, приданная деньгам, есть, может быть, последний отзыв главного предрассудка всей жизни о "камнях, обращенных в хлебы"… "были бы все обеспечены, были бы все и счастливы, не было бы бедных, не было бы преступлений"… Преступлений нет совсем. Преступление есть болезненное состояние, происходящее от бедности и от несчастной среды…"
А 7 июня 1876 года, отвечая читателю "Дневника писателя", оркестранту Петербургской оперы В. А. Алексееву, просившему разъяснить смысл слов о "камнях" и "хлебах", употребленных в майском номере "Дневника", Достоевский уже изложил основные идеи будущей "Легенды о Великом инквизиторе".
"Вы задаете вопрос мудреный тем собственно, что на него отвечать долго. Дело же само по себе ясное. В искушении диавола слилось три колоссальные мировые идеи, и вот прошло 18 веков, а труднее, т. е. мудренее, этих идей нет, и их все еще не могут решить.
"Камни и хлебы" значит теперешний социальный вопрос, среда. Это не пророчество, это всегда было…
Ты сын Божий — стало быть, ты все можешь. Вот камни, видишь, как много. Тебе стоит только повелеть — и камни обратятся в хлебы.
Повели же и впредь, чтоб земля рожала без труда, научи людей такой науке или научи их такому порядку, чтоб жизнь их была впредь обеспечена. Неужто не веришь, что главнейшие пороки и беды человека произошли от голоду, холоду, нищеты и их невозможной борьбы за существование.
Вот 1-я идея, которую задал злой дух Христу. Согласитесь, что с ней трудно справиться. Нынешний социализм в Европе, да и у нас, везде устраняет Христа и хлопочет прежде всего о хлебе, призывает науку и утверждает, что причиною всех бедствий человеческих одно — нищета, борьба за существование, "среда заела".
На это Христос отвечал: "не одним хлебом бывает жив человек" — т. е. сказал аксиому и о духовном происхождении человека. Дьяволова идея могла подходить только к человеку-скоту. Христос же знал, что одним хлебом не оживишь человека. Если притом не будет жизни духовной, идеала Красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие фантазии…
Но если дать и Красоту и Хлеб вместе? Тогда будет отнят у человека труд, личность, самопожертвование своим добром ради ближнего — одним словом, отнята вся жизнь, идеал жизни. И потому лучше возвестить один идеал духовный…"
Более сжато ту же мысль Достоевский выразил 10 июня 1876 года в письме еще одному читателю "Дневника", П. П. Потоцкому: "…Если сказать человеку: нет великодушия, а есть стихийная борьба за существование (эгоизм) — то это значит отнимать у человека личность и свободу. А это человек отдаст всегда с трудом и отчаянием".
К той же теме Достоевский вернулся в статье "Три идеи" январского выпуска "Дневника писателя" за 1877 год. "Католической" он назвал идею насильственного единения человечества, провозглашенную Древним Римом и усвоенную папой, а современные западные социалистические идеи счел разновидностями той же идеи "устройства человеческого общества… без Христа и вне Христа". Католической идее, равно как и возникшей в борьбе с ней, но по сути от нее не отличающейся, протестантской, писатель противопоставлял православную, или "славянскую", идею. Благодаря последней на основе торжества идеала личной нравственной свободы и братской ответственности каждого отдельного человека за судьбы другого, за судьбы народа и человечества, "падут когда-нибудь перед светом разума и сознания естественные преграды и предрассудки, разделяющие до сих пор свободное общение наций эгоизмом национальных требований, и… народы заживут одним духом и ладом, как братья, разумно и любовно стремясь к общей гармонии". Здесь Достоевского явно вдохновляло пушкинское стихотворение "Он между нами жил", посвященное Адаму Мицкевичу: "Когда народы, распри позабыв, /В великую семью соединятся". По иронии истории, эти слова в стихотворении вложены в уста поэта Мицкевича, католика и поляка.
24 декабря 1877 года Достоевский занес в записную тетрадь следующий план:
"Memento. На всю жизнь.
1) Написать русского Кандида
2) Написать книгу о Иисусе Христе
3) Написать свои воспоминания
4) Написать поэму "Сороковины"
(Все это, кроме последнего романа и предполагаемого издания "Дневника", т. е. mínimum на 10 лет деятельности, а мне теперь 56 лет)".
Под "последним романом" писатель имел в виду будущих "Братьев Карамазовых". Но и другие перечисленные здесь замыслы, не будучи осуществлены, так или иначе отразились в этом романе. В частности, "Легенда о Великом инквизиторе" — это и есть, в сущности, книга об Иисусе Христе, хотя все время действия он только молчит.
Поэма "Сороковины" была задумана еще летом 1875 года в виде "Книги странствий", описывающей "мытарства 1 (2, 3, 4, 5, 6 и т. д.)" главного героя. Среди набросков к поэме уже был разговор Молодого человека с сатаной, в романе вылившийся в беседу Ивана Карамазова с чертом. В "Братьях Карамазовых" "Хождением души по мытарствам" названы три главы девятой книги "Предварительное следствие". Здесь описаны "первое", "второе" и "третье" мытарства Мити (душе которого суждено в романе умереть и воскреснуть через страдание).
В. В. Розанов писал в "Легенде о Великом инквизиторе": "Очевидно, даже внешний план долго вынашиваемого произведения был сохранен в "Братьях Карамазовых"; и все нужное к его выполнению было также сделано теперь: в 1879 г. Достоевский ездил в знаменитую Оптину пустынь, чтобы обновить свои воспоминания о монастырской жизни. В старце монастыря этого, отце Амвросии, нравственно-религиозный авторитет которого и до сих пор руководит жизнью тысяч людей, он, вероятно, нашел несколько драгоценных и живых черт для задуманного им положительного образа. Но первоначальный план подвергся некоторым изменениям и принял в себя много дополнений. Положительный образ старца, который Достоевский хотел вывести в своем романе, не мог стать центральным лицом в нем, как он первоначально думал это сделать: установившийся и неподвижный, этот образ мог быть очерчен, но его нельзя было ввести в движение передаваемых событий. Вот почему старец Зосима только показывается в "Братьях Карамазовых": он благословляет на жизненный подвиг своего любимого послушника, Алешу Карамазова, и умирает. Вместо него центральным лицом всего сложного произведения должен был стать этот последний. (Это высказано положительно и в предисловии к "Братьям Карамазовым".) Нравственный образ Алеши в высшей степени замечателен по той обрисовке, которая ему придана. Видеть в нем только повторение типа кн. Л. Н. Мышкина (герой "Идиота") было бы грубою ошибкой. Кн. Мышкин, так же как и Алеша, чистый и безупречный, чужд внутреннего движения, он лишен страстей вследствие своей болезненной природы, ни к чему не стремится, ничего не ищет осуществить; он только наблюдает жизнь, но не участвует в ней. Таким образом, пассивность есть его отличительная черта; напротив, натура Алеши прежде всего деятельна, и одновременно с этим она также ясна и спокойна. Сомнения (См. его думы и слова после кончины старца Зосимы), даже чувственные страсти (Один разговор с Ракитиным, где он, "девственник", признается, что ему слишком понятны "карамазовские бури".) и способность к гневу (Разговор с братом Иваном о страданиях детей) — все есть в этом полном человеческом образе, и с тем вместе есть в нем какое-то глубокое понимание разностороннего в человеческой природе: он как-то близок, интимен со всяким человеком, с которым ему приходится вступать в сношения. Брат Иван и Ракитин, развращенный старик, его отец, и мальчик Коля Красоткин — одинаково доступны ему. Но, вникая в чужую внутреннюю жизнь, он внутри себя всегда остается тверд и самостоятелен. В нем есть неразрушимое ядро, от которого идут всепроницающие нити, способные завязаться, бороться и побеждать внутреннее содержание других людей. И между тем этот человек, так уже сильный, является перед нами еще только отроком — образ удивительный, впервые показавшийся в нашей литературе. Нет сомнения, что оборванный конец (или, точнее, главная часть) "Братьев Карамазовых" унес от нас многие откровения человеческой души, что там были бы слова, действительно проясняющие путь жизни. Но этому не суждено было сбыться; в той части романа, которую мы имеем перед собой, Алеша только готовится к подвигу: он более выслушивает, чем говорит, изредка вставляет только замечания в речи других, иногда спрашивает, но больше молча наблюдает. Однако все эти черты, только обрисовывающие тип, но еще не высказывающие его, положены так тонко и верно, что и недоконченный образ уже светится перед нами настоящею жизнью. В нем мы уже предчувствуем нравственного реформатора, учителя и пророка, дыхание которого, однако, замерло в тот миг, когда уста уже готовы были раскрыться, — явление единственное в литературе, и не только в нашей. Если бы мы захотели искать к нему аналогии, мы нашли бы ее не в литературе, но в живописи нашей. Это — фигура Иисуса в известной картине Иванова: также далекая, но уже идущая, пока незаметная среди других, ближе стоящих лиц и, однако, уже центральная и господствующая над ними. Образ Алеши запомнится в нашей литературе, его имя уже произносится при встрече с тем или иным редким и отрадным явлением в жизни; и, если суждено будет нам возродиться когда-нибудь к новому и лучшему, очень возможно, что он будет путеводною звездой этого возрождения".
С темой "Русского Кандида" связан разговор аттестующего себя социалистом Коли Красоткина с Алешей о "Кандиде" Вольтера, причем Коля, "русский Кандид", полагает, что сегодня Христос примкнул бы к революционерам, и упоминание Иваном Карамазовым Вольтера: "…Был один старый грешник в восемнадцатом столетии, который изрек, что если бы не было Бога, то следовало бы его выдумать… И действительно человек выдумал Бога. И не то странно, не то было бы дивно, что Бог в самом деле существует, но то дивно, что такая мысль — мысль о необходимости Бога — могла залезть в голову такому дикому и злому животному, каков человек, до того она свята, до того она трогательна, до того премудра, и до того она делает честь человеку. Что же до меня, то я давно уже положил не думать о том: человек ли создал Бога или Бог человека? Не стану я, разумеется, тоже перебирать на этот счет все современные аксиомы русских мальчиков, все сплошь выведенные из европейских гипотез; потому что, что там гипотеза, то у русского мальчика тотчас же аксиома, и не только у мальчиков, но пожалуй и у ихних профессоров, потому что и профессора русские весьма часто у нас теперь те же русские мальчики".
И тот же Иван спрашивает: может ли человеческий разум принять мир, созданный Богом, и поверить в предустановленную гармонию, если при этом сохраняются несправедливость, зло и страдания невинных людей? Вольтер в предустановленную гармонию не верил, а Достоевский верил, но считал, что достигается она как раз через страдания. С другой стороны, Достоевский считал, что человек должен уменьшать существующее в мире зло, и отказывался принять мировую гармонию, если в ее основе — слезинка невинного ребенка.
16 мая 1878 года умер сын Достоевских Алеша. Писатель тяжело переживал утрату и долгое время не мог работать. Отсюда, вероятно, пришло и имя любимого героя последнего романа — Алеша. "Чтобы хоть несколько успокоить Федора Михайловича и отвлечь его от грустных дум, — вспоминала А. Г. Достоевская, — я упросила Вл. С. Соловьева, посещавшего нас в эти дни нашей скорби, уговорить Федора Михайловича поехать с ним в Оптину пустынь, куда Соловьев собирался ехать этим летом. Посещение Оптиной пустыни было давнишнею мечтою Федора Михайловича…"
18 июня 1878 года Достоевский выехал с Владимиром Соловьевым из Петербурга в Москву, а оттуда через четыре дня в Оптину пустынь. Поездка длилась семь дней. Первые книги "Братьев Карамазовых" были написаны под впечатлением увиденного в этом монастыре.
Владимир Соловьев свидетельствовал на основе бесед с писателем, что "церковь как положительный общественный идеал должна была явиться центральною идеей нового романа или нового ряда романов, из которых написан только первый — "Братья Карамазовы".
В подготовительных материалах к роману Достоевский писал о старце Зосиме: "ИВ. Были в монастыре и враждебные Старцу монахи, но их было немного. Молчали, затаив злобу, хотя важные лица. Один постник, другой полуюродивый. Но большинство стояло, были фанатики до того, что, предвидя близкую смерть, многие честно считали за святого, не один Алеша, ждали смерти, будет святой. (Молчаливое ожидание.)"
Об Алеше Достоевский заметил: "Уединенность полюбит, целомудрие.
Красота пустыни, пение, вернее же всего, Старец. Честность поколения. Герой из нового поколения…
Он (Алеша) уверовал как реалист. Такой коли раз уверует, то уверует совсем, бесповоротно.
Мечтатель уверует с условиями, по-лютерански. Этакого же не только не смутит чудо, но он сам захочет чуда.
Он понял, что знание и вера — разное и противуположное, но он понял — постиг, по крайней мере, или почувствовал даже только, — что если есть другие миры и если правда, что человек бессмертен, то есть и сам из других миров, то, стало быть, есть и все, есть связь с другими мирами. Есть и чудо. И он жаждал чуда.
В мире много необъяснимого, если не чудеса.
Почему же и не быть чудесам? Но тут Старец…
Ждал чудес и даже уже видел их…
Действительный клад внутри себя, но какая-то внешность, чудо. Как будто ждавший чуда.
Старца святым. И хотя бы он хотел, но все же боялся.
Которая себя не нашла в себе — Фома.
Высшая красота не снаружи, а изнутри (см. Гете, 2-я часть "Фауста>)…
Старец: "Главное, не лгать. Имущества не собирать, любить (Дамаскина, Сирина)".
А вот что говорится в подготовительных материалах о будущем Дмитрии Карамазове:
"Ильинский в келье говорит, что он еще не позволит читать ему наставления вслух за ребенка. Кутеж в городе.
Помещик желает после кельи отслужить молебен.
Ильинский рассчитывает еще что-нибудь получить наследства. Главное, ему поскорее нужны 3000, потому что он задержал невестины. Вечером, в 1-й части, после сцены в келье, Ильинский затем является к отцу с Идиотом, чтоб предложить мировую на 3000 тысячах. "Ведь у вас теперь есть". И тут драка.
Деньги в пакете: "Моему цыпленочку"…
Воскресение предков. Помещик про Ильинского: "Этот не только не воскресит, но еще упечет". Ильинский встает: "Недостойная комедия!"
"Все дозволено". Вечером Убийце: "Знаешь, мой друг, я кой в чем усумнился, просто-запросто Христос был обыкновенный человек, как и все, но добродетельный. А все это сделал".
— Я страстный человек…
Дидро и Платон. "Рече безумец в сердце своем несть Бог". Преклонился…
Революция, кроме конца любви, ни к чему не приводила (права лучше).
Воскресение предков зависит от нас.
О родственных обязанностях. Старец говорит, что Бог дал родных, чтоб учиться на них любви. Общечеловеки ненавидят лиц в частности.
— Был бы один ум на свете, ничего бы и не было".
В предваряющем "Братьев Карамазовых" предисловии "От автора" Достоевский характеризует свой последний роман как первый из задуманных двух романов, посвященных "жизнеописанию" главного героя — Алексея Карамазова.
План романа-дилогии потребовал приурочить действие первой части к 1866 году, ко времени вскоре после введения в России нового судебного устава, гласного судопроизводства, адвокатуры и института присяжных заседателей. Вместе с тем в "Братьях Карамазовых" отразились идейные споры 1870-х годов, в частности разворачивающийся в келье старца Зосимы спор о соотношении авторитета церкви и государства, государственного и церковного суда. Друг Достоевского, обер-прокурор Священного синода К. П. Победоносцев, говорил, что своего Зосиму тот писал по его совету.
Дочь писателя Л. Ф. Достоевская выдвинула предположение, что "Достоевский, создавая тип старика Карамазова, думал о своем отце". "Но я должна обратить внимание моих читателей на то, — писала она при этом, — что мысль о сходстве между моим дедом Михаилом и стариком Карамазовым является исключительно моим предположением, которое я не могу подтвердить никаким документом. Возможно, что оно совершенно неверно". "Карамазов был развратен; Михаил Достоевский искренно любил свою жену и был ей верен. Старик Карамазов забросил своих сыновей и не интересовался ими; мой дед дал своим детям тщательное воспитание".
Л. Ф. Достоевская полагала, что отец не случайно назвал Чермашней деревню, куда старик Карамазов посылает своего сына Ивана накануне своей смерти, поскольку Чермашней называлась одна из двух деревень, принадлежащих родителям Достоевского. По ее мнению, Достоевский "изобразил себя в Иване Карамазове".
Добавлю, что отец Достоевского тоже был не чужд разврату, по крайней мере в последний период своей жизни в деревне, из-за чего, как кажется, и погиб.
И здесь мы подходим к очень интересной теме связи героев Достоевского и самого Федора Михайловича с такой значительной и в то же время одиозной личностью, как маркиз де Сад. Эта связь впервые проявилась в "Преступлении и наказании", а завершилась с "Братьями Карамазовыми".
Кто же такой маркиз де Сад, в честь которого появился термин "садизм", означающий тот вид сексуальной перверсии, когда сексуальное удовлетворение приносят только мучения партнера? Донасьен Альфонс Франсуа граф де Сад, в литературе выступавший под именем маркиза де Сада, долгие годы был известен лишь как порнографический писатель, эстетизировавший насилие и объяснявший разного рода половые извращения. Но при ближайшем рассмотрении многие идеи великих романов Достоевского предстают в новом свете при обращении к творчеству маркиза.
Один из первых биографов маркиза Жюль Жанен утверждал: "Книги маркиза де Сада убили столько детей, сколько не смогли бы убить и двадцать маршалов де Ретц (речь идет о прототипе легендарной Синей Бороды сказок Шарля Перро), и они продолжают убивать". А вот писательница Симона де Бовуар была к де Саду гораздо снисходительнее: "Он сделал из своей сексуальности этику, этику выразил в литературе, и именно это сообщает ему истинную неповторимость и значение". Известный же режиссер-сюрреалист Луис Бунюэль не стеснялся признаться: "Я любил Сада. Мне было более двадцати пяти лет, когда в Париже я впервые прочитал его книгу. Это чтение произвело на меня впечатление более сильное, чем чтение Дарвина". Внимательными читателями маркиза были Флобер и Достоевский, Анатоль Франс и Юкио Мисима, Камю и Сартр. Де Сад стал предтечей многих философских и эстетических течений XX века, от сюрреализма до концептуализма и постмодернизма.
Также и первый российский биограф маркиза Владимир Бабенко уверен, что "гуляние по Саду" для многих оказывалось небезопасным. Колючие ветки Маркизовых зарослей цепко хватают путников. Дурманящие цветы и травы вызывают психические расстройства". После страшного опыта XX века Сад видится провидцем, а его произведения — своеобразным сильнодействующим лекарством, помогающим пережить жуткую реальность. Вспомним, что в нацистских и советских лагерях люди, никогда не читавшие маркиза де Сада, с избытком претворяли в жизнь все его самые страшные фантазии. Маркиз обнажил перед нами все самое низменное, что присутствует в человеческой душе. Бабенко подчеркивает, что де Сад, "будучи фактически сексуальным маньяком, он вошел в историю титаном нравственной стойкости". Но на самом деле дальше легкой флагелляции (порки) по отношению к своим жертвам маркиз никогда не шел. И питался, из-за болезни желудка, вполне диетически, хотя и качественно. Это доказывает сохранившееся меню его тюремных обедов и ужинов. А вот свободу и ценность человеческой личности ставил, пожалуй, выше, чем вожди Великой французской революции, чуть не отправившие маркиза на гильотину за протест против смертной казни. Это было в разгар террора, когда в Медоне организовали выделку человеческих кож. Не Сад был маньяком, а сам дух времени был пропитан садизмом. Теперь во Франции выпускают шампанское "Маркиз де Сад", широко отмечаются его юбилеи, он признан великим французским писателем.
Что нового внес де Сад в литературу и философию? Маркиз одним из первых в мировой литературе сформулировал постулат о зле как одном из способов делать добро, отразившийся потом в "Фаусте" Гете и "Саде Эпикура" Анатоля Франса и оттуда перешедший к булгаковскому Воланду. Но самое любопытное то, что писатель, в честь которого были названы такие веселенькие явления, как "садизм" и "садомазохизм", был довольно несчастным человеком, большую часть жизни провел в заключении в Бастилии и в психиатрической лечебнице ("карательная психиатрия" была и при Наполеоне). Ад, в котором ему довелось почти постоянно пребывать, трансформировал в ад своих произведений. В подобном аду довелось побывать и Достоевскому, хотя на каторге он провел всего четыре года. Федору Михайловичу, как и де Саду, пришлось ожидать исполнения смертного приговора, хотя и не томительные недели, а считаные часы.
Вот кратко основные вехи биографии неистового маркиза. Де Сад родился в 1740 году в Париже, в старинной аристократической семье. В молодости он служил в кавалерии, участвовал в Семилетней войне и в отставку вышел только в 1771 году, в чине полковника. Как и подавляющее большинство дворянской молодежи того времени, де Сад отнюдь не был монахом — разврат считался тогда непременным атрибутом жизни французской аристократии. От других братьев по классу его отличала, однако, повышенная склонность к гетеросексуальной содомии, которая по закону квалифицировалась как уголовное преступление (существует мнение, что склонность эта была связана с неким интимным анатомическим дефектом — специфической формой полового органа маркиза, которая более подходила именно для анального секса). А кроме того, он нередко порол своих любовниц — по тоже свойственной ли ему склонности и к флагелляции, или с сугубо познавательными, так сказать, целями, судить трудно. Известно только, что, когда в 1768 году он завлек в свой загородный дом нищенку Розу Келлер и выпорол ее, раны ее он смазал после этого мазью, которая, по его предположению, должна была способствовать их заживлению и действие которой он хотел якобы испытать. Роза Келлер не оценила, однако, ни сострадательности маркиза, ни его научных устремлений и подала на него в полицию жалобу — похоже, впрочем, что сильно преувеличенную. И хотя позднее, соблазнившись отступным вознаграждением, она сама отказалась от своего заявления, делу был дан ход, и маркиз впервые на достаточно длительный срок— около двух месяцев — угодил в тюрьму. Начало было положено, и впоследствии его арестовывали и отправляли в заключение по обвинению в разврате неоднократно. В ряде случаев, впрочем, это было вызвано происками тещи де Сада, недовольной его любовными похождениями на стороне. Маркиз в долгу не остался и прозвал тещу "свиным рылом". Супруга же де Сада хранила любовь к мужу ив 1773 году даже способствовала его бегству из Миоланской крепости, куда он был в очередной раз заключен.
Революцию 1789 года маркиз (точнее, граф — к тому времени он имел право на этот титул, но никогда им не подписывался) де Сад встретил в Бастилии. 2 июля он кричал из окна своей камеры, что в Бастилии убивают заключенных, и призывал толпу прийти на помощь. За эту выходку его перевели в Шарантон, в психиатрическую лечебницу, и когда 14 июля Бастилия была взята, что стало одним из поворотных пунктов во всемирной истории, на судьбе де Сада это отразилось не сразу — ему еще пришлось ждать освобождения до апреля следующего 1790 года, когда был отменен королевский указ, согласно которому он находился в заключении без суда. Маркиз, сильно обидевшийся на королевскую власть, примкнул к якобинцам, стал председателем влиятельной секции Пик, однако террора не принял, отказался одобрить смертную казнь, хотя был присяжным революционного трибунала и даже помог бежать одному из "бывших", находившемуся под следствием. За все эти прегрешения его снова арестовали — на этот раз по страшному в ту пору обвинению в "умеренности", и только падение Робеспьера спасло де Сада от гильотины.
Литературную деятельность маркиз начал еще в 1782 году и затем написал десятки новелл и пьес. Но главную — по преимуществу скандальную — славу ему принесли романы "Философия в будуаре", "Жюльетта", "Жюстина" и "120 дней Содома". Последний роман считался утерянным во время перевода де Сада из Бастилии в Шарантон и был обнаружен и впервые издан только в 1904 году. "Жюстина" существовала в трех различных редакциях, последняя из которых, "Новая Жюстина", опубликованная в 1797 г., составляет одно произведение с "Жюльеттой". Это история двух сестер, добродетельной Жюстины и порочной Жюльетты; первая пытается сохранить свою добродетель, несмотря на все сексуальные насилия и пытки, которым подвергается, и отказывается соучаствовать в преступлениях, — в результате ее преследуют сплошные несчастья. Вторая же сестра, Жюльетта, наоборот, охотно принимает порок и с наслаждением участвует в преступлениях, испытывая наслаждение от мучений своих жертв и достигая успеха, богатства и почестей. Та же утверждаемая де Садом закономерность прослеживается и в "Философии в будуаре", и в "120 днях Содома". Кроме того, во всех этих произведениях чрезвычайно подробно описаны сексуальные извращения, пытки, убийства и прочие насилия, что и привело к обвинениям де Сада в порнографии. Современному читателю, ко многому привыкшему, эти романы вряд ли покажутся порнографией, да вряд ли и читатели конца XVIII — начала XIX века воспринимали романы де Сада как настоящую порнографию. До нас дошло немало собственно порнографических произведений французской литературы XVIII века. Так, например, в нашумевшем в 40-е годы "Сладострастном монахе" откровенные эротические описания и в самом деле направлены исключительно на возбуждение эротических чувств у читателей. Романы же де Сада, напоминающие собою скорее многотомные философские трактаты, воспринимать в качестве источника сексуального возбуждения почти невозможно — если только не выжать из них некий дайджест, состоящий из одних "клубничных" сцен. Что же касается остальных, "пристойных" произведений маркиза, вроде философского романа "Алина и Валькур", представляющего собой "руссоистскую утопию добра", или новелл сборника "Преступление во имя любви", то они были близки к набиравшему в го время силу в Европе сентиментализму, поскольку главное внимание автор уделяет здесь чувствам героев. Впрочем, следы сентиментализма можно обнаружить и в главных десадовских произведениях, хотя в целом его романы настолько оригинальны по стилю и форме, что несводимы к какому-либо из существовавших тогда или даже возникших позднее литературных направлений.
Интересно, что впервые повести маркиза, достаточно невинные, публиковались в России еще в 1806 году. Об этих произведениях и о романе-утопии "Алина и Валькур", написанном в Бастилии, Сад с гордостью говорил: "Я написал тысячи страниц произведений, исполненных возвышенного целомудрия. Их не стыдно читать и воспитанницам заведения для благородных девиц". Впрочем, и другие свои романы, которые считали порнографией и с которыми связана подлинно всемирная слава маркиза, он искренне рекомендовал для чтения невинным девушкам и полагал, что они пойдут на пользу юношеству.
Действительно, роман-утопия "Алина и Валькур" — одно из немногих произведений знаменитого маркиза, на публикации которого он успел неплохо заработать. Ничего того, благодаря чему имя де Сада дало название садизму, в "Алине и Валькуре" нет. Здесь традиционная форма романа в письмах наполнена глубоким философским содержанием на фоне приключений двух любовных пар — Алины и Валькура и Сенвиля и Леоноры. Сам маркиз де Сад так характеризовал его в "Достоверном каталоге" собственных сочинений: "Роман в письмах, в план которого включены два эпизода с Сенвилем и Леонорой, связанные общим ходом сюжетного развития; эпизод с Сенвилем и Леонорой… Эпизод с Сенвилем включает в себя действительные события, извлеченные из мемуаров; речь идет о стране, расположенной в центре Африки и до сих пор остававшейся совершенно неизвестной, а также об острове в Южном море, ускользнувшем от внимания Кука: там претворена в жизнь форма государственного правления, которая может служить образцом для всех европейских правительств; эпизод с Леонорой включает занимательное кругосветное путешествие, необыкновенные приключения в Мономотапе, столкновение с инквизицией, а также повесть из испанской жизни…" Сколь большим реалистом был маркиз в "Алине и Валькуре", видно из того, что в письмах жене из Бастилии он просил прислать ему точные названия улиц, гостиниц и достопримечательностей Лиссабона, Мадрида и Бургоса, где разворачивалось действие романа. В предисловии де Сад предостерегает: "Любить людей опасно, а просвещать — грешно". Многое в судьбе главного героя автобиографично: отец-дипломат, участие в Семилетней войне офицером карабинерского полка графа Прованского и даже финальное заточение в монастырь. Только у Сада оно было отнюдь не добровольным, как у Валькура. Большую часть жизни маркиз провел в тюрьмах и психлечебницах. Зато как поэтично маркиз устами Валькура признавался в любви: "Быть на краю гибели из-за поглощающей все душевные силы страстной любви, цепенеть от одного воспоминания о Ваших глазах и излучаемом ими свете…" Его считали атеистом, но посмотрите, как глубоко рассуждает де Сад о христианской религии: "Проповеди Иисуса никогда не следует понимать буквально, в них все символично; и когда незадолго до смерти Иисус сказал апостолам: "Вкусите, это — мое тело; пейте, это моя кровь", он хотел сказать: "Вечеря, на которой вы присутствуете, подготовлена на деньги, вырученные Иудой за то, что он предал меня. Сейчас вы едите мое тело и пьете мою кровь". Пожалуй, здесь предвосхищены "ершалаимские главы" "Мастера и Маргариты". Де Сад убеждает нас, что человек отнюдь не всегда с самого рождения наклонен к добру, и иронией наполнены его слова из "Предуведомления издателя": "Автор позволил себе ввести в действие весьма порочных героев, но, конечно, с единственной целью показать, с каким превосходством и с какой удивительной легкостью доводы добродетели неизменно обращают в прах своевольные софизмы развращенного нечестия". На самом деле в романе добродетель отнюдь не торжествует, а порок далеко не всегда подвергается наказанию. Ведь в финале "Алины и Валькура" мы узнаем, что хеппи-эндом в судьбе главных героев и не пахнет. Писатель на своей шкуре многолетнего тюремного сидельца за такие поступки, которые сегодня ни один европейский кодекс не карает, убедился в том, что "добро и справедливость встречаются лишь в сказочных странах, тогда как в жизни все самое отвратительное пребывает в полнейшей гармонии с естественным порядком вещей".
Не исключено, что Достоевский был знаком с "Алиной и Валькуром", который вряд ли бы восхитил его в этом случае своим столь откровенным руссоизмом. Но более вероятно, как мы увидим дальше, его знакомство с самым скандальным из романов маркиза — "Новой Жюстиной".
После выхода из заключения в 1790 году и развода с женой де Сада ни разу больше не обвинили в сексуальных преступлениях, и в последний раз он пострадал, похоже, за чужие грехи, да еще и по политическим мотивам. В 1800 году был опубликован порнографический памфлет "Золоэ и два ее спутника", направленный против Наполеона Бонапарта. Авторство этого сочинения молва приписала маркизу, однако никаких данных в пользу этой версии до сих пор не найдено (здесь нет, в частности, сочетания секса и жестокости, характерного для романов де Сада). Тем не менее первый консул приказал установить за де Садом негласный надзор. Однако полиции удалось найти только доказательства авторства де Сада в отношении романов "Жюльетта" и "Жюстина" (правильнее рассматривать их как один роман "Новая Жюстина"). Соответствующие рукописи, написанные почерком де Сада, были обнаружены в марте 1801 года во время обыска у издателя. Маркиз был снова арестован, заключен в тюрьму, а в апреле 1803 года помещен в уже знакомую ему лечебницу в Шарантоне. Здесь ему суждено было остаться до конца своих дней.
Очевидно, власти опасались доводить дело до суда, не будучи вполне уверенными в надежности улик против маркиза и опасаясь, что на процессе может всплыть антинаполеоновский памфлет. Маркиз де Сад, таким образом, стал одной из первых жертв "карающей психиатрии", столь хорошо известной советским диссидентам, и любопытно, что и сменивший Наполеона Людовик XVIII оставил маркиза де Сада в Шарантоне. Здесь автор "Жюстины" пользовался относительной свободой, имел возможность ставить пьесы собственного сочинения, используя душевнобольных в качестве актеров, а в 1813 г. даже смог издать в Париже вполне благопристойный роман "Маркиза де Ганж".
"Жюльетты", "Жюстины", "Философии в будуаре" и "120 дней Содома" оказалось более чем достаточно для того, чтобы на долгие десятилетия вперед обеспечить их автору ту громкую скандальную славу, которой он и пользовался вплоть до наших дней. И лишь в 60-е годы XX века — полтораста лет спустя после его кончины, случившейся 2 декабря 1814 года в психиатрической лечебнице в Шарантоне, — де Сад и на его родине, во Франции, и на Западе был избавлен, наконец, от малопривлекательного титула порнографического автора, и его окончательно признали. большим писателем, достойным куда более серьезного внимания, чем авторы разного рода литературных непристойностей. В России же, где книги маркиза стали издаваться лишь недавно, в 90-е гг. нашего века, общественное мнение до сих пор воспринимает его романы по преимуществу именно как чисто порнографическое чтиво, в качестве какового они и находят у нас массовый спрос.
Естественно, что эта традиция восприятия произведений маркиза, только сравнительно недавно преодоленная на Западе, была характерна и для русского общества XIX века. Имя де Сада превратилось в России в нарицательное и стало символизировать крайнего развратника, склонного к жестокости. Так, друг Достоевского поэт и журналист Аполлон Григорьев, критикуя французские романы, отмечал, например, что присущее им "лицемерство сентиментальности и нравственности — вещь весьма понятная после чувственных сатурналий, начатых философом Дидро и законченных маркизом де Садом".
А поэт Михаил Кузмин в записи от 15 сентября 1905 года так охарактеризовал свои собственные дневники, отразившие, в частности, его гомосексуальные наклонности и запечатлевшие ряд скандальных подробностей жизни петербургской богемы: "Я спрашивал у К.А (художник Сомов. — Б. С.): неужели наша жизнь не останется для потомства? — Если эти ужасные дневники сохранятся — конечно, останется; в следующую эпоху мы будем рассматриваемы как маркизы де Сады. Сегодня я понял важность нашего искусства и нашей жизни".
Русские модернисты, к которым в самом широком смысле могут быть отнесены и Кузмин, и Сомов, не изменили принципиальной оценки де Сада как апологета зла и творца скандала, просто поменяв в оценке минус если не на плюс, то на некое нейтральное значение. Подобным же образом в свое время воспринимал творчество маркиза и западноевропейский авангард. Еще Гийом Аполлинер называл де Сада "самым свободным из когда-либо существовавших умов", а Поль Элюар — апостолом "самой абсолютной свободы".
Многочисленные упоминания де Сада в текстах Достоевского тоже принадлежат на первый взгляд именно этой и только этой традиции. Достоевский вспоминает де Сада практически всегда в одном и том же оценочном ключе — для обозначения высшей степени сладострастия и разврата, их оправдания и эстетизации.
Так, в "Униженных и оскорбленных" князь Валковский, рассказывая об одной своей знакомой, попутно замечает: "Барыня моя была сладострастна до того, что сам маркиз де Сад мог бы у ней поучиться".
В "Записках из Мертвого дома" Достоевский подробно описывает телесные наказания (существует версия, что там и он сам однажды был сечен розгами) и вспоминает де Сада: "Я не знаю, как теперь, но в недавнюю старину были джентльмены, которым возможность высечь свою жертву доставляла нечто, напоминающее маркиза де Сада и Бренвилье".
В "Бесах" Степан Трофимович Верховенский мучительно боится, что его высекут. Хотя сечь дворян было запрещено, но слухи о том, что это делается тайно, давно ходили в обществе. Об этом и беспокоится Верховенский-старший:
"— Друг мой, друг мой, ну пусть в Сибирь, в Архангельск, лишение прав, — погибать так погибать! Но… я другого боюсь (опять шепот, испуганный вид и таинственность).
— Да чего, чего?
— Высекут, — произнес он и с потерянным видом посмотрел на меня.
— Кто вас высечет? Где? Почему? — вскричал я испугавшись, не сходит ли он с ума.
— Где? Ну, там… где это делается.
— Да где это делается?
— Э, cher, — зашептал он почти на ухо, — под вами вдруг раздвигается пол, вы опускаетесь до половины… Это всем известно.
— Басни! — вскричал я догадавшись, — старые басни, да неужто вы верили до сих пор? — Я расхохотался.
— Басни! С чего-нибудь да взялись же эти басни; сеченый не расскажет. Я десять тысяч раз представлял себе в воображении!
— Да вас-то, вас-то за что? Ведь вы ничего не сделали?
— Тем хуже, увидят, что ничего не сделал, и высекут".
Тот способ тайного сечения, о котором говорит Степан Трофимович, приписывался Степану Ивановичу Шешковскому (1727–1794), начальнику тайной канцелярии при Екатерине Великой и непревзойденному мастеру пыточных дел. Ходили слухи, будто бы у него в кабинете было специальное кресло, в котором специальные зажимы фиксировали ничего не подозревавшего гостя начальника тайной канцелярии. Затем кресло проваливалось в люк, так что нижняя половина туловища оказывалась в подполе. Там с несчастного сдирали панталоны и пороли розгами или плетью по обнаженным ягодицам, причем он не видел своих палачей, как и они его, а Шешковский мог наслаждаться муками наказуемого, так как голова и плечи его оставались над люком. Можно не сомневаться, что это только легенда, но она явно привлекла внимание Достоевского.
В скрытой форме тема розог, столь любимых маркизом де Садом в качестве орудия общения с женщинами, присутствует и в "Братьях Карамазовых", в разговоре Коли Красоткина с Алешей Карамазовым. Причем здесь возникает та же тема тайных телесных наказаний в органах политического сыска. Коля признается: "Я совсем не желаю попасть в лапки Третьего Отделения и брать уроки у Цепного моста,
Будешь помнить здание
У Цепного моста!
Помните? Великолепно! Чему вы смеетесь? Уж не думаете ли вы, что я вам все наврал? (А что, если он узнает, что у меня в отцовском шкафу всего только и есть один этот нумер Колокола, а больше я из этого ничего не читал? — мельком, но с содроганием подумал Коля.)
Коля в данном случае цитирует первую часть стихотворения "Послания" ("Из Петербурга в Москву"), опубликованного в 6-й книге "Полярной звезды" за 1861 год:
У царя, у нашего,
Верных слуг довольно,
Вот хоть у Тимашева
Высекут пребольно.
Влепят в наказание,
Так, ударов со сто,
Будешь помнить здание
У Цепного моста.
Вторая часть этого стихотворения (а не первая, которую цитирует Коля), опубликованная в "Полярной звезде" вслед за первой, действительно была перепечатана в № 221 "Колокола" от 1 июня 1866 года. Здесь Достоевский, вольно или невольно, совершил небольшую ошибку. Вторая часть, "Из Петербурга в Москву", звучит так:
У царя, у нашего,
Все так политично,
Что и без Тимашева
Высекут отлично;
И к чему тут здание
У Цепного моста?
Выйдет приказание —
Отдерут и просто".
В 1861 году, полемизируя с М. Катковым, редактором "Русского вестника", по поводу "Египетских ночей" Пушкина, Достоевский опять вспомнил де Сада: "Уж не приравниваете ли вы "Египетские ночи" к сочинениям маркиза де Сада?" И замечает при этом, что у Пушкина перед Клеопатрой сам маркиз де Сад, может быть, показался бы ребенком.
Или вот еще в "Преступлении и наказании" на вопрос Раскольникова: "Вы любите драться?" — Свидригайлов спокойно отвечает:
" — Нет, не весьма… А с Марфой Петровной почти никогда не дрались. Мы весьма согласно жили, и она мной всегда довольна оставалась. Хлыст я употребил, во все наши семь лет, всего только два раза (если не считать еще одного третьего случая, весьма, впрочем, двусмысленного): в первый раз — два месяца спустя после нашего брака, тотчас же по приезде в деревню, и вот теперешний последний случай. А вы уж думали, я такой изверг, ретроград, крепостник? хе-хе… А кстати: не припомните ли вы, Родион Романович, как несколько лет тому назад, еще во времена благодетельной гласности, осрамили у нас всенародно и все-литературно одного дворянина — забыл фамилию! — вот еще немку-то отхлестал в вагоне, помните? Тогда еще, в тот же самый год, кажется, и "Безобразный поступок Века" случился (ну, "Египетские-то ночи", чтение-то публичное, помните? Черные-то глаза! О, где ты, золотое время нашей юности!). Ну-с, так вот мое мнение: господину, отхлеставшему немку, глубоко не сочувствую, потому что и в самом деле оно… что же сочувствовать! Но при сем не могу не заявить, что случаются иногда такие подстрекательные "немки", что, мне кажется, нет ни единого прогрессиста, который бы совершенно мог за себя поручиться. С этой точки никто не посмотрел тогда на предмет, а между тем эта точка-то и есть настоящая гуманная, право-с так!"
Суть конфликта, который упоминает Свидригайлов, сводилась к следующему. В 1860 году в газетах сообщалось о вышневолоцком помещике А. П. Козляинове, избившем в вагоне поезда пассажирку-рижанку. Поступок Козляинова возбудил в печати острую полемику, в которой принял участие и журнал Достоевского "Время". А в начале 1861 года в газете "Век" была напечатана статья Камня-Виногорова (псевдоним поэта и переводчика П. И. Вейнберга). Автор ее с негодованием рассказывал, что на литературно-музыкальном вечере в Перми некая г-жа Толмачева, вопреки "чувству стыдливости и светским приличиям", с "вызывающими" жестами прочитала публично монолог Клеопатры из повести А. С. Пушкина "Египетские ночи". Статья "Века", направленная против поборниц "современной безнравственности", вызвала возмущение прогрессивной прессы. Достоевский откликнулся на "безобразный поступок "Века" двумя статьями, где взял под защиту г-жу Толмачеву и дал восторженный разбор пушкинских "Египетских ночей". "Русский Вестник" присоединился к "Веку" в оценке "Египетских ночей", что и вызвало ответ Достоевского.
К фигуре маркиза де Сада Федор Михайлович вернулся три года спустя. 29 августа 1864 года он набросал в записной книжке конспективный план будущей Легенды о Великом инквизиторе. Писатель обрушился на католицизм, папство, иезуитов, западное христианство вообще, ответственное, по его мнению, за Французскую революцию и за идеи "естественного человека" Руссо, и, упомянув в этой связи о безбрачии католических священников, их нечистом отношении к женщине на исповеди и о характерных для них эротических болезнях, замечает: "Есть тут некоторая тонкость, которая может быть постигнута только самым подпольным постельным развратом (Marquis de Sade). Замечательно, что все развратные книжонки приписывают развратным аббатам, сидевшим в Бастилии, и потом в революцию, за табак и за бутылку вина". Опять совершенно недвусмысленный по своему оценочному смыслу, откровенно издевательский намек на де Сада, действительно сидевшего в Бастилии и позднее, в эпоху революции, хотя маркиз так и не смог заработать своими книжками на табак и вино.
Примеры такого рода можно было бы продолжить. Суть, однако, не в их количестве. Похоже, в жизни и творчестве Достоевского было немало того, что роднило его со знаменитым маркизом. Еще в далекой юности писателя случилось трагическое происшествие с его отцом, достойное пера де Сада. И, что любопытно, оно отразилось в гоголевских "Мертвых душах". Вспомним, как в гоголевской поэме крестьяне "снесли с лица земли… земскую полицию в лице заседателя, какого-то Дробяжкина" за то только, что "земская полиция был-де блудлив, как кошка" и имел "кое-какие слабости со стороны сердечной, приглядывался на баб и деревенских девок". В этом эпизоде поэмы скорее всего отразилась печальная судьба отца Достоевского, Михаила Андреевича. Он после выхода в отставку из-за смерти жены поселился в своем имении Даровое, где был земским заседателем и слыл большим любителем "зеленого змия" и молоденьких горничных. По наиболее распространенной версии, в 1839 году он погиб в дороге от рук крепостных, отомстивших ему за совращение юных девушек, а также и за жестокость по отношению к мужикам, с которых помещик драл три шкуры. По официальному же заключению, М. А. Достоевский умер от апоплексического удара.
Весть о смерти отца, последовавшая всего через два года после смерти матери, произвела тяжелое впечатление на Федора Михайловича и, по одной из версий, стала причиной первого эпилептического припадка у Достоевского, еще не ярко выраженного. Неудивительно, что он не простил Гоголю карикатуры на отца и сам очень зло спародировал автора "Мертвых душ" и "Выбранных мест из переписки с друзьями" в 1859 году в образе Фомы Фомича Опискина в повести "Село Степанчиково и его обитатели". Опискин, в частности, распускает слухи о феноменальном сластолюбии полковника Ростанева, одним из прототипов которого послужил М А. Достоевский (напомню, что отец писателя ушел в отставку в 1837 году коллежским советником, а это соответствовало армейскому званию полковника), и требует изгнания из дома гувернантки Насти, в которую влюблен полковник Опискин уверяет, что видел Ростанева с Настей "в саду, под кустами", за что сам в конечном счете подвергается позорному выдворению вон из имения.
В то же время Достоевский очень ценил талант Гоголя, проявившийся в первую очередь в его художественных творениях. Николай фон Фохт, молодой человек, воспитанник Константиновского межевого института, познакомившийся с Достоевским в 1866 году, вспоминал: "Половой, подававший нам холодную закуску (кстати замечу, что Федор Михайлович почти ничего не пил), был очень вертлявый и услужливый человек, так что он невольно напомнил мне того трактирного слугу, который подавал обед П. И. Чичикову в гостинице города N. Когда я об этом заметил Федору Михайловичу, то привел его в самое веселое настроение. Вообще достаточно было по ка-кому-либо поводу упомянуть о Гоголе, чтобы вызвать у Достоевского горячий восторг, — до такой степени он преклонялся пред гением этого великого писателя. Много раз, вспоминая различные места из произведений Гоголя, он говорил, что по реальности изображаемых лиц и неподражаемому юмору он ничего высшего не знает ни в русской, ни в иностранной литературах. Например, говорил он однажды, ничего более характерного и остроумного не мог придумать ни один писатель, как это сделал Гоголь, когда Ноздрев, после тщетных усилий заставить Чичикова играть в карты и окончательно рассердившись, вдруг отдает приказание своему слуге: "Порфирий, ступай скажи конюху, чтобы не давал овса лошадям его, пусть их едят одно сено". Это был такой гениальный штрих в характеристике Ноздрева, который сразу выдвинул всю фигуру его и наиболее сильно очертил все внутреннее содержание этого бесшабашного человека".
Можно предположить, что с годами обида на Гоголя стерлась, и после преждевременной смерти Николая Васильевича у Достоевского осталось только преклонение перед его талантом.
Но вернемся к Михаилу Андреевичу Достоевскому. Любовь Достоевская, дочь писателя, характеризует своего деда, отца Федора Михайловича, как "очень своеобразного человека". "Пятнадцати лет от роду он вступил в смертельную вражду со своим отцом и братьями и ушел из родительского дома". Он отправился в Москву изучать медицину, тогда как родители готовили его к духовному званию. С тех пор он никогда не упоминал о своей семье и никогда не распространялся на тему о своем происхождении. И только уже пятидесяти лет от роду у него, как думает внучка, появились угрызения совести, что он бросил отчий дом, и тогда он напечатал в газетах объявление, в котором просил родных дать о себе сведения, но никто не ответил ему.
Как писал психоаналитик И. Д. Ермаков в работе "Ф. М. Достоевский (Он и его произведения)", "в воспоминаниях писателя отец его оставался всегда чем-то вроде военнослужащего ввиду того, что свое поприще он начал штаб-лекарем и на всю жизнь сохранил военную выправку. Михаил Андреевич был человек упорный, неутомимый работник, честно исполнявший свой жизненный долг, и сознание всего этого позволяло ему с тем большей нетерпимостью и требовательностью относиться к окружающим.
Еще больше имели на него влияние тяжелые жизненные условия, которые ожесточили его, сделав его угрюмее и нетерпимее. Крайне энергичный, упорный, властный, Михаил Андреевич в то же время отличался крайней, даже патологической скупостью (не отсюда ли возник гоголевский Плюшкин? — Б. С.), подозрительностью и жестокостью, причем страдал еще алкоголизмом и был особенно зол и подозрителен в пьяном виде. Семье приходилось жестоко страдать от его скупости, о чем немало грустного можно узнать из семейной переписки. Сыновьям приходится выпрашивать у отца самую ничтожную сумму. "Неужели Вы можете думать, — пишет 17-летний Ф. М. в письме от 5—10 мая 1839 года, — что сын Ваш, прося от Вас денежной помощи, просит у Вас лишнего. Бог свидетель, ежели я хочу сделать Вам хоть какое бы то ни было лишенье…" "Уважая Вашу нужду, не буду пить чаю", — пишет отцу Ф.М. из инженерных лагерей, где ему приходится зябнуть и мокнуть в палатке холодной петербургской весной в худых сапогах.
"Когда вы мокнете в сырую погоду под дождем в полотняной палатке, или в такую погоду, придя с ученья усталый, озябший, без чаю можно заболеть; что со мною случилось прошлого года на походе. Но все-таки я, уважая Вашу нужду, не буду пить чаю. Требую только необходимого на две пары простых сапогов — 16 р.". Скупость и жестокость отца нередко заставляют старшего брата писателя Михаила отказывать себе в пище, он нуждается иногда в пяти копейках, которых тщетно стал бы ждать от отца. В письме к брату Михаилу от 9 августа 1838 года Достоевский, жалуясь на свою бедность, признает, что брат находится в еще худшем положении: "Можно ли иметь 5 копеек; питаться Бог знает чем и лакомым взором ощущать всю сладость прелестных ягод, до которых ты такой охотник! Как мне жаль тебя". Свою скупость и жестокость Михаил Андреевич прикрывал особой елейностью и сентиментальностью, чертою очень нередкой у жестоких людей (например, барыня в крепостное время, проливающая слезы над страданиями молодого Вертера и заставляющая мальчишку-казачка за какую-то провинность лизать кипящий самовар). В письмах отца писателя, как правило, встречаются такие чрезвычайно выразительные в этом смысле места: он постоянно жалуется на свою бедность, на то, что он оставлен всеми, и т. п. "Ах, как жаль, что по теперешней моей бедности не могу тебе ничего послать ко дню твоего ангела, душа изнывает"; или: "Не забывай меня, бедного, бесприютного", "не забывай меня, бедного, горемыку". В параллель к этим выдержкам можно было бы привести слова 16-летнего Ф. М., который о своем отце в письме выражается так "Мне жаль бедного отца! Странный характер! Ах, сколько несчастий перенес он! Горько до слез, что нечем его утешить".
Наряду с такой сентиментальностью, склонностью чувствовать себя обиженным и покинутым всеми (припадки мнительности и беспричинной тоски, по всей вероятности, следует связывать с его алкоголизмом), отец Достоевского проявлял жестокость, неблагодарность и даже циничность — факты жестокого отношения Михаила Андреевича к своим крепостным, приведшие его к трагической насильственной смерти.
Не потому ли Ф. М. назвал старика Карамазова своим именем, чтобы все его дети как бы были с ним самим связаны и их объединяло не только общее их желание убить отца? Отчество Карамазова — Павлович — может быть навеяно убийством Павла I в Инженерном замке, где воспитывался сам Достоевский, очень интересовавшийся подробностями этого цареубийства.
Об этих качествах отца пишет не Ф. М. Достоевский, а его брат Андрей: "Отец, при всей своей доброте, был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив, а главное, очень вспыльчив".
"Мой дед Михаил, — сообщает Любовь Достоевская, — обращался всегда очень строго со своими крепостными. Чем больше он пил, тем свирепее становился, до тех пор, пока они в конце концов не убили его. В один летний день он отправился из своего имения Дарового в свое другое имение под названием Чермашня и больше не вернулся. Его нашли позже на полпути, задушенным подушкой из экипажа. Кучер исчез вместе с лошадьми, одновременно исчезли еще некоторые крестьяне из деревни. Во время судебного разбирательства другие крепостные моего деда показали, что это был акт мести".
Как думает дочь писателя, Ф. М. в образе старика Карамазова изобразил своего отца: "Достоевский, создавая тип Федора Карамазова, может быть, вспомнил о скупости своего отца, доставившей его юным сыновьям столько страданий в училище и столь возмущавшей их, и об его пьянстве, как и о физическом отвращении, которое оно внушало его детям… Вероятно, Достоевского всю жизнь преследовала окровавленная тень его отца, и он следил с болезненным вниманием за своими собственными поступками в постоянном страхе, что он мог унаследовать пороки своего отца".
Сам Достоевский тяготился воспоминаниями о своем детстве, в его творчестве нет никаких следов светлых воспоминаний об отце. Впоследствии, вскоре после смерти отца, рассказывая одному из друзей историю своей жизни, Достоевский сообщил ему немало о своем безрадостном детстве, но при этом "об отце он решительно не любил говорить и просил о нем не спрашивать".
Кроме того, Михаил Андреевич, как это нередко встречается при таком характере, страдал еще алкоголизмом, который естественно усилился после смерти жены, и вот тут-то все черты его неприятного характера, и без того совершенно невыносимого в общежитии, проявились еще резче, еще грубее проявились и его садистические наклонности, и бред подозрений. Он подозревал всех и все, подозревал дочерей, очень не доверял сыновьям, причем его скупость и жестокость стали явно болезненными и уже ни для кого не выносимыми.
За детьми строго следили, няне приходилось, спасая их от родительской грозы, многое скрывать. Детей воспитывали в строгости и в возможной изоляции от окружающих, всюду и везде чувствовались ограничения со стороны родителя, чему, может быть, способствовала и больничная обстановка, в которой росли и развивались дети. Гулять дети ходили в Марьину рощу, причем отец, старавшийся использовать всякий случай для поучения детей и для того, чтобы обнаружить свои знания (чем он, как увидим в дальнейшем, чрезвычайно подавлял детей), пользовался, как говорят, всякими искривленными переулочками, по которым им приходилось проходить, для того чтобы сообщать им сведения и в геометрии. Нередко попавшийся по дороге камушек, растение, животное служили материалом для минералогических, ботанических и зоологических бесед. По вечерам отец читал детям "Историю" Карамзина, Евангелие, жития святых (авторитет и значение отца таким образом усиливались).
Известно, что, так как в частном пансионе Чермака, куда были отданы дети, не преподавали латыни, отец сам стал с ними заниматься. "Разница между отцом-учителем и посторонними учителями, к нам ходившими, — вспоминает Андрей Михайлович, — была та, что у последних ученики сидели в продолжение всего урока вместе с учителем; у отца же братья, занимаясь нередко по часу и более, не смели не только сесть, но даже облокотиться на стол. Стоят, бывало, как истуканчики, склоняя по очереди… или спрягая… Братья очень боялись этих уроков, происходивших всегда по вечерам. Отец, при всей своей доброте, был чрезвычайно взыскателен и нетерпелив, а главное, очень вспыльчив". Не отсюда ли проистекает тот аффективный тон, с которым Достоевский выступает против латыни как против тупого способа подчинить и убить инициативу в ребенке (за этим выпадом скрывается протест против отца-учителя, его тупого и отупляющего метода). Сам отец, получивший и культивировавший военную выправку, заставлял и детей учиться, не смея сесть, вытянувшись по-военному и не облокачиваясь; иначе он на них сердился, кричал, выгонял, чего они очень боялись".
Не исключено, что И. Д. Ермаков несколько сгустил краски, привлекая в качестве иллюстрации взаимоотношений писателя с отцом только цитаты, негативно характеризующие Михаила Андреевича. Однако вряд ли все родные и близкие стремились ославить его посмертно.
На основе этих свидетельств психиатр Н. А. Юрман утверждал в статье "Болезнь Достоевского": "Отец Достоевского страдал запоем… Его, по-видимому, патологическая скупость росла вместе с усиливавшимся пьянством. Под влиянием той же причины он делался все более и более строгим в обращении со своими крепостными, и в результате он был задушен подушкою из экипажа во время поездки из одного своего имения в другое. Кучер исчез вместе с лошадьми, одновременно исчезли еще некоторые крестьяне из деревни. Во время судебного разбирательства другие крепостные показали, что это был акт мести. Братья Достоевского Михаил и Николай унаследовали болезнь отца, особенно Николай. Сестра Варвара отличалась чисто патологической скупостью. Оставшись богатою вдовою после смерти своего мужа, имея несколько доходных домов, она тем не менее отказывала себе во всем, никогда не отапливала своей квартиры, проводила всю зиму в шубе, ничего не варила, покупала лишь два раза в неделю немного молока и хлеба и была убита ночью в своей квартире с целью ограбления. Сын этой сестры "был так глуп, что его глупость граничила с идиотизмом".
Старший сын брата Достоевского, Андрей, умер от прогрессивного паралича".
Можно отметить также следующую глубокую мысль И. Д. Ермакова: "Заглянув в себя самого, обнаружив в себе затаенные мысли и желания, в которых обычно не осмеливается сознаться себе человек, Достоевский, благодаря этому анализу, мучителен не только для себя, но и для других. Симпатии писателя к кротким, оскорбленным, униженным объясняются тем, что им дана большая возможность чувствовать и правильнее, быть может, разбираться (с точки зрения вины), чем заносчивым, себя превозносящим. Но ведь между этими двумя крайностями движется и развивается всякая психическая деятельность. И тот, у кого сильно чувство вины и кто благодаря этому хотел бы достигнуть совершенства, должен идти путем перевоспитания себя, налагая на себя, как это подметил писатель, "исправительное наказание" в виде мучительного анализа — исповеди… Этой потребности в исповеди в высокой степени удовлетворяют произведения писателя, в которых он имеет возможность под личиной своих персонажей свободно и до конца честно говорить о себе".
И не случайно Федор Павлович Карамазов во многом списан с отца Достоевского. К тому же писатель дал ему свое имя. Наверное, писателю приходилось бороться с теми же страстями, которые в конечном счете погубили Карамазова-старшего. Сам Федор Павлович, что характерно, во многом похож на маркиза де Сада и его героев. И поминает имя маркиза:
"В Мокром я проездом спрашиваю старика, а он мне: "Мы оченно, говорит, любим пуще всего девок по приговору пороть, и пороть даем все парням. После эту же, которую ноне порол, завтра парень в невесты берет, так что оно самим девкам, говорит, у нас повадно". Каковы маркизы де-Сады, а? А как хочешь, оно остроумно. Съездить бы и нам поглядеть, а? Алешка, ты покраснел? Не стыдись, детка. Жаль, что давеча я у игумена за обед не сел да монахам про мокрых девок не рассказал. Алешка, не сердись, что я твоего игумена давеча разобидел. Меня, брат, зло берет. Ведь коли Бог есть, существует, — ну конечно я тогда виноват и отвечу, а коли нет его вовсе, то так ли их еще надо, твоих отцов-то? Ведь с них мало тогда головы срезать, потому что они развитие задерживают. Веришь ты, Иван, что это меня в моих чувствах терзает. Нет, ты не веришь, потому я вижу по твоим глазам. Ты веришь людям, что я всего только шут. Алеша, веришь, что я не всего только шут?"
Кстати сказать, обычай, о котором упоминает Карамазов-старший, действительно существовал в ряде губерний северо-западной и центральной России, в частности, в Тверской. И здесь же Федор Павлович в положительном смысле поминает любимую десадовскую максиму: "Если Бога нет, то все дозволено". Впрочем, сам маркиз, как и Достоевский, похоже, использовал это положение как аргумент в пользу необходимости существования божества. Явно не случайно так тесно соседствуют имя маркиза и мысль о том, что, если Бога нет, то все дозволено, — мысль, столь характерная и для Ивана Карамазова, который, кстати, тоже вспоминает в своем разговоре с Алешей эпизоды с садистскими наказаниями розгами.
Федор Павлович так излагает свое политическое кредо, и в этом изложении опять возникают розги. Старик Карамазов произносит настоящий панегирик этому орудию наказания: "…Русского мужика, вообще говоря, надо пороть. Я это всегда утверждал. Мужик наш мошенник, его жалеть не стоит, и хорошо еще, что дерут его иной раз и теперь. Русская земля крепка березой. Истребят леса, пропадет земля русская. Я за умных людей стою. Мужиков мы драть перестали, с большого ума, а те сами себя пороть продолжают. И хорошо делают. В ту же меру мерится, в ту же и возмерится, или как это там… Одним словом, возмерится. А Россия свинство. Друг мой, если бы ты знал, как я ненавижу Россию… то есть не Россию, а все эти пороки… а пожалуй, что и Россию".
В данном случае Достоевский пародирует воззрения на народ некоторых просвещенных людей, считающих себя либералами. Отвечая профессору права А. Д. Градовскому, резко критиковавшему его речь о Пушкине, Достоевский писал о том, что либерализм некоторых русских людей "старого времени" вполне уживался с презрением к мужику: "Я знаю и запомнил множество интимных изречений…: "Рабство, без сомнения, ужасное зло… но если уже все взять, то наш народ — разве это народ? Ну, похож он на парижский народ девяносто третьего года? Да он уже свыкся с рабством, его лицо, его фигура уже изображает собою раба, и, если хотите, розга, например, конечно, ужасная мерзость, говоря вообще, но для русского человека, ей-богу, розочка еще необходима: "Русского мужичка надо посечь, русский мужичок стоскуется, если его не посечь, уж такая-де нация", — вот что я слыхивал в свое время, клянусь, от весьма даже просвещенных людей".
В данном случае обоснование политической необходимости розог явно имеет в себе и психофизиологический аспект. Старик Карамазов — не только хороший ученик маркиза де Сада, но и настоящий садист, которому нравится причинять страдания другим, получая от этого удовлетворение собственному сладострастию.
Ставрогин описывает, какое наслаждение доставляла ему порка розгами Матреши, им самим спровоцированная. Это роднит его со старшим Карамазовым, восторженно описывающим порку в Мокром. Но именно во флагелляции (порке для получения сексуального удовольствия) обвиняла маркиза и Роза Келлер. Отметим, что в произведениях де Сада розги вообще играют большую роль, и, как и у Достоевского, несправедливость порки усиливает наслаждение истязателя. Да и интрига, замысленная Ставрогиным, вполне типична для маркиза и неоднократно встречается в его романах. Ставрогин женится на уродливой хромоножке Лебядкиной, бросая вызов общепринятым "правилам приличия" и издеваясь над таинством брака, а для многих десадовских героев-либертинов тоже была характерна, как мы знаем, страсть к уродам.
Но есть и более глубокая, религиозно-философская связь между творчеством де Сада и Достоевского.
Вспомним слова Достоевского о том, что у Пушкина перед Клеопатрой сам маркиз де Сад выглядит ребенком. Вот эта поразительная интерпретация, которая, возможно, и не совпадает с подлинным пушкинским замыслом, но которая чрезвычайно характерна зато для самого Достоевского.
"Клеопатра, — пишет Достоевский, — представительница того общества, под которым уже давно пошатнулись его основания. Уже утрачена всякая вера… Жизнь задыхается без цели. В будущем нет ничего; надо требовать всего у настоящего, надо наполнить жизнь одним насущным. Все уходит в тело, все бросается в телесный разврат, и, чтоб пополнить недостающие высшие духовные впечатления, раздражает свои нервы, свое тело всем, что только способно возбудить чувствительность. Самые чудовищные уклонения, самые ненормальные явления становятся мало-помалу обыкновенными. Даже чувство самосохранения исчезает. Клеопатра — представительница этого общества. Ей теперь скучно… Ей нужно теперь сильное впечатление, она уже изведала все тайны любви и наслаждений, и перед ней маркиз де Сад, может быть, показался бы ребенком… Но это душа сильная, сломить ее еще можно нескоро; в ней много сильной и злобной иронии. И вот эта ирония зашевелилась в ней теперь. Царице захотелось удивить всех гостей своим вызовом; ей хотелось насладиться своим презрением к ним, когда она бросит им этот вызов в глаза и увидит их трепет и почувствует в себе стук этих дрогнувших страстью сердец. Но ее мысль уже овладела и ее душою вполне. Страсть уже пробежала ядовитой струей и по ее нервам. О, теперь и ей хотелось бы, чтобы приняли ее чудовищный вызов! Сколько неслыханного сладострастия и неизведанного еще ею наслаждения! Сколько демонского счастья целовать свою жертву, любить ее, на несколько часов стать рабой этой жертвы, утолить все желания ее всеми тайнами лобзаний, неги, бешеной страсти и в то же время сознавать каждую минуту, что эта жертва, этот минутный властитель ее заплатит ей жизнью за эту любовь и за гордую дерзость своего мгновенного господства над нею. Гиена уже лизнула крови; ей грезится теплый пар ее; он будет ей грезиться и в последнем моменте наслаждения. Бешеная жесткость уже давно исказила эту божественную душу и уже часто низводила ее до звериного подобия. Даже и не до звериного; в прекрасном теле ее кроется душа мрачно-фантастического, страшного гада; это душа паука, самка которого съедает, говорят, своего самца в минуту своей с ним сходки. Все это похоже на отвратительный сон. Но все это упоительно, безмерно развратно и… страшно!., и вот демонский восторг наполняет душу царицы, и она гордо бросает свой вызов…"
Далее Достоевский отмечает на мгновение вспыхнувшее у Клеопатры чувство любви к юноше, готовому жизнью заплатить за ночь, проведенную с нею. "Но, — пишет он, — только на одно мгновение. Человеческое чувство угасло, но зверский дикий восторг вспыхнул в ней еще сильнейшим пламенем, может быть, именно от взгляда этого юноши. О, эта жертва всех более сулит наслаждений! Замирая от своего восторга, царица торжественно произносит свою клятву… Нет, никогда поэзия не восходила до такой ужасной силы, до такой сосредоточенности в выражении пафоса! От выражения этого адского восторга царицы холодеет тело, замирает дух… и вам становится понятно, к каким людям приходил тогда наш божественный искупитель. Вам понятно становится и слово: искупитель…
И странно была бы устроена душа наша, если б вся эта картина произвела бы только одно впечатление насчет клубнички!"
Примечательные слова! Читая разбор "Египетских ночей" Достоевским, трудно отделаться от впечатления, что речь на самом деле идет о каком-то эпизоде десадовского романа. Тут и вполне "маркизовский" естественнонаучный пример с самкой паука, тут и Клеопатра — типичная десадовская либертинка, тут и та, открытая автором "Жюстины" и "Жюльетты", странная закономерность, что между садистом-мучителем и его жертвой парадоксально возникает в какое-то мгновение сильнейшее чувство любви. Сегодня это называют "стокгольмским синдромом" и иллюстрируют обычно чувством симпатии, которое возникает у заложников по отношению к захватившим их террористам. И тут, наконец, и одна из излюбленных идей маркиза о том, что если Бога нет, то все дозволено!
Именно маркиз был тем писателем, который первым в своих сочинениях сформулировал этот принцип, ставший впоследствии жизненным кредо многих героев Достоевского. Вот почему трудно не согласиться с переводчиком произведений де Сада на русский язык Евгением Храмовым, который пишет, что когда "десадовские мерзавцы возражают на апелляцию к Богу решительным утверждением, что Бога нет и бояться тут нечего, разве не вспомним карамазовское "Бога нет и, значит, все позволено"? Конечно, вспомним, да только сказал это французский маркиз за семь десятилетий до великого русского писателя, причем все построения десадовских негодяев-атеистов "рушатся от одного короткого вопроса: "А Бог?" И мнимый порнографический писатель оказывается моралистом. Прослывший закоренелым атеистом маркиз де Сад воспринимается как пусть весьма своеобразный, но адвокат Бога. Рисуя отвратительные по своей наглядности сцены, он, задолго до Достоевского (вспомним исповедь Ставрогина), предупреждал: "В человеке скрыто невероятно много грязного, темного, преступного. Человек способен на все. Обуздать его не могут ни штыки, ни тюремные решетки, ни осуждение близких".
Но это лишь о тех, для кого нет Бога и все позволено.
Н. фон Фохт вспоминал: "Достоевский говорил медленно и тихо, сосредоточенно, так и видно было, что в это время у него в голове происходит громадная мыслительная работа. Его проницательные небольшие серые глаза пронизывали слушателя. В этих глазах всегда отражалось добродушие, но иногда они начинали сверкать каким-то затаенным, злобным светом, именно в те минуты, когда он касался вопросов, его глубоко волновавших. Но это проходило быстро, и опять эти глаза светились спокойно и добродушно. Но что бы он ни говорил, всегда в его речи проглядывала какая-то таинственность, он как будто и хотел что-нибудь сказать прямо, откровенно, но в то же мгновение затаивал мысль в глубине своей души. Иногда он нарочно рассказывал что-нибудь фантастическое, невероятное и тогда воспроизводил удивительные картины, с которыми потом слушатель долго носился в уме. Одна из дочерей А. П. Иванова, уже взрослая девица и отличная музыкантша, была большая трусиха. Федор Михайлович это хорошо знал и нарочно рассказывал ей на сон грядущий такие страшные и фантастические истории, от которых бедная Мария Александровна не могла подолгу заснуть. Федора Михайловича это ужасно забавляло".
Получается, что и Достоевский не был чужд садистского комплекса.
Встает вопрос, насколько сходно звучала сакраментальная формула "Бога нет, и все дозволено" для Достоевского и для де Сада. Ведь что касается Достоевского, то мы знаем: для него признание этой истины служило сильнейшим антиатеистическим аргументом. А для де Сада?
Маркиз не раз заявлял, что его писательская цель — вызвать ненависть к пороку. Вот, к примеру, его собственные слова из эссе "Мысль о романах": "Я не хочу, чтобы любили порок У меня нет, в отличие от Кребийона и Дора, опасного плана заставить женщин восхищаться особами, которые их обманывают, я хочу, напротив, чтобы они их ненавидели; это единственное средство, которое сможет уберечь женщину; и ради этого я сделал тех из моих героев, которые следуют стезею порока, столь ужасающими, что они не внушают ни жалости, ни любви… Я хочу, чтобы его (преступление. — Б. С.) ясно видели. Чтобы его страшились, чтобы его ненавидели, и я не знаю другого пути достичь этой цели, как показать его во всей жути, которой оно характеризуется. Несчастье тем, кто его окружает розами".
Словам этим, правда, чаще всего не верят. Так, Виктор Ерофеев, цитируя этот пассаж де Сада и приводя мнение Ж Леля о гуманизме де Сада, как бы предвидевшего ужасы тоталитаризма XX века, кошмар Освенцима и ГУЛАГа, отрицает искренность де Сада на том основании, что в этом же самом эссе де Сад отрицает свое авторство по отношению к "Жюстине", а главное, потому, что в "Жюстине" в лице героини романа показано бессилие и жалкая судьба добродетели: "В представлении Сада добродетель была связана с христианской моралью и "богом". Отвернувшись от этих "химер", Сад отвернулся и от нее, достаточно показав ее немощность в истории Жюстины. Он сомневался в самодостаточности добродетели". К тому же, по мнению Виктора Ерофеева, "в своем творчестве Сад не предложил и даже не попытался предложить никакой серьезной альтернативы пороку".
Что по этому поводу можно сказать?
Что касается "неискренности" де Сада, отрицавшего свое авторство в отношении "Жюстины", то В. Ерофеев не учитывает того прискорбного факта, что сознаться в этом авторстве де Сад просто не мог — по достаточно кровожадным цензурным условиям подобное признание грозило ему очередным помещением в тюрьму. Напомним, что ведь позднее — уже в эпоху Наполеона — именно принадлежность ему "Жюстины" и "Жюльетты" и послужила поводом для его последнего ареста и заточения.
Что же касается обвинений де Сада в безбожии, в отношении его к Богу и к христианской морали, как к "химерам", в неверии в "самодостаточность" добродетели и в отсутствии в его книгах какой-либо серьезной альтернативы пороку, то и В. Ерофеев, и другие критики де Сада безусловно правы лишь в том, что маркиз действительно отождествил Добродетель с Божеством (не обязательно христианским) и притом сомневался в самодостаточности Добродетели и веры в Бога для искоренения пороков общества и предотвращения преступлений. Но значит ли это, что он отрицал и Добродетель, и Бога всего лишь как "химеры", что он был своего рода предтечей Гитлера, стремившегося освободить людей от пустой иллюзии, именуемой совестью?
Хотя де Сад, как потом Достоевский, всю жизнь боролся с собственными религиозными сомнениями (вспомним ранний "Диалог между священником и умирающим"), он, как можно судить по позднейшим его произведениям, все-таки продолжал верить (возможно, с элементами пантеизма) в существование некоего высшего Божества (не обязательно — Христа).
В произведениях де Сада порок написан выразительно, эстетически, и тем больший ужас должны были, по мысли автора, внушать столь любовно прописанные ужасы. Маркиз, как, кстати сказать, и Достоевский, не отрицал за собой ряда пороков, ибо беспорочен только Бог. "Да, — писал он, например, своей жене, — я распутник и признаюсь в этом, я постиг все, что можно было постичь в этой области. Но, — добавлял он, — я, конечно, не сделал всего того, что достиг и, конечно, не сделаю никогда. Я распутник, но не преступник и не убийца…"
Это очень существенная оговорка. Она прямо перекликается с теми словами де Сада, которым не поверил Виктор Ерофеев, — о том, что он не хочет, чтобы любили порок, и потому изображает его во всей его жути.
Необходимость зла и порока заложены, по де Саду, в само устройство мира, в его, так сказать, онтологическую природу. Де Сад был одним из первых, кто отчетливо сформулировал идею как бы некой "взаимодополняемости" добра и зла, порока и добродетели, их немыслимости друг без друга, и это — еще один поразительный пример переклички некоторых важнейших философских мотивов в творчестве Достоевского с книгами де Сада.
Вспомним знаменитый разговор Ивана Карамазова с чертом. Черт, отрицательное alter ego Ивана, доводит до логического завершения его атеизм и утверждает идею человекобожия:
"— Это меня-то убьешь? Нет, уж извини, выскажу. Я и пришел, чтоб угостить себя этим удовольствием. О, я люблю мечты пылких, молодых, трепещущих жаждой жизни друзей моих! "Там новые люди", решил ты еще прошлою весной, сюда собираясь, "они полагают разрушить все и начать с антропофагии. Глупцы, меня не спросились! По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело! С этого, с этого надобно начинать, — о слепцы, ничего не понимающие! Раз человечество отречется поголовно от Бога (а я верю, что этот период, параллельно геологическим периодам, совершится), то само собою, без антропофагии, падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и наступит все новое. Люди совокупятся, чтобы взять от жизни все, что она может дать, но непременно для счастия и радости в одном только здешнем мире. Человек возвеличится духом божеской, титанической гордости, и явится человеко-бог. Ежечасно побеждая уже без границ природу, волею своею и наукой, человек тем самым ежечасно будет ощущать наслаждение столь высокое, что оно заменит ему все прежние упования наслаждений небесных. Всякий узнает, что он смертен весь, без воскресения, и примет смерть гордо и спокойно, как Бог. Он из гордости поймет, что ему нечего роптать за то, что жизнь есть мгновение, и возлюбит брата своего уже безо всякой мзды. Любовь будет удовлетворять лишь мгновению жизни, но одно уже сознание ее мгновенности усилит огонь ее настолько, насколько прежде расплывалась она в упованиях на любовь загробную и бесконечную"… ну и прочее и прочее, в том же роде. Премило!..
— Вопрос теперь в том, думал мой юный мыслитель: возможно ли, чтобы такой период наступил когда-нибудь или нет? Если наступит, то все решено, и человечество устроится окончательно. Но так как, ввиду закоренелой глупости человеческой, это пожалуй еще и в тысячу лет не устроится, то всякому, сознающему уже и теперь истину, позволительно устроиться совершенно как ему угодно, на новых началах. В этом смысле ему "все позволено". Мало того: если даже период этот и никогда не наступит, но так как Бога и бессмертия все-таки нет, то новому человеку позволительно стать человеко-богом, даже хотя бы одному в целом мире, и уж конечно, в новом чине, с легким сердцем перескочить всякую прежнюю нравственную преграду прежнего раба-человека, если оно понадобится. Для Бога не существует закона! Где станет Бог — там уже место божие! Где стану я, там сейчас же будет первое место… "все дозволено" и шабаш! Все это очень мило; только если захотел мошенничать, зачем бы еще, кажется, санкция истины? Но уж таков наш русский современный человечек, — без санкции и смошенничать не решится, до того уж истину возлюбил…"
Его центральная тема так выразительно была развита уже в XX веке у Михаила Булгакова в его "Мастере и Маргарите". Там Воланд, призванный упоминанием черта незадачливыми литераторами на Патриарших, по-новому произносит монолог черта из "Братьев Карамазовых:"
"— Но вот какой вопрос меня беспокоит: ежели Бога нет, то, спрашивается, кто же управляет жизнью человеческой и всем вообще распорядком на земле?
— Сам человек и управляет, — поспешил сердито ответить Бездомный на этот, признаться, не очень ясный вопрос.
— Виноват, — мягко отозвался неизвестный, — для того, чтобы управлять, нужно, как-никак, иметь точный план на некоторый, хоть сколько-нибудь приличный срок. Позвольте же вас спросить, как же может управлять человек, если он не только лишен возможности составить какой-нибудь план хотя бы на смехотворно короткий срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ручаться даже за свой собственный завтрашний день? И в самом деле, — тут неизвестный повернулся к Берлиозу, — вообразите, что вы, например, начнете управлять, распоряжаться и другими и собою, вообще, так сказать, входить во вкус, и вдруг у вас… кхе… кхе… саркома легкого… — тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме легкого доставила ему удовольствие, — да, саркома, — жмурясь, как кот, повторил он звучное слово, — и вот ваше управление закончилось! Ничья судьба, кроме своей собственной, вас более не интересует. Родные вам начинают лгать, вы, чуя неладное, бросаетесь к ученым врачам, затем к шарлатанам, а бывает, и к гадалкам. Как первое и второе, так и третье — совершенно бессмысленно, вы сами понимаете. И все это кончается трагически: тот, кто еще недавно полагал, что он чем-то управляет, оказывается вдруг лежащим неподвижно в деревянном ящике, и окружающие, понимая, что толку от лежащего нет более никакого, сжигают его в печи. А бывает и еще хуже: только что человек соберется съездить в Кисловодск, — тут иностранец прищурился на Берлиоза, — пустяковое, казалось бы, дело, но и этого совершить не может, потому что неизвестно почему вдруг возьмет— поскользнется и попадет под трамвай!
Неужели вы скажете, что это он сам собою управил так? Не правильнее ли думать, что управился с ним кто-то совсем другой? — и здесь незнакомец рассмеялся странным смешком".
И Достоевский, и Булгаков доказывают нищету человекобожия, неспособного не только даже за тысячу лет создать земной рай и покорить природу, но и предвидеть то, что может произойти в следующее мгновение жизни.
В "Мастере и Маргарите" сатана, обращаясь к Левию Матвею, издевательски говорит ему: "Ты произнес свои слова так, как будто ты не признаешь теней, а также и зла. Не будешь ли ты так добр подумать над вопросом: что бы делало твое добро, если бы не существовало зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли тени?.. Не хочешь ли ты ободрать весь земной шар, снеся с него прочь все деревья и все живое из-за твоей фантазии наслаждаться голым светом? Ты глуп". Ведь весь этот пассаж, почти впрямую повторяющий то, что говорит черт Ивану Карамазову, так же впрямую перекликается соответственно и с тем, что говорил в свое время де Сад. "Ты хочешь, чтобы вся вселенная была добродетельной, и не чувствуешь, что все бы моментально погибло, если бы на земле существовала одна добродетель", — писал он, например, одному из своих корреспондентов. А эта десадовская убежденность в онтологической укорененности зла была, в свою очередь, непосредственно связана с его уверенностью и в том, что подобное устройство мира было бы невозможно, если бы в самой природе человека, созданной Творцом, не было потребностей и стимулов, делающих для человека зло и порок естественно притягательными. Он видел несоответствие этих природных стимулов и потребностей требованиям христианской морали, но в то же время подчеркивал именно укорененность их в самой природе человека, в его инстинктивном, непреодолимо заложенном в нем природном стремлении к удовольствию и наслаждению. И осмеливался даже утверждать, что если Творец создал виноградную лозу и половые органы, "то будьте уверены в том, что он сделал это для нашего удовольствия". Так не наталкиваемся ли мы и здесь, если вдуматься, еще на одну явную перекличку десадовских мыслей с теми мыслями, которые так характерны были для многих героев Достоевского? Для того же Свидригайлова, например, который, вспомним, так парирует обвинение со стороны Раскольникова в том, что он, Свидригайлов, только на разврат один и надеется: "Ну так что ж, ну и на разврат! Дался им разврат… В этом разврате по крайней мере есть нечто постоянное, основанное даже на природе и не подверженное фантазии, нечто всегдашним разожженным угольком в крови пребывающее, вечно поджигающее, которое и долго еще, и с летами, может быть, не так скоро зальешь. Согласитесь сами, разве не занятие в своем роде?"
Вот почему де Сад и не верил в самодостаточность добродетели, в ее способность собственными, так — сказать, силами преодолеть и победить порок, стремление к которому укоренено так глубоко в самой природе человека. Вот почему он был убежден в "химеричности" такой веры. Эта убежденность покоилась на трезвой констатации того реального порядка вещей, который царит в этом мире. "Полные пустого, смешного, суеверного почтения к нашим абсурдным условностям, мы, добродетельные люди, встречаем только тернии там, где злодеи срывают розы, — писал он в предисловии к "Новой Жюстине". — Люди порочные от рождения или ставшие таковыми разве не убеждаются, что они правы, рассчитывая более на уступку пороку, нежели на сопротивление ему? И нет ли известной правоты в их утверждениях, что добродетель, сколь бы прекрасной она ни была, слишком слаба, чтобы победить порок, что в этой борьбе она испытывает жесточайшие удары, и не лучше ли в наш развращенный век поступать так, как поступает большинство? Не правы ли те, кто, ссылаясь на ангела Иезерада или Задига, утверждают, что всякое зло непременно служит добру и, следовательно, окунаться в порок означает лишь один из способов творить добрые дела? И не правы ли они, прибавляя к этим рассуждениям еще и то, что природе абсолютно безразличны наши моральные принципы и поэтому гораздо лучше быть преуспевающим злодеем, чем погибающим героем?"
Не возлагал де Сад особых надежд и на силу воздействия положительного эстетического примера, на идеал красоты. Во всяком случае, ему никак не была свойственна уверенность Достоевского в том, что именно красота спасет мир, — мысль, непосредственно заимствованная, как известно, Достоевским у его любимого Шиллера, который убеждал своих читателей, что "красота должна вывести людей на истинный путь", ибо "человек в его физическом состоянии подчиняется лишь своей природе, в эстетическом состоянии он освобождается от этой силы и овладевает ею в нравственном состоянии".
По этому поводу Н. А. Бердяев проницательно заметил в "Мировоззрении Достоевского": "Достоевскому принадлежат изумительные слова, что "красота спасет мир". Для него не было ничего выше красоты. Красота — божественна, но и красота, высший образ онтологического совершенства, — представляется Достоевскому полярной, двоящейся, противоречивой, страшной, ужасной. Он не созерцает божественный покой красоты, ее платоническую идею, он в ней видит огненное движение, трагическое столкновение. Красота раскрывалась ему через человека. Он не созерцает красоты в космосе, в божественном миропорядке. Отсюда — вечное беспокойство и в самой красоте. Нет покоя в человеке. Красота захвачена гераклитовым током. Слишком известны эти слова Мити Карамазова: "Красота — это страшная и ужасная вещь. Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог создал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут… Красота. Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает идеала Мадонны, и горит от него сердце его и воистину, воистину горит, как в юные, беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил". И еще: "Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, и поле битвы — сердце людей". И Николай Ставрогин "в обоих полюсах находил совпадение красоты, одинаковость наслаждения", чувствовал равнопритягательность идеала Мадонны и идеала содомского. Достоевского мучило, что есть красота не только в идеале Мадонны, но и в идеале содомском. Он чувствовал, что и в красоте есть темное демоническое начало. Мы увидим, что он находил темное, злое начало и в любви к людям. Так глубоко шло у него созерцание полярности человеческой природы".
Бердяев также замечает: "Путь исследования свободы Достоевский начинает со свободы "подпольного человека". Безграничной представляется эта свобода. Подпольный человек хочет перейти границы человеческой природы, он исследует и испытывает эти границы. Если так свободен человек, то не все ли дозволено, не разрешено ли какое угодно преступление во имя высших целей, вплоть до отцеубийства, не равноценен ли идеал Мадонский и идеал содомский, не должен ли человек стремиться к тому, чтобы самому стать Богом? Не обязан ли человек объявить своеволие? Достоевский почувствовал, что в свободе подпольного человека заложено семя смерти. Свобода Раскольникова, переходящая границы человеческой природы, порождает сознание собственного ничтожества, бессилия, несвободы. Свобода Ставрогина переходит в совершенную немощь, безразличие, в истощение и угасание личности. Свобода Кириллова, пожелавшего стать Богом, кончается страшной, бесплодной гибелью. Быть может, наиболее важен тут Кириллов. Кириллов сознает своеволие как долг, как священную обязанность. Он должен объявить своеволие, чтобы человек достиг высшего состояния. И он чистый человек, отрешенный от страстей и влечений, в нем есть черты безблагодатной святости. Но и самый чистый человек, отвергший Бога и возжелавший самому стать Богом, обречен на гибель. Он уже теряет свою свободу. Он — одержимый, он во власти духов, природу которых он сам не знает. И Кириллов являет нам образ тихого беснования и одержимости, сосредоточенной в себе. В свободе его духа произошли уже болезненные процессы перерождения. Он менее всего свободный духом человек На путях человекобожества погибает человеческая свобода и погибает человек. Это — основная тема Достоевского. Так погибает свобода и у других раздвоенных героев Достоевского, у всех заблудившихся в путях своеволия. В Свидригайлове или Федоре Павловиче Карамазове мы уже встречаемся с таким разрушением личности, при котором не может быть и речи о свободе. Безудержная, безмерная свобода сладострастия делает человека его рабом, лишает свободы духа. Достоевский большой мастер в описании перерождения и вырождения личности под влиянием одержимости злой страстью или злой идеей. Он исследует онтологические последствия этой одержимости. Когда безудержная свобода переходит в одержимость, она погибает, ее уже нет. Когда человек начинает бесноваться, он не свободен еще. Свободен ли Версилов — один из самых благородных образов Достоевского? Его страсть к Екатерине Николаевне есть одержимость. Эта страсть вогнана внутрь. Она истощила его. В своем отношении к идеям он не знает свободного волевого избрания. Противоположные идеи притягивают его. Он хотел бы сохранить за собой свободу и потому утерял ее. Он — раздвоен. Раздвоенный человек не может быть свободен. Но обречен на раздвоение всякий, кто не совершает акта свободного избрания предмета любви. Разработка темы свободы достигает вершины в "Братьях Карамазовых". Своеволие и бунт Ивана Карамазова — вершина путей безблагодатной человеческой свободы. Тут с необычайной гениальностью обнаруживается, что свобода, как своеволие и человеческое самоутверждение, должна прийти к отрицанию не только Бога, не только мира и человека, но также и самой свободы. Свобода истребляет себя. И этим завершается идейная диалектика. Достоевский обнаруживает, что в конце пути темной, непросветленной свободы подстерегает окончательное истребление свободы, злое принуждение и злая необходимость. Учение Великого инквизитора, как и учение Шигалева, порождены своеволием, богопротивлением. Свобода переходит в своеволие, своеволие переходит в принуждение. Это — роковой процесс. Свобода человеческого духа, свобода религиозной совести отрицается теми, которые шли путями своеволия".
У де Сада же взгляд на красоту совсем не столь оптимистический и идиллический, как у Шиллера и других деятелей Просвещения. Он уже видит и другую, темную сторону красоты, связанную с низменными инстинктами человека, и здесь — прямая перекличка с красотой Мадонны и красотой Содома у Достоевского.
Вот Жюльетта и Сбригани посещают знаменитую картинную галерею во Флоренции. Они видят "Венеру" Тициана и восхищаются ею — "красота Природы возвышает душу, между тем как религиозный абсурд ввергает ее в уныние". Но описание шедевра, которое мы слышим при этом из уст Жюльетты, открывает нам именно порочную сторону красоты: "Прелестница возлежит на белом ложе, одной рукой она ласкает цветы, другой, изящно согнутой, пытается прикрыть свой восхитительный бутончик; вся ее поза дышит сладострастием, а детали этого прекраснейшего тела можно рассматривать бесконечно. Сбригани заметил, что, на его взгляд, эта Венера поразительно похожа на нашу Раймонду, и я согласилась с ним.
Прелестная наша спутница залилась краской, когда мы поделились с ней своим открытием, и жаркий поцелуй, запечатленный мною на ее губах, показал ей, насколько я разделяю мнение своего супруга".
А вот десадовская героиня видит статую Гермафродита: "Гермафродит лежит на постели, выставив напоказ самый обольстительный в мире… исполненный сладострастия зад, который тут же, не сходя с места, возжелал мой супруг и признался мне, что ему однажды довелось заниматься содомией с подобным созданием и что полученное наслаждение он не забудет до конца своих дней".
И еще одно характерное место. В другом зале Жюльетта видит гробницу, наполненную сделанными из воска трупами, изображающими все стадии разложения: "Этот шедевр производит такое яркое впечатление, что вы не в силах оторвать от него взгляд; вас пробирает дрожь, в ушах, кажется, слышатся глухие стоны, и вы невольно отворачиваете нос, будто учуяв тошнотворный смрад мертвечины… Эти жуткие сцены воспламенили мое воображение, и я подумала о том, сколько людей претерпели подобные, леденящие душу метаморфозы благодаря моей порочности. Впрочем, я увлеклась, поэтому добавлю лишь, что это сама Природа пробуждает меня к злодейству, если даже простое воспоминание о нем приводит мою душу в сладостный трепет".
Не правда ли, все это сразу же заставляет вспомнить опять же Достоевского — того же Митю Карамазова с его знаменитым: "Хочу сказать теперь о "насекомых", вот о тех, которых Бог одарил сладострастьем… Я, брат, это самое насекомое и есть, и это обо мне специально и сказано. И мы все, Карамазовы, такие же, и в тебе, ангеле, это насекомое живет и в крови твоей бури родит… Красота — это страшная и ужасная вещь!
Страшная, потому что непреодолимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут… Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и гори от него сердце его и воистину, воистину гори, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей, — знал ты эту тайну или нет? Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Туг дьявол с Богом борется, а поле битвы — сердца людей"…
Итак, де Сад не верил ни в самодостаточность добродетели, ни в спасительную силу самой по себе красоты, ее эстетически и морально преобразующего воздействия на человека. Не верил именно потому, что стремление к удовольствию, открывающее прямую дорогу к пороку и поддержанное искусительной притягательностью "темной" красоты зла, слишком глубоко укоренено, считал он, в самой природе человека.
Но, с другой стороны, маркиз отдавал себе отчет в том, что безудержное следование принципу удовольствия — это прямая дорога не просто к пороку, но и к преступлению, вырастающему на почве порока, — особенно тогда, когда для человека не существует никаких сдерживающих его религиозных начал (ибо если Бога нет, то действительно "все дозволено"). Его романы переполнены картинами, где он на примере своих героев-либергинов показывает разрушительные для окружающего мира и, в конечном счете, для них самих последствия неограниченного воплощения в жизнь принципа удовольствия. Его герои гибнут вовсе не от мук раскаяния, как, допустим, Свидригайлов и Ставрогин у Достоевского. Но они все-таки гибнут, взаимно уничтожая друг друга, ибо в их мире наслаждение жизнью становится безудержной, все-разрушающей страстью. Отсюда и стремление де Сада найти путь спасения человечества от самоистребления. Для этого, как он писал в предисловии к "Новой Жюстине", необходимо выработать "подлинную философию", способную указать этот путь, "раскрыть все способы и средства, которыми располагает судьба для достижения целей, возложенных ею на человека, и наметить вслед за тем какие-то черты поведения для несчастного, идущего по тернистой дороге жизни".
Но как найти этот путь, как выработать эту "подлинную философию", если "несчастного" человека подстерегает на его жизненной дороге столько коварных соблазнов, если так властно диктует ему его жизненное поведение заложенный в него природный инстинкт стремления к удовольствию и наслаждению?
И вот де Сад, хорошо понимающий, что одной добродетелью, одним Богом в душе это природное стремление к удовольствию не победить, приходит к выводу, что единственным средством спасти жертвы от преступлений, а возможных преступников — отвратить от будущих злодейств, может стать лишь изображение преступления и преступников во всей неприглядности, без всякой романтической дымки или демонического очарования. Именно это проповедует де Сад и в своих "Мыслях о романах", и в предисловии ко второй редакции "Жюстины".
"…Привычное развитие сюжета, когда добродетель одерживает верх над пороком, добро вознаграждается, а зло терпит наказание, сегодня уже всем приелось, — пишет он здесь. — Я попытаюсь достичь цели по-иному, с помощью средств, которыми мало кто пользовался. В моем романе предстанет картина порока, повсеместно одерживающего победу, а на долю добродетели выпадут одни лишения. Я изображу несчастную девушку, которая, попадая из одной ловушки в другую, станет игрушкой в руках распущенных злодеев, претерпев их ужасные и варварские наклонности. Моя героиня будет одурачена дерзкими и тонкими уловками ума, окажется жертвой ловких мошенников, которые станут соблазнять ее с помощью самых сильных приманок, и, хотя несчастная и обладает по природе сильным духом, ее чувствительная натура, сопротивляясь многочисленным ударам судьбы, окажется не в силах победить столь великие несчастья.
Одним словом, какой автор осмелился бы прибегнуть к таким дерзким описаниям, изобразить столь необычные ситуации, цитировать столь ужасные максимы и позволить себе такие эффектные удары кисти ради того, чтобы извлечь, в конце концов, великолепный и невиданный дотоле урок нравственности?
Констанция, неужели я добился успеха? Разве появившиеся на твоих глазах слезы не подтверждают мой триумф? Прочтя "Жюстину", ты скажешь: "Как сильно изображенный в романе порок заставляет любить добродетель! Сколь величествен вид предстающей в слезах добродетели! Как украшают ее несчастья!"
Де Сад надеялся, что можно попробовать спасти мир именно благодаря безобразию преступления и порока, — благодаря тому отвращению и ужасу, которые они внушают людям. Именно это безобразие преступления и порока должны необходимо дополнять красоту добродетели, ибо лишь два этих взаимодополняющих принципа и способны отвратить от гибели человечество, стремящееся к наиболее полному удовлетворению своих желаний, к следованию принципу удовольствия.
Но ведь принцип "Безобразие порока спасет мир" — это же, в сущности, всего лишь другая сторона столь любимой Достоевским максимы, впервые высказанной в романе "Идиот": "Красота спасет мир", "красотой мир спасется!"
Налицо еще одно совпадение основополагающих принципов творчества де Сада и Достоевского.
Бердяев в статье "Откровение о человеке в творчестве Достоевского" подчеркнул, что писатель настаивал на необходимости для человека страдания: "Достоевский наносит удар за ударом всем теориям и утопиям человеческого благополучия, человеческого земного блаженства, окончательного устроения и гармонии. "Человек пожелает самого пагубного вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой, единственно для того, чтобы самому себе подтвердить, что люди все еще люди, а не фортепианные клавиши". "Если вы скажете, что и это все можно рассчитать по табличке, и хаос, и мрак, и проклятие, так что уж одна возможность предварительного расчета все остановит и рассудок возьмет свое, — так человек нарочно сумасшедшим на этот случай сделается, чтобы не иметь рассудка и настоять на своем! Я верю в это, я отвечаю за это, потому что ведь все дело-то человеческое, кажется, и действительно в том только и состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он человек, а не штифтик". Достоевский раскрывает несоизмеримость свободной, противоречивой и иррациональной человеческой природы с рационалистическим гуманизмом, с рационалистической теорией прогресса, с до конца рационализированным социальным устроением, со всеми утопиями о хрустальных дворцах. Все это представляется ему унизительным для человека, для человеческого достоинства. "Какая уж тут своя воля будет, когда дело доходит до таблички и до арифметики, когда будет одно только дважды два четыре в ходу? Дважды два и без моей воли четыре будет. Такая ли своя воля бывает!" "Не потому ли, может быть, человек так любит разрушение и хаос, что сам инстинктивно боится достигнуть цели и довершить созидаемое здание?.. И, кто знает, может быть, что и вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой беспрерывности процесса достижения, иначе сказать — в самой жизни, а не собственно в цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, т. е. формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти". Арифметика неприменима к человеческой природе. Тут нужна высшая математика. В человеке, глубоко взятом, есть потребность в страдании, есть презрение к благополучию. "И почему вы так твердо, так торжественно уверены, что только одно нормальное и положительное, одним словом, — только одно благоденствие человеку выгодно? Не ошибается ли разум-то в выгодах? Ведь, может быть, человек любит не одно благоденствие? Может быть, он равно настолько же любит страдание? Может быть, страдание-то ему равно настолько же выгодно, как благоденствие? А человек иногда ужасно любит страдание, до страсти…
Я уверен, что человек от настоящего страдания, т. е. от разрушения и хаоса, никогда не откажется. Страдание, — да ведь это единственная причина сознания". В этих изумительных по остроте мыслях героя из подполья Достоевский полагает основание своей новой антропологии, которая раскрывается в судьбе Раскольникова, Ставрогина, Мышкина, Версилова, Ивана и Дмитрия Карамазова".
Достоевский помещал страдание на то же место, куда маркиз ставил безобразие насилия. Для героев де Сада страдание их жертв — это высшее проявление принципа удовольствия. Для самих же страдальцев и страдалиц это — способ укрепиться в вере в Бога и торжество добродетели, от которых они не отрекаются, несмотря на самые изощренные пытки. У Достоевского же страдание становится прежде всего средством искупления своих и чужих грехов.
Конечно, в уповании де Сада не столько на внутреннее нравственное преображение человека, не столько на голос совести, добродетели, на то, что самый закоренелый злодей когда-нибудь придет к Богу, сколько на ужас человека перед безобразными и разрушительными для всех последствиями пути порока, для маркиза на первом месте было рациональное, а не чувственное. Поэтому можно понять Достоевского, который не находил у де Сада этого важнейшего для него самого исходного принципа и потому восклицал язвительно записи, сделанной незадолго до смерти, в декабре 1880 года: "Совесть, совесть маркиза де Сада — это нелепо!"
Но так или иначе, а другого пути де Сад не видел, и следует признать, что эстетическое воздействие его романов, при всей двусмысленности содержащихся в них картин, безусловно заключающих в себе определенную эстетизацию порока, в целом все-таки соответствует его исходной установке и подтверждает серьезность его намерений — возбудить у читателей отвращение к пороку и его носителям. Поэтому именно эстетический критерий — самый надежный при оценке личности и творчества маркиза де Сада. При чтении его романов, действительно, нарастает чувство отвращения к злодеям-садистам, а Жюстина, главный носитель и приверженец добродетели в десадовском мире, вызывает сочувствие и жалость, сознательно усиливаемую маркизом за счет многочисленных призывов в тексте к противному — презрению и насмешке над трагической судьбой добродетели.
А вспомним "Новую Жюстину", где громоздятся гекатомбы трупов, где число обесчещенных и убитых девушек и юношей, мужчин и женщин заведомо превышает все тогдашнее население Франции, где сексуальные возможности либертинов гиперболизированы, превращены в миф и где все они, осыпающие Бога всеми мыслимыми и немыслимыми проклятиями, — отчетливо отрицательные культурные герои! Де Сад сознательно уходил здесь от общего правдоподобия, — но именно для усиления отрицательного впечатления.
Бердяев в "Мировоззрении Достоевского" так определил отношение к злу в творчестве писателя: "Отношение Достоевского к злу было глубоко антиномично. И сложность этого отношения заставляет некоторых сомневаться в том, что это отношение было христианским. Одно несомненно: отношение Достоевского к злу не было законническое отношение. Достоевский хотел познать зло, и в этом он был гностиком. Зло есть зло. Природа зла — внутренняя, метафизическая, а не внешняя, социальная. Человек, как существо свободное, ответствен за зло. Зло должно быть изобличено в своем ничтожестве и должно сгореть. И Достоевский пламенно изобличает и сжигает зло. Это одна сторона его отношения к злу. Но зло есть также путь человека, трагический путь его, судьба свободного, опыт, который может также обогатить человека, возвести его на высшую ступень. У Достоевского есть также эта другая сторона в отношении к злу — имманентное постижение зла. Так переживают зло свободные сыны, а не рабы. Имманентный опыт зла изобличает его ничтожество; в этом опыте сгорает зло и человек приходит к свету. Но эта истина опасна, она существует для подлинно свободных и духовно зрелых. От несовершеннолетних она должна быть скрыта. И потому Достоевский может казаться опасным писателем, его нужно читать в атмосфере духовной освобожденности. И все-таки нужно признать, что нет писателя, который так могущественно бы боролся со злом и тьмой, как Достоевский. Законническая мораль катехизиса не может быть ответом на муку тех его героев, которые вступили на путь зла. Зло не внешне карается, а имеет неотвратимые внутренние последствия. Кара закона за преступление есть лишь внутренняя судьба преступника. Все внешнее есть лишь ознаменование внутреннего. Муки совести страшнее для человека, чем внешняя кара государственного закона. И человек, пораженный муками совести, ждет наказания, как облегчения своей муки. Закон государства — этого "холодного чудовища" — несоизмерим с человеческой душой. В следствии и процессе Мити Карамазова Достоевский изобличает неправду государственного закона. Для Достоевского душа человеческая имеет больше значения, чем все царства мира. В этом он был до глубины христианин. Но душа сама ищет меча государственного, сама подставляет себя под его удары. Наказание есть момент ее внутреннего пути".
Точно так же и де Сад относился ко злу отнюдь не с законнических позиций. Он едва ли не первым подметил, что человеку свойственно испытывать муки совести прежде всего за те поступки, которые подпадают под санкции Уголовного кодекса. У Достоевского, как мы помним, страх тоже выступает одним из мотивов раскаяния. Но русский писатель верил, что зло можно победить не направленными против него законами и не отвращением, которое оно внушает, а лишь наклонностью человека к добру, его познанием Божьего промысла и готовностью принять страдание, чтобы очиститься от греховных помыслов. Маркиз же верил только в силу страха, которая может пробудить у человека отвращение ко злу.
Сад ставил перед человечеством тяжелый вопрос: как заставить "жалкое двуногое создание, бесконечно раскачиваемое из стороны в сторону капризами жестокой судьбы, прислушаться к указаниям всесильного рока и научиться правильно их истолковывать, дабы проложить единственную узкую дорожку, с которой нельзя сворачивать, если желаешь избежать причудливых изгибов фатальности". Как избежать соблазна предпочесть "лагерь злых, которые процветают" "добродетельным, которые погибают". Маркиз полагал, что "смерти боятся счастливцы, чьи дни чисты и светлы. Существа же несчастные, не видавшие на своем веку ничего, кроме обид, — такие страдальцы встречают смерть без содрогания, они даже радуются ей, подобно моряку, спешащему поскорее достичь тихой безопасной пристани, где он обретет утраченный покой. Кто знает, может, справедливый Господь вознаградит на небесах тех, кто безвинно преследовался и угнетался на земле".
Эрудированный читатель может сравнить эти сентенции с мотивом покоя в русской литературе от Пушкина до Булгакова, и в мировой, от Гете до Сенкевича, и поразиться неожиданному сходству. Из садовского богоборчества, хулы, что его герои возносят на Господа, вдруг, как и у Ницше, возникает высшая необходимость Божества. Саду все равно, что есть Провидение — Бог или Природа. Он за сто лет предвидел аргументы критиков идей социализма: "Стараясь распространить в обществе столь опасное для него равенство, мы потворствуем лени и апатии, приучаем бедняка обворовывать богатого, когда последнему почему-либо захочется отказать ему в помощи. Постепенно это может войти в привычку, и бедный разучится работать, получая различные блага без труда". Сад полагал, что и равенство и неравенство могут оказаться одинаково пагубны как для отдельного человека, так и для всего человечества. И добро легко может переходить во зло, а зло — в добро. Не верил маркиз, что Провидение проявляет особое расположение к добродетели и карает злых людей, раз подчас само действует методами последних. Кажущаяся апология зла здесь апологией не является, ибо непременно вкладывается в уста персонажей, внушающих отвращение. Выход из нравственного тупика Сад, большую часть сознательной жизни проведший в заточении, видел только в свободной воле человека, в свободном выборе им своей судьбы, что должно в масштабе человечества уравновесить в Природе добро и зло.
Достоевский уже больше века принят во всем мире как величайший писатель, и когда в XX веке состоялось "открытие" творчества де Сада, его, естественно, восприняли уже во многом сквозь призму Достоевского. Но в действительности в своих размышлениях о природе человека, в объяснении причин устремленности человека к пороку де Сад во многом предвосхитил художественно-философские открытия Достоевского.
Итак, маркиз де Сад в своих романах выражал три принципиально важных постулата: 1) Если Бога нет, то все позволено; 2) Если все время следовать только удовлетворению своих желаний (тому, что позднее Фрейд назвал Lustprinzip, "принципом удовольствия"), то это ведет человека ко все новым злодействам, половым извращениям и, в конечном счете, к гибели; 3) Мир спасется не красотой, как у Шиллера, а безобразием Дьявола, безобразием порождаемого им насилия и жестокости, тем отвращением, которое оно вызывает у нас (и чтение садовских романов как раз и служит этой цели). Нетрудно убедиться, что первые два постулата к романам Достоевского можно применить буквально. Третий же постулат у русского писателя звучит как дополняющий садовский и идущий от того же Шиллера: "Красотой мир спасется", причем под красотой прежде всего понимается красота Бога. У де Сада же мир спасется скорее из-за безобразия дьявола. Если де Сад был писателем еще дореалистической эпохи, конца XVIII — начала XIX века, то с творчеством Достоевского связан расцвет критического реализма, восприятие в литературе действительности как самой действительности, как самоценности, и глубокое проникновение в психологию человека.
Бердяев в "Мировоззрении Достоевского" утверждал, что идеи "Братьев Карамазовых" о том, что если Бога нет, то все дозволено, и о том, что искупление требует страдания, тесно связаны с "Преступлением и наказанием": "Искупление восстанавливает свободу человека, возвращает ему свободу.
Поэтому Христос-Искупитель и есть свобода. Достоевский во всех своих романах проводит человека через этот духовный процесс, через свободу, зло и искупление. Старец Зосима и Алеша изображены им как люди, которые познали зло и пришли к высшему состоянию. В Алеше есть карамазовская стихия, ее обнаруживают в нем и брат Иван, и Грушенька. Он сам в себе ее чувствует. По замыслу Достоевского, Алеша должен быть у него человеком, который прошел через испытание свободы. Так понимал Достоевский судьбу человека. Проблема преступления есть проблема о том, все ли дозволено. Все ли дозволено? Эта тема всегда мучила Достоевского, она становилась перед ним все в новых и в новых формах. На эту тему написаны "Преступление и наказание", а также в значительной степени "Бесы" и "Братья Карамазовы". Тема эта ставится испытанием человеческой свободы. Когда пошел человек путем свободы, перед ним стал вопрос, существуют ли нравственные границы его природы, на все ли он может дерзнуть. Свобода, переходящая в своеволие, не хочет уже знать никаких святынь, никаких ограничений. Если нет Бога, если сам человек Бог, то все дозволено. И вот человек испытывает свои силы, свое могущество, свое призвание стать человекобогом. Человек делается одержимым какой-нибудь "идеей", и в этой одержимости уже начинает угасать его свобода, он становится рабом какой-то посторонней силы. Этот процесс гениально изображен Достоевским. Тот, кто в своеволии своем не знает границ своей свободы, теряет свободу, тот становится одержимым "идеей", которая его порабощает. Таков Раскольников. Он совсем не производит впечатления свободного человека. Он — маньяк, одержимый ложной "идеей". У него нет нравственной автономии, ибо нравственная автономия дается самоочищением и самоосвобождением. Что за "идея" у Раскольникова? У Достоевского все ведь имеют свою "идею". Раскольников испытывает границы собственной природы, человеческой природы вообще. Он считает себя принадлежащим к избранной части человечества, не к обыкновенным людям, а к замечательным людям, призванным облагодетельствовать человечество. Он думает, что все можно, и хочет испытать свое могущество. И вот нравственная задача, которая стоит перед человеком с таким сознанием, Достоевским упрощается до элементарной теоремы. Может ли необыкновенный человек, призванный послужить человечеству, убить самое ничтожное и самое безобразное человеческое существо, отвратительную старушонку-процентщицу, которая ничего, кроме зла, не причиняет людям, для того чтобы этим открыть себе путь в будущем к облагодетельствованию человечества? Дозволено ли это? И вот с поразительной силой обнаруживается в "Преступлении и наказании", что это не дозволено, что такой человек духовно убивает себя. Тут в имманентно изживаемом опыте показывается, что не все дозволено, потому что природа человеческая сотворена по образу и подобию Божьему и потому всякий человек имеет безусловное значение. Своевольное убийство даже самого последнего из людей, самого зловредного из людей не разрешается духовной природой человека. Когда человек в своеволии своем истребляет другого человека, он истребляет и самого себя, он перестает быть человеком, теряет свой человеческий образ, его личность начинает разлагаться. Никакая "идея", никакие "возвышенные" цели не могут оправдать преступного отношения к самому последнему из ближних. "Ближний" дороже "дальнего", всякая человеческая жизнь, всякая человеческая душа больше стоит, чем благодетельствование грядущего человечества, чем отвлеченные "идеи". Таково христианское сознание. И это раскрывает Достоевский. Человек, который мнил себя Наполеоном, великим человеком, человекобогом, преступив границы дозволенного богоподобной человеческой природой, низко падает, убеждается, что он не сверхчеловек, а бессильная, низкая, трепещущая тварь. Раскольников сознает свое совершенное бессилие, свое ничтожество. Испытание пределов своей свободы и своего могущества привело к ужасным результатам. Раскольников вместе с ничтожной и зловредной старушонкой уничтожил самого себя. После "преступления", которое было чистым экспериментом, потерял он свою свободу и раздавлен своим бессилием. У него нет уже гордого сознания. Он понял, что легко убить человека, что эксперимент этот не так труден, но что это не дает никакой силы, что это лишает человека духовной силы. Ничего "великого", "необыкновенного", мирового по своему значению не произошло оттого, что Раскольников убил процентщицу, он был раздавлен ничтожеством происшедшего.
Вечный закон вступил в свои права, и он подпал под его власть. Христос пришел не нарушать, а исполнить закон. И свобода, которую несет с собой Новый Завет, не бунтует против Ветхого Завета, а лишь открывает еще высший мир. И Раскольников должен подпасть под действие непреложного ветхозаветного закона. Не так поступали те, которые были подлинно великими и гениальными, которые совершали великие деяния для всего человечества. Они не считали себя сверхчеловеками, которым все дозволено, они жертвенно служили сверхчеловеческому и потому только много могли дать человеческому. Раскольников прежде всего раздвоенный, рефлектирующий человек, его свобода уже поражена внутренней болезнью. Не таковы подлинно великие люди, в них есть цельность. Достоевский изобличает лживость претензий на сверхчеловечество. Обнаруживается, что ложная идея сверхчеловечества губит человека, что претензия на безмерную силу обнаруживает слабость и немощь. Все эти современные стремления к сверхчеловеческому могуществу ничтожны и жалки, они кончаются низвержением человека в нечеловеческую слабость. И вечной оказывается природа нравственной и религиозной совести. Мука совести не только обличает преступления, но и обличает бессилие человека в его ложных претензиях на могущество. Муки совести Раскольникова не только обнаруживают, что он преступил предел дозволенного, но и обличают слабость и ничтожество.
Тема Раскольникова означает уже кризис гуманизма, конец гуманистической морали, гибель человека от самоутверждения человека. Возникновение мечты о сверхчеловеке и сверхчеловечестве, о высшей морали человеческой означает, что гуманизм изжит и кончился. Для Раскольникова уже не существует гуманности, его отношение к ближнему жестоко и беспощадно. Человек, живое, страдающее конкретное человеческое существо, должен быть принесен в жертву сверхчеловеческой "идее". Во имя "дальнего", нечеловеческого "дальнего" можно как угодно поступить с "ближним", с человеком. Сам Достоевский исповедует религию любви к "ближнему", и он изобличает ложь религии любви к "дальнему", нечеловеческому, сверхчеловеческому. Есть "дальний", который заповедал любить "ближнего". Это — Бог. Но идея Бога есть единственная сверхчеловеческая идея, которая не истребляет человека, не превращает человека в простое средство и орудие. Бог открывает себя через Своего Сына, Сын же Его — совершенный Бог и совершенный человек. Бого-Человек, в котором в совершенстве соединено божеское и человеческое. Всякая другая сверхчеловеческая идея истребляет человека, превращает человека в средство и орудие. Идея человекобога несет с собой смерть человеку. Это можно видеть на примере Ницше. Так же смертельна для человечества идея нечеловеческого коллектива у Маркса, в религии социализма. Достоевский исследует роковые последствия одержимости человека идеей человекобожества в разных ее формах, индивидуалистических и коллективистических. Тут царство человечности кончается, тут не будет уже пощады человеку. Человечность была еще отблеском христианской истины о человеке. Окончательная измена этой истине отменяет гуманное отношение к человеку. Во имя величия сверхчеловека, во имя счастья грядущего, далекого человечества, во имя всемирной революции, во имя безграничной свободы одного или безграничного равенства всех можно замучить или умертвить всякого человека, какое угодно количество людей, превратить всякого человека в простое средство для великой "идеи", великой цели. Все дозволено во имя безграничной свободы сверхчеловека (крайний индивидуализм) или во имя безграничного равенства человечества (крайний коллективизм). Человеческому своеволию предоставлено право по-своему расценивать человеческие жизни и распоряжаться ими. Не Богу принадлежит человеческая жизнь, и не Богу принадлежит последний суд над людьми. Это берет на себя человек, возомнивший себя обладателем сверхчеловеческой "идеи". И суд его беспощаден, безбожен и бесчеловечен. Роковые пути этого человеческого своеволия, в индивидуалистической и коллективистической форме, Достоевский исследует до глубины и изобличает их соблазнительную ложь. Раскольников один из одержимых такой ложной идеей. Он сам, по своеволию и произволу своему, решает вопрос, можно ли убить хотя бы последнего из людей во имя своей "идеи", но решение этого вопроса принадлежит не человеку, а Богу. Бог есть единственная высшая "идея". И тот, кто не склоняется перед Высшей Волей в решении этого вопроса, истребляет ближних и самого себя. В этом смысл "Преступления и наказания".
И в той же статье русский философ перечислил тех героев произведений Достоевского, которые имеют нравственный потенциал для того, чтобы порвать со злом: "В П. Верховенском, одном из самых безобразных образов у Достоевского, человеческая совесть, которая была еще у Раскольникова, совершенно уже разрушена. Он уже не способен к покаянию, беснование зашло слишком далеко. Поэтому он принадлежит к тем образам у Достоевского, которые не имеют дальнейшей человеческой судьбы, которые выпадают из человеческого царства в небытие. Это — солома. Таков Свидригайлов, Федор Павлович Карамазов, Смердяков, вечный муж Между тем как Раскольников, Ставрогин, Кириллов, Версилов, Иван Карамазов имеют будущее, хотя бы эмпирически они и погибли, у них есть еще человеческая судьба.
Достоевский исследует и обнаруживает муки совести и покаяние на такой глубине, на какой они до сих пор не были видимы, он открывает волю к преступлению в самой последней глубине человека, в тайных помыслах человека. Муки совести сжигают человеческую душу и тогда, когда человек никаких видимых преступлений не совершил. Человек кается, обличает себя, хотя воля к преступлению не перешла ни в какие действия. Не только закон государственный, но и нравственный суд общественного мнения не доходит до самой глубины человеческой преступности. Человек знает про себя более страшные вещи и считает себя заслуживающим более сурового наказания. Совесть человеческая более беспощадна, чем холодный закон государства, она большего требует от человека. Мы убиваем наших ближних не только тогда, когда приканчиваем их физическую жизнь огнестрельным или холодным оружием. Тайный помысел, не всегда доходящий до человеческого сознания, направленный к отрицанию бытия нашего ближнего, есть уже убийство в духе, и человек ответствен за него. Всякая ненависть есть уже убийство. И все мы убийцы и преступники, хотя бы закон государственный и общественное мнение почитали нас в этом отношении безупречными и не заслуживающими никакой кары. Но сколько убийственных токов испускаем мы из глубины нашей души, из сферы подсознательного, как часто воля наша направлена на умаление и истребление жизни наших ближних. Многие из нас в тайниках своей души пожелали смерти своему ближнему. Преступление начинается в этих тайных помыслах и пожеланиях. И у Достоевского необычайно углубляется и истончается работа совести, она обличает преступление, ускользающее от всякого государственного и человеческого суда. Иван Карамазов не убивал отца своего Федора Павловича. Убил его Смердяков. Но Иван Карамазов казнит себя за преступление отцеубийства, муки совести доводят его до безумия. Он доходит до последних пределов раздвоения личности. Внутреннее зло его является ему, как другое его "я", и терзает его. В тайных помыслах своих, в сфере подсознательного, пожелал Иван смерти отца своего Федора Павловича, дурного и безобразного человека. И он же все время разговаривал о том, что "все дозволено". Он соблазнял Смердякова, поддерживал его преступную волю, укреплял ее. Он — духовный виновник отцеубийства. Смердяков — его второе, низшее "я". Ни суд государственный, ни суд общественного мнения ни в чем не подозревает и не обвиняет Ивана, не доходит до этой глубины. Но сам он переживает муки совести, от которых горит в адском огне его душа, мутится его ум. Ложные, безбожные "идеи" довели его до тайных помыслов, оправдывающих отцеубийство. И если он человек, который будет еще иметь свою судьбу, то он должен пройти через огненное покаяние, через безумие. Ведь и Митя Карамазов не убивал своего отца и пал жертвой несправедливого суда человеческого. Но он сказал: "Зачем живет такой человек?" И этим он совершил отцеубийство в глубине своего духа. Несправедливую, незаслуженную кару холодного закона он принимает как искупление своей вины. Вся психология отцеубийства в "Братьях Карамазовых" имеет очень глубокий, сокровенный, символический смысл. Путь безбожного своеволия человека должен вести к отцеубийству, к отрицанию отчества. Революция всегда ведь есть отцеубийство. Изображение отношений между Иваном Карамазовым и его другим низшим "я" — Смердяковым принадлежит к самым гениальным страницам у Достоевского. Путь своеволия, путь, отвергающий благоговение перед сверхчеловеческим, должен привести к тому, что подымается образ Смердякова. Смердяков и есть страшная кара, подстерегающая человека. Страшная, безобразная карикатура Смердякова стоит в конце этих стремлений к человекобожеству. Смердяков победит на этом пути. Иван же должен сойти с ума. Такое же глубокое изобличение преступления в тайных помыслах, хотя бы это лишь было попустительство, мы видим в отношении Ставрогина к гибели своей жены Хромоножки. Федька Каторжник, виновник смерти Хромоножки, считает себя соблазненным Ставрогиным, как бы его агентом. И Ставрогин чувствует свою вину. Вот на какой глубине ставит Достоевский проблему зла и преступления.
"Без "высшей идеи" не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле лишь одна, и именно — идея о бессмертной душе человеческой, ибо все остальные "высшие идеи" жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее одной вытекают". "Самоубийство при потере идеи о бессмертии является совершенной и неизбежной необходимостью для каждого человека, чуть-чуть поднявшегося в своем уровне над скотами". "Идея о бессмертии — это сама жизнь, живая жизнь ее, окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества". Так писал Достоевский в "Дневнике писателя" о бессмертии. У Достоевского была центральная для него мысль, что если нет бессмертия, то все дозволено. Проблема зла и проблема преступления была связана для него с проблемой бессмертия. Как понять эту связь? Мысль Достоевского не означает, что у него была элементарно-упрощенная и утилитарная постановка проблемы зла и преступления. Он не хотел этим сказать, что за зло и преступление человек получит наказание в вечной жизни, а за добро — награду. Такого рода примитивный небесный утилитаризм был ему чужд. Достоевский хотел сказать, что всякий человек и его жизнь в том лишь случае имеет безусловное значение и не допускает обращения с ним как со средством для каких-либо идей или интересов, если он — бессмертное существо. Отрицание бессмертия человека для него равносильно отрицанию человека. Или человек — бессмертный дух, имеющий вечную судьбу, или он преходящий эмпирический феномен, пассивный продукт природной и социальной среды. Во втором случае человек не имеет безусловной цены. Не существует зла и преступления. Достоевский защищает бессмертную душу человека. Бессмертная душа, значит также и свободная душа, имеет вечную безусловную цену. Но она также ответственная душа. Признание существования внутреннего зла и ответственности за преступления означает признание подлинного бытия человеческой личности. Зло связано с личным бытием, с человеческой самостью. Но личное бытие есть бессмертное бытие. Разрушение бессмертного личного бытия есть зло. Утверждение бессмертного личного бытия есть добро. Отрицание бессмертия есть отрицание того, что существует добро и зло. Все дозволено, если человек не есть бессмертное и свободное личное бытие. Тогда человек не имеет безусловной цены. Тогда человек не ответствен за зло. В центре нравственного миросозерцания Достоевского стоит признание абсолютного значения всякого человеческого существа. Жизнь и судьба самого последнего из людей имеет абсолютное значение перед лицом вечности. Это — вечная жизнь и вечная судьба. И потому нельзя безнаказанно раздавить ни одного человеческого существа. В каждом человеческом существе нужно чтить образ и подобие Божие. И самое падшее человеческое существо сохраняет образ и подобие Божье. В этом нравственный пафос Достоевского. Не только "дальний" — высшая "идея", не только "необыкновенные" люди, как Раскольников, Ставрогин, Иван Карамазов, имеют безусловное значение, но и "ближний", будь то Мармеладов, Лебядкин, Снигирев или отвратительная старушонка-процентщица, — имеют безусловное значение. Человек, который убивает другого человека, убивает самого себя, отрицает бессмертие и вечность в другом и в себе. Такова моральная диалектика Достоевского, неотразимая и чисто христианская. Не утилитарный страх наказаний должен удерживать от преступлений и убийства, а собственная бессмертная природа человека, которая преступлением и убийством отрицается. Совесть человеческая есть выражение этой бессмертной природы".
И в той же статье Бердяев подметил различение между любовью и сладострастием, делаемое Достоевским и особенно четко проявившееся в "Братьях Карамазовых":
"Достоевский глубоко исследует проблему сладострастия. Сладострастие переходит в разврат. Разврат есть явление не физического, а метафизического порядка. Своеволие порождает раздвоение. Раздвоение порождает разврат, в нем теряется целостность. Целостность есть целомудрие. Разврат же есть разорванность. В своем раздвоении, разорванности и развратности человек замыкается в своем "я", теряет способность к соединению с другим, "я" человека начинает разлагаться, он любит не другого, а самую любовь. Настоящая любовь есть всегда любовь к другому, разврат же есть любовь к себе. Разврат есть самоутверждение. И самоутверждение это ведет к самоистреблению. Ибо укрепляет человеческую личность выход к другому, соединение с другим. Разврат же есть глубокое одиночество человека, смертельный холод одиночества. Разврат есть соблазн небытия, уклон к небытию. Стихия сладострастия — огненная стихия. Но когда сладострастие переходит в разврат, огненная стихия потухает, страсть переходит в ледяной холод. Это с изумительной силой показано Достоевским. В Свидригайлове показано онтологическое перерождение человеческой личности, гибель личности от безудержного сладострастия, перешедшего в безудержный разврат. Свидригайлов принадлежит уже к призрачному царству небытия, в нем есть что-то нечеловеческое. Но начинается разврат всегда со своеволия, с ложного самоутверждения, с замыкания в себе и нежелания знать другого. В сладострастии Мити Карамазова еще сохраняется горячая стихия, в нем есть горячее человеческое сердце, в нем карамазовский разврат не доходит еще до стихии холода, которая есть один из кругов дантовского ада. В Ставрогине сладострастие теряет свою горячую стихию, огонь его потухает. Наступает леденящий, смертельный холод. Трагедия Ставрогина есть трагедия истощения необыкновенной, исключительно одаренной личности, истощения от безмерных, бесконечных стремлений, не знающих границы, выбора и оформления. В своеволии своем он потерял способность к избранию. И жутко звучат слова угасшего Ставрогина в письме к Даше: "Я пробовал везде мою силу… На пробах для себя и для показу, как и прежде во всю мою жизнь, она оказалась беспредельною… Но к чему приложить эту силу — вот чего никогда не видел, не вижу и теперь… Я все так же, как и всегда прежде, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от этого удовольствие… Я пробовал большой разврат и истощил в нем силы; но я не люблю и не хотел разврата… Я никогда не могу потерять рассудок и никогда не могу поверить идее в такой степени, как он (Кириллов). Я даже заняться идеей в такой степени не могу". Идеал Мадонны и идеал содомский для него равно притягательны. Но это и есть утеря свободы от своеволия и раздвоения, гибель личности. На судьбе Ставрогина показывается, что желать всего без разбора и границы, оформляющей лик человека, все равно, что ничего уже не желать, и что безмерность силы, ни на что не направленной, все равно, что совершенное бессилие. От безмерности своего беспредметного эротизма Ставрогин доходит до совершенного эротического бессилия, до полной неспособности любить женщину. Раздвоение подрывает силы личности. Раздвоение может быть лишь преодолено избранием, избирающей любовью, направленной на определенный предмет, — на Бога, отметая дьявола, на Мадонну, отметая Содом, на конкретную женщину, отметая дурную множественность неисчислимого количества других женщин. Разврат есть последствие неспособности к избранию, результат утери свободы и центра воли, погружение в небытие вследствие бессилия завоевать себе царство бытия. Разврат есть линия наименьшего сопротивления. К разврату следует подходить не с моралистической, а с онтологической точки зрения. Так и делает Достоевский.
Царство карамазовщины есть царство сладострастия, утерявшего свою цельность. Сладострастие, сохраняющее цельность, внутренне оправдано, оно входит в любовь, как ее неустранимый элемент. Но сладострастие раздвоенное есть разврат, в нем раскрывается идеал содомский. В царстве Карамазовых загублена человеческая свобода, и возвращается она лишь Алеше через Христа. Собственными силами человек не мог выйти из этой притягивающей к небытию стихии. В Федоре Павловиче Карамазове окончательно утеряна возможность свободы избрания. Он целиком находится во власти дурной множественности женственного начала в мире. Для него нет уже "безобразных женщин", нет "мовешек", для него и Елизавета Смердящая — женщина. Тут принцип индивидуализации окончательно снимается, личность загублена. Но разврат не есть первичное начало, губительное для личности. Он — уже последствие, предполагающее глубокие повреждения в строе человеческой личности. Он уже есть выражение распадения личности. Распад же этот есть плод своеволия и самоутверждения. По гениальной диалектике Достоевского своеволие губит свободу, самоутверждение губит личность. Для сохранения свободы, для сохранения личности необходимо смирение перед тем, что выше твоего "я". Личность связана с любовью, но с любовью, направленной на соединение со своим другим. Когда стихия любви замыкается в "я", она порождает разврат и губит личность. Разверзающаяся бездна сострадания — другой полюс любви — не спасает личности, не избавляет от демона сладострастия, ибо и в сострадании может открыться исступленное сладострастие, и сострадание может не быть выходом к другому, слиянием с другим. И в сладострастии, и в сострадании есть вечные стихийные начала, без которых невозможна любовь. И страсть, и жалость к любимому вполне правомерны и оправданны. Но эти стихии должны быть просветлены увидением образа, лика своего другого в Боге, слиянием в Боге со своим другим. Только это и есть настоящая любовь. Достоевский не раскрывает нам положительной эротической любви. Любовь Алеши и Лизы не может нас удовлетворить. Нет у Достоевского и культа Мадонны. Но он страшно много дает для исследования трагической природы любви. Туту него настоящие откровения…
Безбожное человечество должно прийти к жестокости, к истреблению друг друга, к превращению человека в простое средство. Есть любовь к человеку в Боге. Она раскрывает и утверждает для вечной жизни лик каждого человека. Только это и есть истинная любовь, любовь христианская. Истинная любовь связана с бессмертием, она и есть не что иное, как утверждение бессмертия, вечной жизни. Это — мысль центральная для Достоевского. Истинная любовь связана с личностью, личность связана с бессмертием. Это верно и для любви эротической и для всякой иной любви человека к человеку. Но есть любовь к человеку вне Бога; она не знает вечного лика человека, ибо он лишь в Боге существует. Она не направлена на вечную, бессмертную жизнь. Это — безличная, коммунистическая любовь, в которой люди прилепляются друг к другу, чтобы не так страшно было жить потерявшим веру в Бога и в бессмертие, т. е. в Смысл жизни. Это — последний предел человеческого своеволия и самоутверждения. В безбожной любви человек отрекается от своей духовной природы, от своего первородства, он предает свою свободу и бессмертие. Сострадание к человеку как к трепещущей, жалкой твари, игралищу бессмысленной необходимости — есть последнее прибежище идеальных человеческих чувств, после того как угасла всякая великая Идея и утерян Смысл. Но это не христианское сострадание. Для христианской любви каждый человек есть брат во Христе. Христова любовь есть узрение Богосыновства каждого человека, образа и подобия Божьего в каждом человеке. Человек прежде всего должен любить Бога. Это — первая заповедь. А за ней следует заповедь любви к ближнему. Любить человека только потому и возможно, что есть Бог, единый Отец. Его образ и подобие мы должны любить в каждом человеке. Любить человека, если нет Бога, значит человека почитать за Бога. И тогда подстерегает человека образ человекобога, который должен поглотить человека, превратить его в свое орудие. Так невозможной оказывается любовь к человеку, если нет любви к Богу. И Иван Карамазов говорит, что любить ближнего невозможно. Антихристианское человеколюбие есть лживое, обманчивое Человеколюбие. Идея человекобога истребляет человека, лишь идея Богочеловека утверждает человека для вечности. Безбожная, антихристианская любовь к человеку и человечеству — центральная тема "Легенды о Великом Инквизиторе". Мы еще вернемся к ней. Достоевский много раз подходил к этой теме — отрицанию Бога во имя социального эвдемонизма, во имя человеколюбия, во имя счастья людей в этой краткой земной жизни. И всякий раз являлось у него сознание необходимости соединения любви со свободой. Соединение любви со свободой дано в образе Христа. Любовь мужчины и женщины, любовь человека к человеку становится безбожной любовью, когда теряется духовная свобода, когда исчезает лик, когда нет в ней бессмертия и вечности. Настоящая любовь есть утверждение вечности".
Федор Павлович Карамазов — это развратник, ибо ему требуется не только удовлетворить собственное сексуальное влечение, но еще и причинить страдание своему партнеру, а главное — получить удовольствие от того, что он в удовлетворении своей страсти преступает законы Божеские и человеческие. Без этого его страсть не получает удовлетворения, и в этом отношении старик Карамазов — вполне десадовский герой. Напротив, Митя Карамазов подвержен сладострастию, но не разврату. Он сходится с женщинами без любви, предается загулам и пьянству, но развратником вроде отца или, например, Свидригайлова и Ставрогина так и не становится, и ему еще предстоит пройти путь раскаяния и духовного возрождения, тогда как для Аркадия Ивановича и Николая Всеволодовича этот путь оказывается непосилен и приводит к самоубийству.
В. В. Розанов в статье "О Достоевском" так объяснял значение "Легенды о Великом инквизиторе": "Карамазовщина" — это название все более и более становится столь же нарицательным и употребительным, как ранее его возникшее название "обломовщина"; в последнем думали видеть определение русского характера; но вот оказывается, что он определяется и в "карамазовщине". Не правильнее ли будет думать, что "обломовщина" — это состояние человека в его первоначальной непосредственной ясности: это он — детски чистый, эпически спокойный, — в момент, когда выходит из лона бессознательной истории, чтобы перейти в ее бури, в хаос ее мучительных и уродливых усилий ко всякому новому рождению; "карамазовщина" — это именно уродливость и муки, когда законы повседневной жизни сняты с человека, новых он еще не нашел, но, в жажде найти их, испытывает движения во все стороны, чтобы из самого страдания своего в момент нарушения известных и священных заветов — найти, наконец, эти последние и подчиниться им. Главы "Братьев Карамазовых" "Pro и Contra" и "Великий инквизитор" — центральные не только по отношению к роману, в котором они содержатся, но и по отношению ко всему длинному ряду произведений Достоевского, который можно рассматривать как предварительные, неясные и неполные вариации мучительной темы, вылившейся неожиданно почти, почти без связи с самим романом, в этих главах, по времени написания — почти предсмертных. Гений писателя поднимается здесь на высоту, на которую еще не восходил до него никто в художестве: в чудной сцене, где представляются, в узком подземелье, вновь сведенными Христос и человек, — Бог принимает исповедь от твари своей за все тысячелетия ее страданий, смрада, греха и могучих и напрасных усилий превозмочь это. Было бы затруднительно в целой всемирной литературе найти какие-нибудь аналогии этой сцене; чтобы отыскать их, нужно обратиться к памятникам письменности совсем другого рода. Это опять пред нами Иов, но, сообразно новым тысячелетиям страданий и опыта, речь его становится сложнее, мысль проникновеннее, да и он сам говорит уже не о своих страданиях, не о странной причудливости своей только судьбы, но за все человечество, за века его необъяснимых судеб. Событие тесное, частный эпизод в земле Уц, с похищенными стадами, потерянными детьми, как будто раздвинулось в необозримую панораму всемирной истории, сохранив, однако, свой смысл и имея для себя тех же виновников. Только положение этих виновников взаимно переместилось, — и это есть, кажется, самая важная черта, какую новые века внесли в смысл сетований, столь древних: дерзкий вопрос уже не находит себе ответа, спрашивающий — до конца спрашивает, и, наконец, мы не различаем, кто же именно спрашивает? Граница между человеком и искушающим Бога дьяволом исчезает, их образы сливаются, смысл их слов становится тождествен, и весь эпизод получает невыразимо тягостный смысл. Нет более праведного Иова, и не будет для него утешения; есть Иов другой, без утешения, без веры, который так же покрыт проказой, на том же сидит гноище, но уже без какого-либо смысла своего страдания, только ощущающий его боль, и ропот которого переходит в темный хаос слов. Вера ли это? Безверие ли? Какой окончательный смысл сцены? Его договорит история — мы же знаем только, что никогда не являлось более точного, более правильного выражения того, до чего Высшим Промыслом доведена эта история к нашему многозначительному и тревожному моменту".
Бердяев же одним из первых указал на неизбежность прихода ко злу у Достоевского при следовании путем свободы и о притягательности зла как причине раздвоения героев Достоевского, причем эта идея находит свое законченное воплощение в "Легенде о Великом инквизиторе": "Путь свободы привел человека к путям зла. Путь же зла раздваивает человека. Достоевский — гениальный мастер в изображении раздвоения. Тут у него есть настоящие открытия, которые поражают психологов и психиатров. Великому художнику открывалось больше и открывалось раньше, чем ученым. Беспредельная и пустая свобода, свобода, перешедшая в своеволие, безблагодатная и безбожная свобода не может совершить акта избрания, она тянется в стороны противоположные. Поэтому раздваивается человек, у него образуются два "я", личность раскалывается. Такими раздвоенными, расколотыми людьми являются все герои Достоевского — и Раскольников, и Ставрогин, и Версилов, и Иван Карамазов. Они потеряли цельность личности, они ведут как бы двойную жизнь. В пределе раздвоения должно выделиться и персонифицироваться другое "я" человека, его внутреннее зло, как черт. Этот предел раздвоения с гениальной силой обнаружен Достоевским в кошмаре Ивана Карамазова, в разговоре его с чертом. Иван говорит черту: "Ты воплощение меня самого, только одной, впрочем, моей стороны… моих мыслей и чувств, только самых гадких и глупых". "Ты — я сам, сам я, только с другой рожей". "Ты не сам по себе, ты — я, ты есть я и более ничего, ты — дрянь, ты — моя фантазия". Черт у Достоевского не есть уже соблазнительный и прекрасный демон, являвшийся в "красном сиянии, гремя и блистая, с огненными крыльями". Это — серый и пошловатый джентльмен с лакейской душой, который жаждет воплотиться в "семипудовую купчиху". Это дух небытия, подстерегающий человека. Последний предел зла — пошлость, ничтожество и небытие. Зло в Иване Карамазове — смердя конское начало. Здравый смысл помешал черту принять Христа и воскликнуть "Осанна". "Эвклидов ум" Ивана Карамазова очень родствен этому здравому смыслу, аргументы "Эвклидова ума" и оказываются аргументами, схожими с аргументами черта. Этот черт есть у всех раздвоенных людей Достоевского, хотя менее выявлен у них, чем у Ивана. Второе "я" раздвоенного человека есть дух небытия, есть гибель бытия их личности. В этом втором "я" раскрывается пустая, бессодержательная свобода, свобода небытия. Идеал "содомский" есть "призрак жизни", соблазн небытия. И в совершенный призрак превращается Свидригайлов, окончательно отдавшийся содомскому идеалу. Его уже нет как личности. Изобличается имманентное ничтожество зла. Спасение от раздвоения лишь во второй благодатной свободе, свободе в Истине, свободе во Христе. Чтобы прекратилось раздвоение и исчез кошмар черта, нужно совершить окончательное избрание, избрание подлинного бытия. И любовь проходит у Достоевского через то же раздвоение. В ней раскрываются те же начала".
Беседа Ивана и Алеши Карамазовых, возможно, имеет в своей основе одно яркое событие еще из сибирской жизни Достоевского. Вот что вспоминала С. В. Ковалевская: "Мы с сестрой знали, что Федор Михайлович страдает падучей, но эта болезнь была окружена в наших глазах таким магическим ужасом, что мы никогда не решились бы и отдаленным намеком коснуться этого вопроса. К нашему удивлению, он сам об этом заговорил и стал нам рассказывать, при каких обстоятельствах произошел с ним первый припадок Впоследствии я слышала другую, совсем различную версию на этот счет: будто Достоевский получил падучую вследствие наказания розгами; которому подвергся на каторге. Эти две версии совсем не похожи друг на друга; которая из них справедлива, я не знаю, так как многие доктора говорили мне, что почти все больные этой болезнью представляют ту типическую черту, что сами забывают, каким образом она началась у них, и постоянно фантазируют на этот счет.
Как бы то ни было, вот что рассказывал нам Достоевский. Он говорил, что болезнь эта началась у него, когда он был уже не на каторге, а на поселении. Он ужасно томился тогда одиночеством и целыми месяцами не видел живой души, с которой мог бы перекинуться разумным словом. Вдруг, совсем неожиданно, приехал к нему один его старый товарищ (я забыла теперь, какое имя называл Достоевский). Это было именно в ночь перед светлым Христовым воскресеньем. Но на радостях свидания они и забыли, какая это ночь, и просидели ее всю напролет дома, разговаривая, не замечая ни времени, ни усталости и пьянея от собственных слов.
Говорили они о том, что обоим всего было дороже, — о литературе, об искусстве и философии; коснулись наконец религии.
Товарищ был атеист, Достоевский — верующий; оба горячо убежденные, каждый в своем.
— Есть Бог, есть! — закричал, наконец, Достоевский вне себя от возбуждения. В эту самую минуту ударили колокола соседней церкви к светлой Христовой заутрене. Воздух весь загудел и заколыхался.
— И я почувствовал, — рассказывал Федор Михайлович, — что небо сошло на землю и поглотило меня. Я реально постиг Бога и проникнулся им. Да, есть Бог! — закричал я, и больше ничего не помню.
Вы все, здоровые люди, — продолжал он, — и не подозреваете, что такое счастье, то счастье, которое испытываем мы, эпилептики, за секунду перед припадком. Магомет уверяет в своем Коране, что видел рай и был в нем. Все умные дураки убеждены, что он просто лгун и обманщик. Ан нет! Он не лжет! Он действительно был в раю в припадке падучей, которою страдал, как и я. Не знаю, длится ли это блаженство секунды, или часы, или месяцы, но, верьте слову, все радости, которые может дать жизнь, не взял бы я за него!
Достоевский проговорил эти последние слова свойственным ему страстным, порывчатым шепотом. Мы все сидели как замагнетизированные, совсем под обаянием его слов. Вдруг, внезапно, нам всем пришла та же мысль: сейчас будет с ним припадок.
Его рот нервно кривился, все лицо передергивало.
Достоевский, вероятно, прочел в наших глазах наше опасение. Он вдруг оборвал свою речь, провел рукой по лицу и зло улыбнулся.
— Не бойтесь, — сказал он, — я всегда знаю наперед, когда это приходит.
Нам стало неловко и совестно, что он угадал нашу мысль, и мы не знали, что сказать. Федор Михайлович скоро ушел от нас после этого и потом рассказывал, что в эту ночь с ним действительно был жестокий припадок".
Характерно, что Иван Карамазов тоже душевно заболевает — но не эпилепсией, а сумасшествием. Предвестником этой душевной болезни и является галлюцинация — разговор с чертом. Достоевскому самому доводилось переживать подобные галлюцинации, которые служили предвестниками эпилептических припадков.
При изображении болезненного состояния и галлюцинаций Ивана Карамазова в главе "Черт. Кошмар Ивана Федоровича" автор, по собственному признанию, также учитывал мнения врачей, справлялся с медицинской и психиатрической литературой.
В письме соредактору "Русского вестника" Н. А. Любимову от 10 августа 1880 года с пояснениями к главе "Черт. Кошмар Ивана Федоровича" Достоевский сообщал: "Долгом считаю… Вас уведомить, что я давно уже справлялся с мнением докторов (и не одного). Они утверждают, что не только подобные кошмары, но и галюсинации перед "белой горячкой" возможны. Мой герой, конечно, видит и галюсинации, но смешивает их с своими кошмарами. Тут не только физическая (болезненная) черта, когда человек начинает временами терять различие между реальным и призрачным (что почти с каждым человеком хоть раз в жизни случалось), но и душевная, совпадающая с характером героя: отрицая реальность призрака, он, когда исчез призрак, стоит за его реальность. Мучимый безверием, он (бессознательно) желает в то же время, чтоб призрак был не фантазия, а нечто в самом деле".
То, что Достоевский изобразил кошмар Ивана Федоровича клинически точно, доказывает письмо, полученное писателем 10 декабря 1880 года, уже после окончания "Братьев Карамазовых". Врач А. Ф. Благонравов из Юрьева-Польского признавался: "Из того, что ваш последний роман "Братья Карамазовы", захватывающий в себя, предрешающий глубину вопросов, в нем поставленных, читается многими в нашей глухой провинции, хотя и под руководством лиц, более способных понимать ваше художественное создание, вы можете заключить, что живущая в провинции молодежь (я разумею чиновников и молодое купеческое поколение, воспитываемое на пустых романах) перестает коснеть в невежестве и мало-помалу умственно развивается — идет вперед.
Едва ли кому-либо, кроме вас, суждено так ярко и так глубоко анализировать душу человека во время различных ее состояний, — изображение же галлюцинации, происшедшей с И. Ф. Карамазовым вследствие сильной душевной напряженности (я пока остановился на этой главе, читая ваш роман понемногу), создано так естественно, так поразительно верно, что, перечитывая несколько раз это место вашего романа, приходишь в восхищение. Об этом обстоятельстве я могу судить поболее других, потому что я медик. Описать форму душевной болезни, известную в науке под именем галлюцинаций, так натурально и вместе так художественно, навряд ли бы сумели наши корифеи психиатрии: Гризингеры, Крафт-Эбинги, Лораны, Сенкеи и т. п., наблюдавшие множество субъектов, страдавших нарушенным психическим строем…" Об эпилепсии Достоевского его корреспондент скорее всего ничего не знал.
Между прочим, Достоевский столь же точно, как и галлюцинации, описал в романе особенности следствия и суда. Неудивительно, поскольку он пользовался советами такйх квалифицированных юристов, как А. Ф. Кони и АЛ. Штакеншнейдер. Тем показательнее одна ошибка, которая присутствует в тексте "Братьев Карамазовых". Одна из деталей процесса над Митей Карамазовым является нарушением процессуальных правил, аналогичным допущенному в деле Е. П. Корниловой, о пересмотре которого в 1876 году хлопотал Достоевский. Согласно 693-й статье Устава уголовного судопроизводства 1864 года, врачи Герценштубе и Варвинский не могли быть опрошены одновременно и в качестве свидетелей, и в качестве экспертов. Это нарушение, очевидно, было допущено писателем сознательно, чтобы во втором томе "Карамазовых" появился повод для кассации и пересмотра дела Мити.
Достоевский ответил Благонравову 19 декабря: "Вы верно заключаете, что причину зла я вижу в безверии, но что отрицающий народность отрицает и веру. Именно у нас это так, ибо у нас вся народность основана на христианстве. Слова "крестьянин", "Русь православная" — суть коренные наши основы. У нас русский, отрицающий народность (а таких много), есть непременно атеист или равнодушный. Обратно, всякий неверующий или равнодушный решительно не может понять и никогда не поймет ни русского народа, ни русской народности. Самый важный теперь вопрос: как заставить с этим согласиться нашу интеллигенцию? Попробуйте заговорить: или съедят, или сочтут за изменника. Но кому изменника? Им — то есть чему-то носящемуся в воздухе и которому даже имя придумать трудно, потому что они сами не в состоянии придумать, как назвать себя. Или народу изменника? Нет, уж я лучше буду с народом: ибо от него только можно ждать чего-нибудь, а не от интеллигенции русской, народ отрицающей и которая даже не интеллигентна.
Но возрождается и идет новая интеллигенция, та хочет быть с народом. А первый признак неразрывного общения с народом есть уважение и любовь к тому, что народ всею целостию своей любит и уважает более и выше всего, что есть в мире, — то есть своего Бога и свою веру.
Эта новогрядущая интеллигенция русская, кажется, именно теперь начинает подымать голову. Именно, кажется, теперь она потребовалась к общему делу, и она это начинает и сама сознавать… За ту главу "Карамазовых" (о галлюцинации), которою Вы, врач, так довольны, меня пробовали уже было обозвать ретроградом и изувером, дописавшимся "до чертиков". Они наивно воображают, что все так и воскликнут: "Как? Достоевский про черта стал писать? Ах, какой он пошляк, ах, как он неразвит!" Но, кажется, им не удалось! Вас особенно, как врача, благодарю за сообщение Ваше о верности изображенной мною психической болезни этого человека. Мнение эксперта меня поддержит, и согласитесь, что этот человек (Иван Карамазов) при данных обстоятельствах никакой иной галлюсинации не мог видеть, кроме этой. Я эту главу хочу впоследствии, в будущем "Дневнике", разъяснить сам критически". Скорая и внезапная смерть помешала Достоевскому исполнить это намерение.
Аналогичная мысль о реакции публики на разговор Ивана с чертом встречается и в записной тетради Достоевского 1880–1881 годов: "Мерзавцы дразнили меня необразованною и ретроградною верою в Бога, — читаем мы здесь. — Этим олухам и не снилось такой силы отрицание Бога, какое положено в "Инквизиторе" и в предшествовавшей главе, которому ответом служит весь роман. Не как дурак же (фанатик) я верую в Бога. И эти хотели меня учить и смеялись над моим неразвитием! Да их глупой природе и не снилось такой силы отрицание, которое перешел я. Им ли меня учить!"
Черт рассказывает Ивану: "Что же до исповедальных этих иезуитских будочек, то это воистину самое милое мое развлечение в грустные минуты жизни. Вот тебе еще один случай, совсем уже на днях. Приходит к старику патеру блондиночка, норманочка, лет двадцати, девушка. Красота, телеса, натура — слюнки текут. Нагнулась, шепчет патеру в дырочку свой грех. "Что вы, дочь моя, неужели вы опять уже пали?.." — восклицает патер. — О, Sancta Maria, что я слышу: уже не с тем. Но доколе же это продолжится, и как вам это не стыдно!" "Ah mon pere, — отвечает грешница, вся в покаянных слезах. — Са lui fait tant de plaisir et a moi si peu de peine!" (Это доставляет им такое удовольствие, а мне так мало стоит! — франц.) Ну, представь себе такой ответ! Тут уж и я отступился: это крик самой природы, это, если хочешь, лучше самой невинности! Я тут же отпустил ей грех и повернулся было идти, но тотчас же принужден был и воротиться: слышу, патер в дырочку ей назначает вечером свидание, — а ведь старик — кремень, и вот пал в одно мгновение! Природа-то, правда-то природы взяла свое!"
Туг обыгрывается то обстоятельство, что в 1783 году был издан особый папский указ "в целях искоренения злоупотреблений, допускаемых духовенством против нравственности". Отныне женщина могла исповедоваться только в изолированной от исповедника исповедальне с отдельным входом. Духовник должен сообщаться с ней только через решетку, "устроенную так, чтобы неумышленно или намеренно духовник не мог коснуться ее ног, а равно она — его ног. Решетка должна быть такой, чтобы через нее нельзя было просунуть палец и тем паче руку". Если же исповедь совершалась в домовой церкви, где не было исповедальни, то двери во время исповеди должны были оставаться открытыми во все время исповеди. Такие меры могли быть только следствием того, что святые отцы вели себя с молоденькими и симпатичными исповедницами примерно так же, как гоголевский заседатель Дробяжкин. Тема разврата католических священников еще со времен Возрождения стала традиционной для западноевропейской литературы. А в XX веке разразился целый ряд скандалов, связанных с растлением на исповеди несовершеннолетних мальчиков. В записной тетради Достоевского 1864 года сохранилась замечательная заметка, из которой, как кажется, и вырос этот рассказ черта: "Католицизм (сила ада). Безбрачие. Отношение к женщине на исповеди. Эротическая болезнь. Есть тут некоторая тонкость, которая может быть постигнута только самым подпольным постоянным развратом (Marquis de Sade)". Действительно, у маркиза де Сада католические священники отличаются самым невероятным и жестоким развратом. Но еще более важным является мотив утверждения черта, что склонность к разврату лежит в человеческой природе. Эта мысль — вполне десадовская. Маркиз последовательно отстаивал в своих сочинениях идею о том, что склонность ко злу и разврату — неотъемлемая часть человеческой природы, что до крайности затрудняет задачу Бога и добродетели. Достоевский же верил в изначальное преобладание сил добра в человеческой природе и потому вложил мысль о "правде природы" как оправдании разврата в уста черта.
Случай с аббатом, назначающим любовное свидание в исповедальне, близок эпизоду исповеди из песни V эротической "Войны Богов" французского поэта Эвариста-Дезире Парни (1753–1814), современника маркиза де Сада, чьи творения в откровенности лишь немногим уступали маркизовым сочинениям. Аналогичный эпизод, кстати сказать, присутствовал в переведенном с итальянского анонимном стихотворении "Капуцин" опубликованном в 1873 году в журнале "Гражданин", который в то время редактировал Достоевский.
В записной тетради к "Братьям Карамазовым" Достоевский также отметил положительные черты Ивана Карамазова по сравнению с большинством современных атеистов: "Черт. (Психологическое и подробное критическое объяснение Ив(ана) Федоровича и явления черта.) Ив(ан) Фед(орович) глубок, это не современные атеисты, доказывающие в своем неверии лишь узость своего мировоззрения и тупость тупеньких своих способностей… Нигилизм явился у нас потому, что мы все нигилисты. Нас только испугала новая, оригинальная форма его проявления. (Все до единого Федоры Павловичи)… Совесть без Бога есть ужас, она может заблудиться до самого безнравственного… Инквизитор уже тем одним безнравствен, что в сердце его, в совести его могла ужиться идея о необходимости сожигать людей… Инквизитор и глава о детях. Ввиду этих глав вы бы могли отнестись ко мне хотя и научно, но не столь высокомерно по части философии, хотя философия и не моя специальность. И в Европе такой силы атеистических выражений нет и не было. Стало быть, не как мальчик же я верую во Христа и его исповедую, а через большое горнило сомнений моя осанна прошла, как говорит у меня же, в том же романе, черт".
Бердяев писал об образе Ивана Карамазова в "Духах русской революции" через год после того, как в России после большевистской революции был провозглашен государственный атеизм: "Философом русского нигилизма и атеизма является Иван Карамазов. Он провозглашает бунт против Бога и против Божьего мира из очень высоких мотивов, — он не может примириться со слезинкой невинно замученного ребенка. Иван ставит Алеше вопрос очень остро и радикально: "Скажи мне сам прямо, я зову тебя, отвечай: представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой, но для того необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно только крохотное созданьице, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь, и на неотомщенных слезках его основать это здание; согласился бы ты быть архитектором на этих условиях?" Иван ставит тут вековечную проблему о цене истории, о допустимости тех жертв и страданий, которыми покупается создание государств и культур. Это вопрос русский по преимуществу проклятый вопрос, который русские мальчики предъявили всемирной истории. В вопрос этот был вложен весь русский моральный пафос, оторванный от религиозных истоков. На вопросе этом морально обосновался русский революционно-нигилистический бунт, который и провозглашает Иван. "В окончательном результате я мира этого Божьего — не принимаю, и хоть и знаю, что он существует, да не допускаю его вовсе. Я не Бога не принимаю, я мира, им созданного, мира-то Божьего не принимаю и не могу согласиться принять". "Для чего признавать это чертово добро и зло, когда это столького стоит? Да ведь весь мир познания не стоит тогда этих слезок ребеночка к Боженьке". "От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к Боженьке… Я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которые необходимы были для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены… Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу… Да и слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно… Не Бога я не принимаю, а только билет Ему почтительнейше возвращаю". Тема, поставленная Иваном Карамазовым, сложна, и в ней переплетается несколько мотивов. Устами Ивана Карамазова Достоевский произносит суд над позитивными творениями прогресса и над утопиями грядущей гармонии, воздвигнутой на страданиях и слезах предшествующих поколений. Весь прогресс человечества и все грядущее его совершенное устройство ничего не стоят перед несчастной судьбой каждого человека, самого последнего из смертных. В этом есть христианская правда. Но острие вопроса, поставленного Иваном, совсем не в этом. Он ставит вопрос свой не как христианин, верующий в божественный смысл жизни, а как атеист и нигилист, отрицающий божественный смысл жизни, видящий лишь бессмыслицу и неправду с ограниченной человеческой точки зрения. Это — бунт против божественного миропорядка, непринятие человеческой судьбы, определенной Божьим промыслом. Это — распря человека с Богом, нежелание принять страдание и жертвы, постигнуть смысл нашей жизни как искупление. Весь бунтующий ход мыслей Ивана Карамазова есть проявление крайнего рационализма, есть отрицание тайны человеческой судьбы, непостижимой в пределах и границах этого отрывка земной, эмпирической жизни. Рационально постигнуть в пределах земной жизни, почему был замучен невинный ребенок, невозможно. Самая постановка такого вопроса — атеистична и безбожна. Вера в Бога и в Божественный миропорядок есть вера в глубокий, сокровенный смысл всех страданий и испытаний, выпадающих на долю всякого существа в его земном странствовании. Утереть слезинку ребенка и облегчить его страдания есть дело любви. Но пафос Ивана не любовь, а бунт. У него есть ложная чувствительность, но нет любви. Он бунтует потому, что не верит в бессмертие, что для него все исчерпывается этой бессмысленной эмпирической жизнью, полной страданий и горя. Типичный русский мальчик, он принял западные отрицательные гипотезы за аксиомы и поверил в атеизм.
Иван Карамазов — мыслитель, метафизик и психолог, и он дает углубленное философское обоснование смутным переживаниям неисчислимого количества русских мальчиков, русских нигилистов и атеистов, социалистов и анархистов. В основе вопроса Ивана Карамазова лежит какая-то ложная русская чувствительность и сентиментальность, ложное сострадание к человеку, доведенное до ненависти к Богу и божественному смыслу мировой жизни. Русские сплошь и рядом бывают нигилистами-бунтаря-ми из ложного морализма. Русский делает истерию Богу из-за слезинки ребенка, возвращает билет, отрицает все ценности и святыни, он не выносит страданий, не хочет жертв. Но он же ничего не сделает реально, чтобы слез было меньше, он увеличивает количество пролитых слез, он делает революцию, которая вся основана на неисчислимых слезах и страданиях. В нигилистическом морализме русского человека нет нравственного закала характера, нет нравственной суровости перед лицом ужасов жизни, нет жертвоспособности и отречения от произвола. Русский нигилист-моралист думает, что он любит человека и сострадает человеку более, чем Бог, что он исправит замысел Божий о человеке и мире. Невероятная притязательность характерна для этого душевного типа. Из истории, которую русские мальчики делали Богу по поводу слезинки ребенка и слез народа, из их возвышенных разговоров по трактирам родилась идеология русской революции. В ее основе лежит атеизм и неверие в бессмертие. Неверие в бессмертие порождает ложную чувствительность и сострадательность. Бесконечные декламации о страданиях народа, о зле государства и культуры, основанных на этих страданиях, вытекали из этого богоборческого источника. Само желание облегчить страдание народа было праведно, и в нем мог обнаружиться дух христианской любви. Это и ввело многих в заблуждение.
Не заметили смешения и подмены, положенных в основу русской революционной морали, антихристовых соблазнов этой революционной морали русской интеллигенции. Заметил это Достоевский, он вскрыл духовную подпочву нигилизма, заботящегося о благе людей, и предсказал, к чему приведет торжество этого духа. Достоевский понял, что великий вопрос об индивидуальной судьбе каждого человека совершенно иначе решается в свете сознания религиозного, чем в тьме сознания революционного, претендующего быть лжерелигией.
Достоевский раскрыл, что природа русского человека является благоприятной почвой для антихристовых соблазнов. И это было настоящим открытием, которое и сделало Достоевского провидцем и пророком русской революции. Ему дано было внутреннее видение и видение духовной сущности русской революции и русских революционеров. Русские революционеры, апокалиптики и нигилисты по своей природе, пошли за соблазнами антихриста, который хочет осчастливить людей, и должны были привести соблазненный ими народ к той революции, которая нанесла страшную рану России и превратила русскую жизнь в ад. Русские революционеры хотели всемирного переворота, в котором сгорит весь старый мир с его злом и тьмой и с его святынями и ценностями и на пепелище подымется новая, благодатная для всего народа и для всех народов жизнь. На меньшем, чем всемирное счастье, русский революционер помириться не хочет. Сознание его апокалиптично, он хочет конца, хочет завершения истории и начала процесса сверхисторического, в котором осуществится царство равенства, свободы и блаженства на земле. Ничего переходного и относительного, никаких ступеней развития сознания это не допускает.
Русский революционный максимализм и есть своеобразная, извращенная апокалиптика. Обратной стороной ее всегда является нигилизм. Нигилистическое истребление всего множественного и относительного исторического мира неизбежно распространяется и на абсолютные духовные основы истории. Русский нигилизм не принимает самого источника исторического процесса, который заложен в божественной действительности, он бунтует против божественного миропорядка, в котором задана история со своими ступенями, со своей неотвратимой иерархичностью. У самого Достоевского были соблазны русского максимализма и русского религиозного народничества. Но была в нем и положительная религиозная сила, сила пророческая, помогавшая ему раскрыть русские, соблазны и изобличить их".
Л. Д. Галинская в работе "Человек в романе Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы" верно отмечает; "Вопрос спасения, поднимаемый на страницах романа "Братья Карамазовы", не менее сложен, чем вопрос искупления. Достоевский дает несколько вариантов его решения. В своих беседах и поучениях старец Зосима рассуждает о том, что ад — это страдание из-за невозможности любить. В кошмаре Ивана Федоровича Черт тоже говорит о том, что мучения грешников в аду нравственные, а не физические и что в конце концов и грешники, претерпев страдания пропорционально своим грехам, окажутся в раю. Иван Федорович предполагает, что "зарезанный встанет и обнимется с убившим его", а мать обнимется с мучителем ее ребенка. По-видимому, идея мистического единства предполагает единение людей и после смерти. Та самая гармония, воплощение которой в полной мере все же невозможно на земле, должна восторжествовать в мире ином, и спасение должно быть всеобщим".
С. Н. Булгаков в статье "Иван Карамазов как философский тип" утверждал: "Иван не хочет принять своим "эвклидовским" умом целесообразность и разумность человеческих страданий. О всех "слезах человеческих, которыми пропитана вся земля от коры до центра — я уж ни слова не говорю… Я клоп и признаю со всем принижением, что ничего не могу понять, для чего все так устроено. Люди сами, значит, виноваты: им дан был рай, они захотели свободы и похитили огонь с небеси, сами зная, что станут несчастны, значит, нечего их жалеть". Но детки невинны, они не "съели яблоко", на их страданиях яснее поэтому ненужность, бессмысленность страданий вообще. И вот идут ужасные страницы о детках, зарезанных, застреленных в момент, когда дитя играючи тянулось за пистолетом, томимых в скверном месте, истязаемых, затравленных собаками на глазах у матери, — длинная, кровавая галерея. "Совсем непонятно, — гремит Иван, — для чего должны были страдать и они и зачем им покупать страданиями гармонию? Для чего они-то тоже попали в материал и унавозили собою для кого-то будущую гармонию?" Иван отказывается от гармонии за такую цену. "Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к "Боженьке"! Не стоит, потому что слезки остались не искупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем, чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение, зачем мне ад для мучителей, что тут ад может поправить, когда те уж замучены?" "Слишком дорого оценили гармонию, — заключает Иван, — не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. И если я только честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Не Бога я не принимаю, Алеша, а только билет Ему почтительнейше возвращаю". "Это бунт", — тихо и потупившись проговорил Алеша. Да, это бунт, бунт человека против Бога, или, выражая ту же мысль на атеистический манер, — бунт бессильной человеческой личности против объективного порядка вещей. Пламенный дух байроновского Каина, дух мировой скорби воскрес в Иване! Иван отвечает Алеше: "Бунт. Я бы не хотел от тебя такого слова. Можно ли жить бунтом, а я хочу жить". Да, бунтом нельзя жить, и это настроение или это миропонимание нужно как-нибудь победить или пережить, иначе исхода нет.
Кривое зеркало души Ивана, его черт, с пошлой насмешливостью развивает ту же идею необходимости зла в мировой дисгармонии. Он противопоставляет себя Мефистофелю, который всегда хочет зла. "Я, может быть, единственный человек во всей природе, который любит истину и хочет добра". Черт рассказывает, как и ему хотелось крикнуть "осанна", но "что же бы вышло из моей-то осанны? Тотчас бы все угасло на свете и не стало бы случаться никаких происшествий. И вот, единственно по долгу службы и по социальному моему положению я принужден был задавить в себе хороший момент и остаться при пакостях. Честь добра кто-то берет всю себе, а мне оставлены в удел только пакости". "Я знаю, — жалуется черт, — тут есть секрет, мне ни за что не хотят его открыть, потому что я, пожалуй, тогда, догадавшись, в чем дело, рявкну "осанну", и тотчас исчезнет необходимый минус и начнется во всем мире благополучие". "Будирую и скрепя сердце исполняю свое назначение: губить тысячи, чтобы спасся один. Сколько, например, надо было погубить душ и опозорить честных репутаций, чтоб получить одного только Иова, на котором меня так зло поддели во время оно! Нет, пока не открыт секрет, для меня существуют две правды: одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем неизвестная, а другая моя". Иван стонет от этого издевательства черта над его идеями".
С. Н. Булгаков попробовал взглянуть на героя Достоевского через призму великой поэмы Гете. Он утверждал: "Мировое значение образа (Ивана. — Б. С.) Карамазова станет для нас яснее, когда мы сопоставим его с другим мировым образом — Фаустом. Может быть, кому-нибудь покажется смелым это сопоставление бессмертного творения Гете, этой, по выражению Гейне, светской библии немцев, да и всего культурного мира, и нашего Ивана Карамазова, — мы так не привыкли полной мерою ценить свое национальное достояние по сравнению с западным. Но я обдуманно делаю это сопоставление и считаю его вполне законным. Сопоставление не касается, конечно, формы обоих произведений, которая несравнима, а их идейного содержания. А с точки зрения этого последнего Фауст и Карамазов находятся в несомненной генетической связи, один выражает собой сомнения XVIII, другой XIX века, один подвергает критике теоретический, другой — практический разум…
Мы ощутили, таким образом, у Ивана Карамазова свою родную болезнь, составляющую наше национальное отличие, болезнь совести, и усмотрели в ней его основную психологическую черту.
Отчего же болезнь совести в такой степени является нашей национальной чертой? Ответ на этот вопрос ясен для каждого. Оттого, что между идеалом и действительностью, между требованием совести и разума и жизнью у нас лежит огромная пропасть, существует страшный разлад, и от этого разлада мы и становимся больны. Идеал, по самому своему понятию, не соответствует действительности, он ее отрицает; но степень этого несоответствия может быть различна, и в России это несоответствие измеряется разницей в несколько веков, ибо, тогда как интеллигенция идет в своих идеалах в ногу с самой передовой европейской мыслью, наша действительность в иных отношениях на много веков отстала от Европы. Вот почему нигде в Европе жизнь так глубоко не оскорбляет на каждом шагу, не мучает, не калечит, как в России. И вся эта нравственная скорбь от этого несоответствия в сознании интеллигенции выражается в чувстве нравственной ответственности перед народом, полному и плодотворному соединению с которым мешают тупые, но пока еще не побежденные силы".
Иван хоть и атеист, но душа метущаяся, ищущая правды и вовсе не потерянная для Бога. Поэтому Достоевский и вложил в его уста Легенду о Великом инквизиторе — самую драгоценную для него часть романа.
30 апреля 1879 года, еще не кончив и не отправив в редакцию пятой книги "Pro и contra", содержащей Легенду о Великом инквизиторе, Достоевский характеризует ее в письме к Любимову как "кульминационную точку романа". Ту же оценку в более развернутом виде он повторил в письме от 10 мая 1879 года: "В том… тексте, который я теперь выслал, я изображаю лишь характер одного из главнейших лиц романа, выражающего свои основные убеждения. Эти убеждения есть именно то, что я признаю синтезом современного русского анархизма. Отрицание не Бога, а смысла его создания. Весь социализм вышел и начал с отрицания смысла исторической действительности и дошел до программы разрушения и анархизма. Основные анархисты были, во многих случаях, люди искренно убежденные. Мой герой берет тему, по-моему неотразимую: бессмыслицу страдания детей — и выводит из нее абсурд всей исторической действительности. Не знаю, хорошо ли я выполнил, но знаю, что лицо моего героя в высочайшей степени реальное".
К разъяснению смысла глав "Бунт" и "Великий инквизитор" Достоевский вернулся 19 мая в письме к К. П. Победоносцеву. Здесь он повторил: "…эта книга в романе у меня кульминационная, называется "Pro и contra", а смысл книги: богохульство и опровержение богохульства. Богохульство-то вот это закончено и отослано, а опровержение пошлю лишь на июньскую книгу. Богохульство это взял, как сам чувствовал и понимал, сильней, то есть так именно, как происходит оно у нас теперь в нашей России у всего (почти) верхнего слоя, а преимущественно у молодежи, то есть научное и философское опровержение бытия Божия уже заброшено, им не занимаются вовсе теперешние деловые социалисты (как занимались во все прошлое столетие и в первую половину нынешнего). Зато отрицается изо всех сил создание Божие, мир Божий и смысл его. Вот в этом только современная цивилизация и находит ахинею. Таким образом льщу себя надеждою, что даже и в такой отвлеченной теме не изменил реализму. Опровержение сего (не прямое, то есть не от лица к лицу) явится в последнем слове умирающего старца. Меня многие критики укоряли, что я вообще в романах моих беру будто бы не те темы, не реальные и проч. Я, напротив, не знаю ничего реальнее именно этих вот тем…"
В письме Н. А. Любимову от 11 июня 1879 года, отсылая окончание пятой главы книги "Рго и contra" ("Великий инквизитор"), Достоевский пояснял: "В ней закончено то, что "говорят уста гордо и богохульно". Упоминание об устах, говорящих "гордо и богохульно", — это цитата из Апокалипсиса, где, в частности, рассказывается о страшном фантастическом звере: "И дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему? и кто может сразиться с ним? И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно… И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его, и жилище его, и живущих на небе".
В этом же письме писатель охарактеризовал Ивана Карамазова как "современного отрицателя, из самых ярых". Предвидя сопротивление редакции, он убеждал Любимова, что глава "Великий инквизитор" направлена против народнического социализма и не имеет в виду современные ему русскую церковь и государство: "Нашему русскому, дурацкому (но страшному социализму, потому что в нем молодежь) — указание и, кажется, энергическое: хлебы. Вавилонская башня (то есть будущее царство социализма) и полное порабощение свободы совести — вот к чему приходит отчаянный отрицатель и атеист! Разница в том, что наши социалисты (а они не одна только подпольная нигилятина, — вы знаете это) сознательные иезуиты и лгуны, не признающиеся, что идеал их есть идеал насилия над человеческой совестью и низведения человечества до стадного скота, а мой социалист (Иван Карамазов) человек искренний, который прямо признается, что согласен с взглядом Великого инквизитора на человечество и что Христова вера (будто бы) вознесла человека гораздо выше, чем стоит он на самом деле. Вопрос ставится у стены: "Презираете вы человечество или уважаете, вы, будущие его спасители?"
И все это будто бы у них во имя любви к человечеству: "Тяжел, дескать, закон Христов и отвлеченен, для слабых людей невыносим" — и вместо закона Свободы и Просвещения несут им закон цепей и порабощения хлебом.
В следующей книге произойдет смерть старца Зосимы и его предсмертные беседы с друзьями. Это не проповедь, а как бы рассказ, повесть о собственной жизни. Если удастся, то сделаю дело хорошее: заставлю сознаться, что чистый, идеальный христианин — дело не отвлеченное, а образно реальное, возможное, воочию предстоящее, и что христианство есть единственное убежище русской земли ото всех ее зол. Молю Бога, чтоб удалось, вещь будет патетическая, только бы достало вдохновения. А главное, тема такая, которая никому из теперешних писателей и поэтов и в голову не приходит, стало быть, совершенно оригинальная. Для нее пишется и весь роман, но только чтоб удалось, вот что теперь тревожит меня!"
А по свидетельству журналиста В. Ф. Пуцыковича, встречавшегося с Достоевским летом 1879 года в Берлине: "Федор Михайлович с этою легендою — о Великом инквизиторе — достиг кульминационного пункта в своей литературной деятельности… На вопрос же мой, что значит то, что он поместил именно такую религиозную легенду в роман из русской жизни ("Братья Карамазовы") и почему именно он считает не самый роман, имевший такой успех даже до окончания его, важным, а эту легенду, он объяснил мне вот что. Он тему этой легенды, так сказать, выносил в своей душе почти в течение всей жизни и желал бы именно теперь пустить в ход, так как не знает, удастся ли ему еще что-либо крупное напечатать".
Действительно, Легенда о Великом инквизиторе по праву занимает центральное место не только в "Братьях Карамазовых", но, пожалуй, и во всем творчестве Достоевского. Это — пространный пересказ Иваном Карамазовым брату Алеше, послушнику в монастыре, содержания своей уничтоженной поэмы, написанной в юности.
Речь в поэме идет о средневековой Испании, в Севилье, "в самое страшное время инквизиции, когда во славу Божию в стране ежедневно горели костры и
В великолепных автодафе
Сжигали злых еретиков".
Ее главный герой — Великий инквизитор — встретил среди своих жертв Христа, именем которого карал еретиков и который ему на самом деле только мешает. И девяностолетний кардинал приходит в камеру к Иисусу, чтобы убедить Его в пагубности предлагаемого Им пути спасения.
Здесь — один из кульминационных пунктов композиции романа, средоточие ведущихся его героями идейных споров. Сам Достоевский определял значение Легенды о Великом инквизиторе как примат необходимости "вселить в души идеал красоты" над призывами социалистов: "Накорми, тогда и спрашивай добродетели!" Великий инквизитор духовным ценностям противопоставляет первобытную силу инстинктов, идеалу героической личности — суровую стихию человеческих масс, внутренней свободе — потребность каждодневно добывать хлеб насущный, идеалу красоты — кровавый ужас исторической действительности. Писатель ставил своей целью "изображение крайнего богохульства и зерна идеи разрушения нашего времени в России, в среде оторвавшейся от действительности молодежи", которую представляет в романе Иван Карамазов. Достоевский считал, что природа человеческая не может быть сведена к сумме рациональных оснований. Великий инквизитор убеждает вновь пришедшего в мир Христа: "Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они, в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем, не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, — ибо никогда и ничего не было для человека и для человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой и раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за тобой побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку Свою и прекратятся им хлебы Твои. Но ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение: ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами. Ты возразил, что человек жив не единым хлебом: но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя Дух Земли, и сразится с Тобою, и победит Тебя, и все пойдут за ним, восклицая: "Кто подобен Зверю сему, — он дал нам огонь с небеси!"
30 декабря 1879 года, во вступительном слове к чтению главы "Великий инквизитор" на литературном утре в пользу студентов Санкт-Петербургского университета, Достоевский сказал: "Один страдающий неверием атеист в одну из мучительных минут своих сочиняет дикую, фантастическую поэму, в которой выводит Христа в разговоре с одним из католических первосвященников — Великим инквизитором. Страдание сочинителя поэмы происходит именно оттого, что он в изображении своего первосвященника с мировоззрением католическим, столь удалившимся от древнего апостольского православия, видит воистину настоящего служителя Христова. Между тем его Великий инквизитор есть, в сущности, сам атеист. Смысл тот, что если исказишь Христову веру, соединив ее с целями мира сего, то разом утратится и весь смысл христианства, ум несомненно должен впасть в безверие, вместо великого Христова идеала созиждется лишь новая Вавилонская башня. Высокий взгляд христианства на человечество понижается до взгляда как бы на звериное стадо, и под видом социальной любви к человечеству является уже незамаскированное презрение к нему. Изложено в виде разговора двух братьев. Один брат, атеист, рассказывает сюжет своей поэмы другому".
Присутствовавшая на литературном утре АГ. Достоевская вспоминала, что "чтение имело необыкновенный успех, и публика много раз заставляла автора выйти на ее аплодисменты". Но. эта история кончилась не очень хорошо для писателя. 21 марта 1880 года, вспоминая об этом событии, Достоевский писал секретарю Литературного фонда В. П. Гаевскому "Сам попечитель присутствовал на чтении. Но после чтения он мне объявил, что, судя по произведенному впечатлению, он впредь мне его запрещает читать. Таким образом, "Инквизитора" безусловно нельзя теперь читать".
Таким образом, Легенда о Великом инквизиторе не удовлетворила не только либеральную критику и революционную молодежь, но и, по крайней мере, некоторых правительственных чиновников, узревших сходство православной церкви с той католической церковью, какой ее изобразил Достоевский.
Образ Инквизитора помогает Достоевскому развенчать два важнейших тезиса сторонников преобладания материального над духовным. Первый — что люди — невольники, "хотя созданы бунтовщиками", что они слабее и ниже Божественного Промысла, что им не нужна и даже вредна свобода. Второй — будто подавляющее большинство людей слабы и не могут претерпеть страдание во имя Божье ради искупления грехов, и, следовательно, Христос в первый раз приходил в мир не для всех, а "лишь к избранным и для избранных". Писатель опровергает эти по виду очень складные рассуждения Инквизитора. Еще за четверть века до создания Легенды о Великом инквизиторе Достоевский, как мы помним, утверждал: "Если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться со Христом, нежели с истиной". И в легенде финал, помимо воли автора поэмы, Ивана Карамазова, свидетельствует о торжестве идей Христа, а не Великого инквизитора. Иван Федорович вспоминает: "Я хотел ее кончить так: когда инквизитор умолк, то некоторое время ждет, что пленник его ему ответит. Ему тяжело его молчание. Он видел, как узник все время слушал его проникновенно и тихо, смотря ему прямо в глаза и, видимо, не желая ничего возражать. Старику хотелось бы, чтобы тот сказал ему что-нибудь, хотя бы и горькое, страшное. Но он вдруг молча приближается к старику и тихо целует его в его бескровные девяностолетние уста. Вот и весь ответ. Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его; он идет к двери, отворяет ее и говорит ему: "Ступай и не приходи более… не приходи вовсе… никогда, никогда!" И выпускает его на "темные стогна града". Пленник уходит… Поцелуй горит на его сердце, но старик остается в прежней идее". А ведь целует Христос своего тюремщика после страстного обещания Инквизитора, что люди с радостью сожгут неузнанного Спасителя: "Знай, что я не боюсь Тебя. Знай, что и я был в пустыне, что и я питался акридами и кореньями, что и я благословлял свободу, которою Ты благословил людей, и я готовился стать в число избранников твоих, в число могучих и сильных с жаждой "восполнить число". Но я очнулся и не захотел служить безумию. Я воротился и примкнул к сонму тех, которые исправили подвиг Твой. Я ушел от гордых и воротился к смиренным для счастья этих смиренных. То, что я говорю Тебе, сбудется и царство наше созиждется. Повторяю Тебе, завтра же ты увидишь это послушное стадо, которое по первому мановению моему бросится подгребать горячие угли к костру твоему, на котором сожгу Тебя за то, что пришел нам мешать. Ибо если был, кто всех более заслужил наш костер, то это Ты. Завтра сожгу Тебя". Однако доброта Иисуса поколебала даже каменное сердце старого инквизитора. Поцелуй оказывается самым сильным возражением против всех хитроумных и вроде бы логичных теорий строителей царства Божьего на земле. Чистая любовь к человечеству начинается лишь тогда, когда любят не телесную, внешнюю красоту, а душу. К душе же Великий инквизитор в конечном счете остается безразличен. Как понимает слушающий Ивана брат Алеша, оппонент Христа на самом деле в Бога не верит, и Иван Карамазов с этим охотно соглашается: "Хотя бы и так! Наконец-то ты догадался. И действительно так, действительно только в этом и весь секрет, но разве это не страдание, хотя бы и для такого, как он, человека, который всю жизнь свою убил на подвиг в пустыне и не излечился от любви к человечеству? На закате дней своих он убеждается ясно, что лишь советы великого страшного духа могли бы хоть сколько-ни-будь устроить в сносном порядке малосильных бунтовщиков, "недоделаннные пробные существа, созданные в насмешку". И вот, убедись в этом, он видит, что надо идти по указанию умного духа, страшного духа смерти и разрушения, а для того принять ложь и обман и вести людей уже сознательно к смерти и разрушению и притом обманывать их всю дорогу, чтоб они как-нибудь не заметили, куда их ведут, для того чтобы хоть в дороге-то жалкие эти слепцы считали себя счастливыми. И заметь себе, обман во имя того, в идеал которого столь страстно веровал старик во всю свою жизнь! Разве это не несчастье?"
Достоевский рисует нам картину борьбы добра и зла в душе человеческой. При этом носитель злого начала наделен многими привлекательными чертами, общими с самим Христом: любовью к людям, стремлением к всеобщему, а не личному счастью. Однако все благие намерения сразу рушатся, как только оказывается, что Великий инквизитор вынужден прибегать к обману. Писатель был убежден, что ложь и обман недопустимы на пути к счастью. И не случайно в романе автор Легенды о Великом инквизиторе тоже отвергает Бога и приходит к выводу, что "все дозволено", а кончает безумием и встречей с чертом. А инквизитору как бы отвечает в своих предсмертных поучениях наставник Алеши Карамазова старец Зосима: "О, есть и во аде пребывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знание бесспорное и на созерцание правды неотразимой; есть страшные, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад уже добровольный и ненасытимый; те уже доброхотные мученики. Ибо сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь. Злобною гордостью своею питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную сосать из своего же тела начал. Но ненасытимы во веки веков и прощение отвергают, Бога, зовущего их, проклинают. Бога живаго без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было Бога жизни, чтоб уничтожил себя Бог и все создание свое. И будут гореть в огне гнева своего вечно, жаждать смерти и небытия. Но не получат смерти…" Гордыня Великого инквизитора, мечтающего заместить собою Бога, прямиком ведет его душу в ад. Христос же, которому, как показывает писатель, при втором пришествии был бы уготован застенок инквизиции и костер, остается победителем в споре. Палачу-инквизитору нечего противопоставить его молчанию и последнему всепрощающему поцелую.
Иван рассказывает Алеше: "Сам старик замечает Ему, что Он и права не имеет ничего прибавлять к тому, что уже прежде сказано. Если хочешь, так в этом и есть самая основная черта римского католичества… "Все, дескать, передано Тобою папе, и все, стало быть, теперь у папы, а Ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени, по крайней мере".
"Имеешь ли Ты право возвестить нам хоть одну из тайн того мира, из которого Ты пришел? — спрашивает Его мой старик и сам отвечает Ему за Него: — Нет, не имеешь, чтобы не прибавлять к тому, что уже было прежде сказано, и чтобы не отнять у людей свободы, за которую Ты так стоял, когда был на земле. Все, что Ты вновь возвестишь, посягнет на свободу веры людей, ибо явится как чудо, а свобода их веры была Тебе дороже всего еще тогда, полторы тысячи лет назад. Не Ты ли так часто тогда говорил: "Хочу сделать вас свободными". Но вот Ты теперь увидел этих "свободных" людей, — прибавляет вдруг старик со вдумчивою усмешкой. — Да, это дело нам дорого стоило, — продолжает он, строго смотря на Него, — но мы докончили наконец это дело во имя Твое. Пятнадцать веков мучились мы с этой свободой, но теперь это кончено, и кончено крепко. Ты не веришь, что кончено крепко? Ты смотришь на меня кротко и не удостаиваешь меня даже негодования? Но знай, что теперь и именно ныне эти люди уверены более чем когда-нибудь, что свободны вполне, а между тем сами же они принесли нам свободу свою и покорно положили ее к ногам нашим…"
"Ибо теперь только (то есть он, конечно, говорит про инквизицию. — Б. С.) стало возможным помыслить в первый раз о счастии людей. Человек был устроен бунтовщиком; разве бунтовщики могут быть счастливыми? Тебя предупреждали, — говорит он Ему, — Ты не имел недостатка в предупреждениях и указаниях, но Ты не послушал предупреждений, Ты отверг единственный путь, которым можно было устроить людей счастливыми, но к счастью, уходя, Ты дал нам право связывать и развязывать, и уж, конечно, не можешь и Думать отнять у нас это право творить. Зачем же Ты пришел нам мешать?.."
"Ты хочешь идти в мир и идешь с голыми руками, с каким-то обетом свободы, которого они в простоте своей и в прирожденном бесчинстве своем не могут и осмыслить, которого боятся они и страшатся, — ибо ничего и никогда не было для человека и человеческого общества невыносимее свободы! А видишь ли сии камни в этой нагой раскаленной пустыне? Обрати их в хлебы, и за Тобою побежит человечество, как стадо, благодарное и послушное, хотя и вечно трепещущее, что Ты отымешь руку Свою и прекратятся им хлеба Твои.
Но Ты не захотел лишить человека свободы и отверг предложение, ибо какая же свобода, рассудил Ты, если послушание куплено хлебами? Ты возразил, что человек жив не единым хлебом, но знаешь ли, что во имя этого самого хлеба земного и восстанет на Тебя дух земли, и сразится с Тобою, и победит Тебя, и все пойдут за ним, восклицая: "Кто подобен зверю сему, он дал нам огонь с небеси!" Знаешь ли Ты, что пройдут века, и человечество провозгласит устами своей премудрости и науки, что преступления нет, а стало быть, нет и греха, а есть лишь только голодные. "Накорми, тогда и спрашивай с них добродетели!" — вот что напишут на знамени, которое воздвигнут против Тебя и которым разрушится храм Твой. На месте храма Твоего воздвигнется новое здание, воздвигнется вновь страшная Вавилонская башня, и хотя и эта не достроится, как и прежняя, но все же Ты бы мог избежать этой новой башни и на тысячу лет сократить страдания людей, ибо к нам же ведь придут они, промучившись тысячу лет со своей башней! Они отыщут нас тогда опять под землей в катакомбах, скрывающихся (ибо мы будем вновь гонимы и мучимы), найдут нас и возопиют к нам: "Накорми нас, ибо те, которые обещали нам огонь с небеси, его не дали". И тогда уже мы и достроим их башню, ибо достроит тот, кто накормит, и накормим лишь мы, во имя Твое. О, никогда, никогда без нас они не накормят себя! Никакая наука не даст им хлеба, пока они будут оставаться свободными, но кончится тем, что они принесут свою свободу к ногам нашим и скажут нам: "Лучше поработите нас, но накормите нас". Поймут, наконец, сами, что свобода и хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыслимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разделиться между собой! Убедятся тоже, что не могут быть никогда свободными, потому что малосильны, порочны, ничтожны и бунтовщики. Ты обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, может ли он сравниться в глазах слабого, вечно порочного и вечно неблагодарного людского племени с земным? И если за Тобою во имя хлеба небесного пойдут тысячи и десятки тысяч, то что станется с миллионами и десятками тысяч миллионов существ, которые не в силах будут пренебречь хлебом земным для небесного? Иль Тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные, как песок морской, слабых, но любящих Тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые. Они порочны и бунтовщики, но под конец они-то станут и послушными. Они будут дивиться на нас и будут считать нас за Богов за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать — так ужасно им станет под конец быть свободными!"
Христос все время молчит и только в финале целует Инквизитора "в его бескровные девяностолетние уста"… Старик вздрагивает. Что-то шевельнулось в концах губ его; он идет к двери, отворяет ее и говорит Ему: "Ступай и не приходи более… не приходи вовсе-никогда, никогда!" И выпускает Его на "темные стогна града". Пленник уходит.
Как писал о. Александр Мень, "в истории литературы, как и в иконописи, мало есть действительно убедительных и ярких образов самого Иисуса Христа. Недаром Достоевский, задумав написать книгу об Иисусе Христе, не смог ее написать. Художественно воплотить это оказалось не по силам, но образ Христа в его Легенде о Великом инквизиторе поразительно убедителен, чувствуется Его реальное присутствие. Но только потому, что Он молчит.
Христос молчит, а инквизитор перед Ним развивает свои теории. Он говорит: мы исправим Твой подвиг, мы дадим людям хлеб, мы дадим им счастье, насильственное счастье. А Христос — молчит. Так же, как Алеша Карамазов не возражал своему брату, так Христос не возражает безумствующему перед Ним старику инквизитору и под конец подходит и целует его. Целует за великое страдание. Как старец Зосима поклонился Мите Карамазову, предчувствуя великое страдание его жизни и души, так Христос поцеловал этого безумного старика за его страдания, потому что он тоже — двойственная фигура, потому что в нем, в этом очерствелом палаче, скрыта любовь к людям, только это любовь ложная — она хочет навязать людям счастье насильно. "Железной рукой загоним человечество в счастье!" — был такой лозунг в 20-е—30-е годы в нашей стране. Вот этот лозунг он хотел осуществить".
Между прочим, в эпоху Средневековья инквизиция по размаху репрессий не представляла собой чего-либо исключительного. Так, в той же Испании в 1540–1700 годах, согласно архивным данным, судами инквизиции было рассмотрено всего 44 674 дела, причем смертная казнь была применена менее чем в 2 процентах случаев, что дает менее 900 жертв. В то же время только жертв опричнины Ивана Грозного, продолжавшейся всего 7 лет, с 1565 по 1572 год, по разным оценкам, тоже основанным, кстати сказать, на архивных данных, было от 4 до 15 тысяч. Таким образом, в расчете на год, русские опричники убивали как минимум в 800 раз больше людей, чем испанские инквизиторы, вообще ухитрились за 7 лет загубить в 4,5 раза больше людей, чем священная инквизиция в Испании за 160 лет своего существования. И даже если добавить сюда жертв первых инквизиторов, в статистику не вошедших, соотношение вряд ли существенно изменится.
Поразительно, но Великий инквизитор, творящий расправу в Севилье XVI века, имеет своим прототипом отнюдь не исторического, вроде снискавшего недобрую славу доминиканца Торквамеды (1420–1498), первого "великого инквизитора", а вполне конкретных литературных прототипов. Один из них, главный, удивительным образом больше ста лет оставался совершенно в тени, хотя при этом, что называется, лежал на поверхности. Речь идет о поэме самого близкого друга Достоевского Аполлона Майкова "Приговор", снабженной подзаголовком "Легенда о Констанцском соборе". Там — Легенда о Великом инквизиторе, окрещенная поэмой, здесь — поэма, окрещенная "Легендой о Констанцском соборе".
Аполлон Майков действительно был самый близкий друг и единомышленник Достоевского. Н. фон Фохт вспоминал, как, покидая квартиру Достоевского (дело было во время работы над "Преступлением и наказанием"), он встретил Майкова: "Когда мы спускались по лестнице, нам навстречу попал высокий господин, с длинными волосами, в золотых очках и в фетровой шляпе с широкими полями. Ф. М. Достоевский весьма дружески с ним поздоровался и, обращаясь ко мне, произнес: "Представляю вам нашего знаменитого поэта Аполлона Николаевича Майкова!"
В своей поэме Майков пишет о приговоре, что католический собор вынес еретику Яну (Иогану) Гусу (1371–1415), популярному чешскому проповеднику начала XV века, которого в XVI веке рассматривали уже как предшественника протестантской Реформации.
Майков написал "Приговор" в 1860 году, за восемь лет до того, как у Достоевского зародился замысел романа "Атеизм", из которого впоследствии и развились "Братья Карамазовы" с Легендой о Великом инквизиторе. И впервые об этом замысле Достоевский сообщил именно Майкову, в письме от 11 октября 1868 года: "Здесь у меня на уме теперь огромный роман, название ему "Атеизм" (ради Бога, между нами), но прежде, чем приняться за который, мне нужно прочесть чуть не целую библиотеку атеистов, католиков и православных…"
Инквизитор в романе фактически — католик-атеист, олицетворение порочности притязаний папы на вселенскую власть и пагубности социалистических учений, обещающих людям материальное изобилие вне всякой связи с духовным здоровьем. 18 мая 1871 года Достоевский писал H. H. Страхову: "…Взгляните на Парижскую коммуну… В сущности, все тот же Руссо и мечта пересоздать вновь мир разумом и опытом (позитивизм). Они желают счастья человека и остаются при определении слова "счастье" Руссо, т. е. на фантазии, не оправданной даже опытом. Париж пожара есть чудовищность. "Не удалось, так погибай мир, ибо коммуна выше счастья мира и Франции". Но ведь им (да и многим) не кажется чудовищностью это бешенство, а, напротив, красотою. Итак эстетическая идея в новом человечестве помутилась. На Западе Христа потеряли (по вине католицизма), и оттого Запад падает, единственно оттого. Идеал переменился, и как это ясно!" В "Приговоре" же Достоевский нашел великолепный поэтический материал для иллюстрации своей концепции о сознательном отказе от свободы у западных католиков и социалистов.
В майской поэме "грозный сонм князей имперских", "кардиналы и прелаты", осудив Гуса, спорят, какой казни предать еретика. И тут их подстерегает неожиданный соблазн:
Дело в том, что в это время
Вдруг запел в кусту сирени
Соловей пред темным замком,
Вечер празднуя весенний;
Он запел — и каждый вспомнил
Соловья такого ж точно,
Кто в Неаполе, кто в Праге,
Кто над Рейном в час урочный…
…………………………………
Словом — всем пришли на память
Золотые сердца годы.
И — история не знает,
Сколько длилося молчанье,
И в каких странах витали
Души черного собранья…
Был в собраньи этом старец;
Из пустыни вызван папой
И почтен за строгость жизни.
Вспомнил он, как там, в пустыне,
Мир природы, птичек пенье
Укрепляли в сердце силу
Примиренья и прощенья;
И как шепот раздавался
По пустой огромной зале,
Так в душе его два слова:
"Жалко Гуса" прозвучали;
Машинально, безотчетно
Поднялся он — и, объятья
Всем присущим открывая,
Со слезами молвил: "Братья!"
Но, как будто перепуган
Звуком собственного слова,
Костылем ударил об пол
И упал на место снова;
"Пробудитесь! — возопил он,
Бледный, ужасом объятый: —
Дьявол, дьявол обошел нас!
Это глас его проклятый!..
Каюсь вам, отцы святые!
Льстивой песнью обаянный,
Позабыл я пребыванье
На молитве неустанной —
И вошел в меня нечистый! —
К вам простер мои объятья,
Из меня хотел воскрикнуть:
"Гус невинен". — Горе, братья!.."
Ужаснулося собранье,
Встало с мест своих, и хором
"Да воскреснет Бог" запело
Духовенство всем собором.
И, очистив дух от беса
Покаяньем и проклятьем,
Все упали на колени
Пред серебряным распятьем, —
И, восстав, Иоганна Гуса,
Церкви Божьей во спасенье,
В назиданье христианам,
Осудили на сожженье…
Так святая ревность к вере
Победила ковы ада!
От соборного проклятья
Дьявол вылетел из сада…
Здесь католические иерархи глас Божий, призыв к милосердию, подсознательно спровоцированный пением соловья — Божьей птицы, приняли за дьявольское наваждение. "Золотым дням свободы" они предпочли следование догмату, доброму порыву души — казнь того, чье единственное преступление заключалось в свободомыслии. Кардинал-пустынник из "Приговора" — это предтеча Великого инквизитора в "Братьях Карамазовых".
Майков наделил своего героя верой в свою избранность, в особую близость к Богу в силу многолетнего поста и молитвы в пустыне, благодаря "строгости жизни", верой в свое право карать еретиков смертью; Достоевский, наоборот, заставил Великого инквизитора отказаться от избранничества, от свободы, чуть было не обретенной в пустыне, ради обретения власти над массами — инквизиционными аутодафе и материальными соблазнами, хлебом вместо веры.
У Майкова жертвой инквизиции выступает реальная человеческая личность, предшественник протестантской Реформации, человек одного с участниками Констанцского собора западного мира, хотя и славянин (славянофил Майков славянство во многом противопоставлял католичеству, хотя западные славяне, как известно, католики). Гус здесь ни в коем случае не "заместитель" Христа, его судьба — лишь повод для Божьего призыва к милосердию, который старик кардинал и его товарищи смогли заглушить в своем сердце, представить дьявольскими кознями.
У Достоевского действие уже перенесено в эпоху Реформации, в Испанию, где ярче всего пылали костры инквизиции. Противником Великого инквизитора выступает уже сам Иисус Христос. И в финале сильнее всех, логически безупречных, казалось бы, аргументов старца становится единственный поцелуй его молчаливого пленника. Этот поцелуй побуждает Великого инквизитора отпустить Христа. Вся стройная система аргументов рушится от одного проявления любви и доброты, милосердие тут одерживает победу.
Следует подчеркнуть, что есть прямое свидетельство знакомства писателя с Приговором. 15/27 мая 1869 года из Флоренции Достоевский писал А. Н. Майкову: "…В этом ряде былин, в стихах (представляя себе эти былины, я представлял себе иногда Ваш "Констанцский собор") — воспроизвести, с любовью и с нашею мыслию, с самого начала с русским взглядом — всю русскую историю, отмечая в ней те точки и пункты, в которых она, временами и местами, как бы сосредоточивалась и выражалась вся вдруг, во всем своем целом. Таких всевыражающих пунктов найдется, во все тысячелетие, до десяти, даже чуть ли не больше. Ну вот схватить эти пункты и рассказать в былине, всем и каждому, но не как простую летопись, нет, а как сердечную поэму, даже без строгой передачи факта (но только с чрезвычайною ясностью), схватить главный пункт и так передать его, чтоб видно, с какой мыслию он вылился, с какой любовью и мукою эта мысль досталась. Но без эгоизма, без слов от себя, а наивно, как можно наивнее, только чтоб одна любовь к России била горячим ключом".
По мнению Г. П. Пономаревой, высказанному в статье "Провиденциальная идея у Достоевского", "упоминание писателем баллады, или былины, "Констанцский собор" ошибочно: судя по интересующей его идее, это "Клермонтский собор" (1853), заканчивающийся так:
… нам пришлось на долю
Свершить, что Запад начинал;
Что нас отныне Бог избрал
Творить его святую волю;
Что мы под знаменем креста
Не лицемерим, не торгуем,
И фарисейским поцелуем
Не лобызаем мы Христа…
И может быть, враги предвидят,
Что из России ледяной
Еще невиданное выйдет
Гигантов племя к ним грозой,
Гигантов — с ненасытной жаждой
Бессмертья, славы и добра.
Гигантов — как их мир однажды
Зрел в грозном образе Петра.
Еще в 1850-х годах, прочитав эту балладу, Достоевский писал А. Майкову: "Как хорошо окончание последней строки Вашего "Клермонтского собора". Да! разделяю с Вами идею, что Европу и назначение ее окончит Россия!"
Замечу, что в том же письме А. Н. Майкову Достоевский в последний раз упоминает об "Атеизме", из которого и развилась в конечном счете Легенда о Великом инквизиторе: "Писал я Вам или нет о том, что у меня есть одна литературная мысль (роман, притча об атеизме), пред которой вся моя прежняя литературная карьера — была только дрянь и введение и которой я всю мою жизнь будущую посвящаю? Ну так мне ведь нельзя писать ее здесь; никак; непременно надо быть в России. Без России не напишешь".
Поэтому нельзя исключить, что Достоевский отнюдь не оговорился, упомянув в данном письме о "Констанцском соборе". Вполне вероятно, что он уже тогда задумал образ кардинала-инквизитора, отталкиваясь от фигуры кардинала-пустыника в поэме Майкова.
Вот еще один важный литературный источник образа Великого инквизитора. В пьесе Фридриха Шиллера "Дон Карлос, Инфант испанский", которая, возможно, повлияла и на поэму Аполлона Майкова, "король Филипп призывает к себе Великого инквизитора. Его мучит мысль, что детоубийство является тяжким грехом, в то время как он решил избавиться от своего сына. Чтобы умиротворить свою совесть, старый монарх хочет заручиться в своем преступлении поддержкой церкви. Великий инквизитор говорит, что церковь способна простить сыноубийство и приводит аргумент: "Во имя справедливости извечной сын Божий был распят". Он готов принять на себя ответственность за смерть инфанта, только бы на троне не оказался поборник свободы. И король передает Дона Карлоса в руки Великого инквизитора. Здесь тот же мотив опасности свободы, которой противопоставлена справедливость, а ради последней можно распять и самого Христа. Великий инквизитор у Шиллера исповедует кредо: "Скорее за распад и гниение, чем за свободу".
С. Н. Булгаков писал в статье "Иван Карамазов как социальный тип": "Легенда о Великом инквизиторе" есть один из самых драгоценных перлов, созданных русской литературой. В этом причудливо гениальном создании соединено величие евангельского образа с вполне современным содержанием, выражены тревожные искания наших дней, подобно тому как величественный рассказ книги Иова, переложенный на язык понятий нового времени, уже послужил однажды рамкой для одного из самых великих созданий европейской литературы, дивного пролога к "Фаусту" в небе. "Легенда о Великом инквизиторе" представляет эпизодическую вставку в романе: хотя она и является важнейшим документом для характеристики души Ивана, но она может быть выделена и рассматриваться как самостоятельное произведение. Легенда представляет собой "безбрежную фантазию", философскую поэму молодого студента, в свою жизнь не написавшего двух стихов. Это, если позволите смелое сравнение, религиозная картина Васнецова, сознательно пренебрегающая реализмом материи ради реализма идеи. Она сводит вторично Христа на землю, в самый разгар религиозных насилий и инквизиции, в самой фанатизированной и темной стране — в Испании. Чудными чертами описано появление Христа: "Он появился тихо, незаметно, и вот все — странно это — узнают Его. Это могло бы быть — прибавляет Иван — одним из лучших мест поэмы, т. е., почему именно узнают Его. Народ непобедимой силой стремится к Нему, окружает Его, нарастает кругом Него, следует за Ним. Он молча проходит среди них с тихой улыбкой бесконечного сострадания. Солнце любви горит в Его сердце, лучи Света, Просвещения и Силы текут из очей Его и, изливаясь на людей, сотрясают их сердца ответной любовью". Это чисто русская манера художественного трактования образа Христа…"
Легенда о Великом инквизиторе впоследствии заняла в российском общественном сознании огромное место, далеко превышающее даже ее литературное или философское значение. Сама наша жизнь стала восприниматься как воплощение этой легенды. причем лишь в ее негативной, отрицающей части.
В статье "Великий инквизитор" НА Бердяев на стаивал: "Дух Великого инквизитора жил и в католичестве, и вообще в старой исторической церкви, и в русском самодержавии, и во всяком насильственном, абсолютном государстве, и ныне переносится этот дух в позитивизм, социализм, претендующий заменить религию, строящий Вавилонскую башню. Где есть опека над людьми, кажущаяся забота о их счастье и довольстве, соединенная с презрением к людям, с неверием в их высшее происхождение и высшее предназначение, — там жив дух Великого инквизитора. Где счастье предпочитается свободе, где временное ставится выше вечности, где человеколюбие восстает против боголюбия, там — Великий инквизитор. Где утверждают, что истина не нужна для счастья людей, где можно хорошо устроиться, не ведая смысла жизни, там — он. Где соблазняется человечество тремя искушениями дьявола — превращением камней в хлеба, внешним чудом и авторитетом, царствами мира сего, там — Великий инквизитор. В разных, часто противоположных, образах скрывается этот дух Великого инквизитора, это образование в мире и воплощение в истории злого начала, коренного метафизического зла: оно равно проявляется и в старой церкви, отрицавшей свободу совести и сжигавшей еретиков, поставившей авторитет выше свободы, и в позитивизме — религии человеческого самообожествления, предавшей высшую свободу за довольство, и в стихии государственности, поклонившейся кесарю и мечу его, во всех формах государственного абсолютизма и обоготворения государства, отвергающего свободу человеческую и опекающего человека, как презренное животное, и в социализме, поскольку он отверг вечность и свободу во имя земного устроения, земной равной сытости человеческого стада…
И всегда, всегда в истории, когда в жизни человечества являлся Христос со словами нездешней свободы и напоминанием о вечном предназначении человека, когда дух Его сходил на людей, Он всегда встречался с людьми, владевшими жизнью, подобными словами. Великий инквизитор в образе католичества говорит; "Все передано Тобой папе, и все теперь у папы, а Ты хоть и не приходи теперь вовсе, не мешай до времени, по крайней мере". Государство отвечает, что все передано теперь его власти, и отвергает с озлоблением свободу во Христе. Исторические силы, вдохновляемые духом Великого инквизитора, "исправили подвиг" Христа, делали свое дело, прикрываясь Его именем. И люди нашего времени с отвращением и злобой относятся ко всякому напоминанию о высшей свободе человека и вечном его предназначении. Дух Христов равно невыносим и охранителям старого здания — древней государственности и церковности, и строителям нового здания — социально-позитивной вавилонской башни. Великий инквизитор, скрывающийся под этим зданием человеческим, с враждой, иногда скрытой, иногда открытой, восстает против свободы Христовой, Христова призыва к вечности. Люди хотят устроить землю без неба, человечество без Бога, жизнь без смысла ее, временность без вечности и не любят тех, которые напоминают им об окончательном предназначении человечества, о свободе абсолютной, о смысле и вечности. Люди этого духа мешают строителям здания человеческого благополучия и успокоения. Свободные, истинные слова не нужны, нужны слова полезные, помогающие устроить дела земные…
И восстали уже сторонники социальной религии и провозгласили, что Бога нет и что человечество на земле должно сделаться богом. О, конечно, в социализме есть и великая правда, так как велика ложь капиталистической и буржуазной общественности, я думаю даже, что в известном смысле нельзя не быть социалистом, это элементарная истина, и менее всего можно признать всякий социализм просто искушением дьявола; но в атмосфере социализма не ней трального и не подчиненного религии, а претендующего быть религией рождается это искушение и ведет не к нейтральному добру, а к конечному злу. Великий инквизитор говорит демагогически, прикидывается демократом, другом слабых и угнетенных, любящим всех людей. Он упрекает Христа в аристократизме, в желании спасти лишь избранных, немногих, сильных. "Или Тебе дороги лишь десятки тысяч великих и сильных, а остальные миллионы, многочисленные-, как песок морской, слабых, но любящих Тебя, должны лишь послужить материалом для великих и сильных? Нет, нам дороги и слабые". Это очень важное место. Великий инквизитор так презирает людей, так не верит в высшую природу человека, что лишь немногих считает способными пойти по пути высшего смысла жизни, завоевать вечность, не соблазниться хлебом земным, полюбив превыше всего хлеб небесный. Так презирает людей религия человеческого, так презирает людей социальная религия, желающая хлебом земным заглушить тоску по хлебу небесному. Пусть не поднимается никто на слишком высокие горы, учит ложный демократизм, пусть лучше все превратится в плоскую равнину, все уравняется в земной посредственности. Дух Великого инквизитора подвергает сомнению право подниматься на высокие горы, возрастать, и во имя ложной, земной, а не небесной любви, во имя сострадания к людям призывает делиться своей бедностью с братьями своими, бедностью, а не богатством. Духовное богатство воспрещается. Запрещают думать о вечности, называют это эгоизмом, восхваляют лишь заботу о временном. Будьте все малы, бедны, всегда отказывайтесь от своей свободы, тогда получите хлеб земной, тогда успокоитесь, тогда будет всем благо. Так учили старые, консервативные Великие инквизиторы, так учат и новые, прогрессивные. И человечество соблазняется, передает скорее дар свободы тем, кто успокаивает его совесть и насыщает его. "И тогда уже мы и достроим их башню". Кто эти "мы"?
О, конечно, это еще не ученики социальной религии, человеческие существа, хотя и обоготворяющие себя, но слабосильные. Великая тайна, разгаданная Достоевским, выболтанная Великим инквизитором, в том заключается, что путь самообоготворения человеческого, путь замены хлеба небесного хлебом земным, окончательного отпадения от Бога должен привести не к тому, что все сделаются богами и титанами, а к тому, что люди опять поклонятся новому божеству, одному обоготворенному человеку, одному царю. Великий инквизитор — это символ того духа, который окончательно воплотится не в массе человечества, а в новом боге, новом царе земном. Это тот несчастный, который сделает счастливыми миллионы младенцев, отняв у них свободу. "Они будут дивиться на нас и будут считать нас за богов, за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу, которой они испугались, и над ними господствовать". Эти "мы" в последнем пределе мистической диалектики превращаются в "я", в единого, в котором окончательно воплотится антихристский дух Великого инквизитора. Вот к чему приведет эта попытка спасти всех вне Бога и против Бога, устроить землю вне неба и против неба, утвердить человеколюбие против боголюбия, утвердить демократию против высшего призвания человечества и прав его на вечность, осчастливить людей, лишив их свободы. Позитивизм идет по этому пути в теоретическом сознании, марксистский социализм — в практическом действии. И позитивизм и марксизм в существе своем одинаково враждебны свободе совести, не любят проблематического, хотели бы принудить людей к полезному и в сознании и в жизни создать насильственное благополучие. В прошлом шло по этому пути государство, обоготворившее себя, церковь, подменившая свободу авторитетом. Насилие, ненависть к свободе — вот сущность духа Великого инквизитора. Проповедь любви ко всем людям, снисхождение к слабости людской — вот соблазн Великого инквизитора. Мы же останемся с истиной Христа: истинная любовь к людям возможна лишь в Боге, лишь во имя Отца Небесного, и потому связана она с признанием высшей природы человека и высшего призвания его, с уважением к личности и ее бесконечным правам. Для Великого инквизитора существует лишь человеческое стадо, слабость которого эксплуатируется в дьявольских целях. Для нас существует личность человеческая, свободная в своей сущности, и соборность, собирание человеческих личностей в Богочеловечестве".
Достоевский отождествляет Запад с католицизмом и социализмом, стремясь заклеймить оба эти учения в Легенде о Великом инквизиторе. Россия для писателя была особым, сокровенным миром, который в равной степени грозили погубить и католики, и социалисты. И не случайно в Легенде именно папство призвано воплотить социалистический идеал — накормить голодных, уравнять людей в сытости. Достоевский считал, что социалистическое учение произрастает из католического вероисповедания, подменяющего заповеди Христа авторитетом пап, духовную свободу — заботой о материальном благосостоянии, властью не только над душами людей, но и над их телами (отсюда стремление к светской власти). Причем западный социализм, как опасался писатель, может найти в России благодатную почву. Несколько десятилетий спустя Легенда о Великом инквизиторе стала восприниматься как гениальное и страшное предсказание того, что случилось в 1917 году.
К теме Великого инквизитора НА Бердяев вернулся в "Духах русской революции". Там философ признавал: "Рассказанная русским атеистом Иваном Карамазовым "Легенда о Великом инквизиторе", по силе и глубине своей сравнимая лишь со священными письменами, раскрывает внутреннюю диалектику антихристовых соблазнов. То, что Достоевский давал антихристовым соблазнам католическое обличье, несущественно и должно быть отнесено к его недостаткам и слабостям. Дух Великого инквизитора может являться и действовать в разных обличиях и формах, он в высшей степени способен к перевоплощению. И Достоевский отлично понимал, что в революционном социализме действует дух Великого инквизитора. Революционный социализм не есть экономическое и политическое учение, не есть система социальных реформ, — он претендует быть религией, он есть вера, противоположная вере христианской.
Религия социализма вслед за Великим инквизитором принимает все три искушения, отвергнутые Христом в пустыне во имя свободы человеческого духа. Религия социализма принимает соблазн превращения камней в хлеб, соблазн социального чуда, соблазн царства этого мира. Религия социализма не есть религия свободных сынов Божьих, она отрекается от первородства человека, она есть религия рабов необходимости, детей праха. Религия социализма говорит словами Великого инквизитора: "Все будут счастливы, все миллионы людей". "Мы заставим их работать, но в свободные от труда часы мы устроим их жизнь, как детскую игру, с детскими песнями, хором, с невинными плясками. Мы разрешим им и грех, они слабы и бессильны". "Мы дадим им счастье слабосильных существ, какими они и созданы". Религия социализма говорит религии Христа: "Ты гордишься твоими избранниками, но у Тебя лишь избранники, а мы успокоим всех… У нас все будут счастливы… Мы убедим их, что они тогда только и станут свободными, когда откажутся от свободы своей". Религия социализма, подобно Великому инквизитору, упрекает религию Христа в недостаточной любви к людям. Во имя любви к людям и сострадания к людям, во имя счастья и блаженства людей на земле эта религия отвергает свободную, Богоподобную природу человека. Религия хлеба небесного — аристократическая религия, это — религия избранных, религия "десятка тысяч великих и сильных". Религия же "остальных миллионов, многочисленных, как песок морской, слабых" — есть религия хлеба земного. Эта религия написала на знамени своем: "накорми, тогда 9 и спрашивай с них добродетели". Достоевский гениально прозревал духовные основы социалистического муравейника. Он религиозно познал, что социалистический коллективизм есть лжесоборность, лжецерковь, которая несет с собой смерть человеческой личности, образу и подобию Божьему в человеке, конец свободе человеческого духа. Самые сильные и огненные слова были сказаны против религии социализма Достоевским. И он же почувствовал, что для русских социализм есть религия, а не политика, не социальное реформирование и строительство. Что диалектика Великого инквизитора может быть применена к религии социализма и применялась самим Достоевским, видно из того, что многие революционеры у него повторяют ход мыслей Великого инквизитора. То же самое говорит и Петр Верховенский, и на том же базисе построена шигалевщина. Эти мысли были еще у героя "Записок из подполья", когда он говорил "о джентльмене с насмешливой и ретроградной физиономией", который ниспровергнет все грядущее социальное благополучие, весь благоустроенный муравейник будущего. И герой "Записок из подполья" противополагает этому социалистическому муравейнику свободу человеческого духа. Достоевский — религиозный враг социализма, он изобличитель религиозной лжи и религиозной опасности социализма. Он один из первых почувствовал в социализме дух антихриста. Он понял, что в социализме антихристов дух прельщает человека обличьем добра и человеколюбия. И он же понял, что русский человек легче, чем человек западный, идет за этим соблазном, прельщается двоящимся образом антихриста по апокалиптичности своей природы. Вражда Достоевского к социализму менее всего означает, что он был сторонником и защитником какого-либо "буржуазного" строя. Он даже исповедовал своеобразный православный социализм. Но дух этого православного социализма ничего общего не имеет с духом революционного социализма, он во всем ему противоположен. Как почвенник и своеобразный славянофил, Достоевский видел в русском народе противоядие против соблазнов революционного, атеистического социализма. Он исповедовал религиозное народничество. Я думаю, что вся эта религиозно-народническая, почвенно-славянофильская идеология Достоевского была его слабой, а не сильной стороной и находилась в противоречии с его гениальными прозрениями, как художника и метафизика. Сейчас можно даже прямо сказать, что Достоевский ошибся, что в русском народе не оказалось противоядия против антихристовых соблазнов той религии социализма, которую понесла ему интеллигенция. Русская революция окончательно сокрушила все иллюзии религиозного народничества, как и всякого народничества. Но иллюзии самого Достоевского не помешали ему раскрыть духовную природу русской религии социализма и предсказать последствия, к которым она приведет. В "Братьях Карамазовых" дана внутренняя диалектика, метафизика русской революции. В "Бесах" дан образ осуществления этой диалектики".
Чем же должны были завершиться "Братья Карамазовы", какая судьба ждала героев в так и не написанном из-за внезапной смерти писателя втором томе? Однозначный ответ на этот вопрос мог дать, разумеется, только сам Федор Михайлович. О предполагаемом содержании не осуществленного автором второго тома "Братьев Карамазовых" до нас дошли только краткие разрозненные свидетельства, порой противоречащие друг другу.
В 1916 году вдова писателя А. Г. Достоевская сообщила критику А. А. Измайлову: "Смерть унесла его (Достоевского. — Б. С.) действительно полного замыслов. Он мечтал 1881 год всецело отдать "Дневнику", а в 1882 засесть за продолжение "Карамазовых". Над последней страницей первых томов должны были пронестись двадцать лет. Действие переносилось в восьмидесятые годы. Алеша уже являлся не юношей, а зрелым человеком, пережившим сложную душевную драму с Лизой Хохлаковой, Митя возвращался с каторги".
Об этом же Анна Григорьевна писала в своих "Воспоминаниях": "Издавать "Дневник писателя" Федор Михайлович предполагал в течение двух лет (1881–1882. — Ред.), а затем мечтал написать вторую часть "Братьев Карамазовых", где появились бы почти все прежние герои, но уже через двадцать лет, почти в современную эпоху, когда они успели бы многое сделать и многое испытать в своей жизни. Намеченный Федором Михайловичем план будущего романа, по его рассказам и заметкам, был необыкновенно интересен, и истинно жаль, что роману не суждено было осуществиться".
В своих воспоминаниях АГ. Достоевская оба раза допустила одну и ту же неточность: время, которое должно было, по замыслу писателя, протечь между действием первого и второго романа об Алексее Карамазове, она определила в двадцать лет, в то время как в предисловии "От автора" указано: "Первый роман произошел… тринадцать лет назад".
Вскоре после смерти Достоевского А. С. Суворин писал: "На продолжение своего "Дневника" он (Достоевский. — Ред.) смотрел отчасти как на средство… завязать узел борьбы по существенным вопросам русской жизни. Все это теперь кончено, кончен и замысел продолжать "Братьев Карамазовых". Алеша Карамазов должен был… явиться героем, из которого он хотел создать тип русского социалиста, не тот ходячий тип, который мы знаем и который вырос вполне на европейской почве".
Более подробно Суворин изложил замысел продолжения "Карамазовых" в своем дневнике. Он вспоминает здесь о встрече и беседе с писателем в день покушения Млодецкого на графа Лорис-Меликова 20 февраля 1880 г. Достоевский, еще не знавший в тот момент о покушении, но взволнованный другими террористическими актами народовольцев и процессами над ними, сказал тогда, что "напишет роман, где героем будет Алеша Карамазов. Он хотел его провести через монастырь и сделать революционером. Он совершил бы политическое преступление. Его бы казнили. Он искал бы правду и в этих поисках, естественно, стал бы революционером…"
А еще при жизни писателя появилась заметка в газете "Новороссийский телеграф" от 26 мая 1880 года, где следующим образом излагалось содержание предполагавшегося второго тома романа: "…Из кое-каких слухов о дальнейшем содержании романа, слухов, распространившихся в петербургских литературных кружках, я могу сказать… что Алексей делается со временем сельским учителем и под влиянием каких-то особых психических процессов, совершающихся в его душе, он доходит даже до идеи о цареубийстве…"
Подобная формулировка, "идея о цареубийстве", представляется гораздо более близкой к истинному замыслу Достоевского, чем утверждение Суворина, будто Алеша во втором томе романа должен был совершить "политическое преступление" и подвергнуться смертной казни. Очевидно, речь могла идти только о теракте, поскольку за иные политические ^преступления смертной казни не полагалось. Надо учитывать, что о таком варианте судьбы Алеши Карамазова Суворин вспоминал уже много лет спустя после беседы с Достоевским. Федор Михайлович, как известно, не дожил месяца до цареубийства, а Алексей Сергеевич, как известно, его пережил. Поэтому Суворин легко мог, вследствие аберрации памяти, превратить "идею цареубийства" в реальное участие Алеши в покушении на царя. И это при том, что Достоевский, естественно, не мог знать, что император Александр II всего через месяц после его, Достоевского, смерти будет убит террористами "Народной воли", во многом продолжившей дело нечаевской "Народной расправы".
Другие свидетельства о продолжении "Карамазовых" как будто не подтверждают предположение, что Алеша Карамазов должен был кончить жизнь на эшафоте. Так, педагог и писатель A. M. Сливицкий (1850–1913), присутствовавший в 1880 году на пушкинских торжествах в Москве, запомнил беседу Достоевского с молодежью: "Помолчав, он прибавил: "Напишу еще "Детей" и умру". Роман "Дети", по замыслу Достоевского, составил бы продолжение "Братьев Карамазовых". В нем должны были выступить главными героями дети предыдущего романа…"
А немецкая исследовательница Н. Гофман в 1898 г. записала со слов А. Г. Достоевской следующий вариант завершения "Карамазовых": "Алеша должен был — таков план писателя — по завещанию старца Зосимы идти в мир, принять на себя его страдание и его вину. Он женится на Лизе, потом покидает ее ради прекрасной грешницы Грушеньки, которая пробуждает в нем "карамазовщину". После бурного периода заблуждений, сомнений и отрицаний, оставшись одиноким, Алеша возвращается опять в монастырь. Он окружает себя детьми — им герой Достоевского посвящает всю свою жизнь: искренне любит и учит. руководит ими. Кому не придет здесь в голову связь с рассказом Мышкина о детях; кто не вспомнит маленького героя, все те восхитительные детские черты, которые открываются только любви".
Вариант финала с Алешей, посвящающим свою жизнь заботе о чужих детях, гораздо больше соответствует логике развития этого образа, чем вариант: Алешей-террористом, погибающим на виселице. Ведь этот герой, один из самых любимых у Достоевского, говорит мальчикам: "Будем, во-первых и прежде всего, добры, потом честны, а потом — не будем никогда забывать друг о друге. Это я опять-таки повторяю. Я слово вам даю от себя, господа, что я ни одного из вас не забуду; каждое лицо, которое на меня теперь, сейчас, смотрит, припомню, хоть бы и через тридцать лет". Неужели Достоевский собирался: делать из Алеши всего лишь еще одного "идейного убийцу" типа Раскольникова? Гораздо убедительнее звучит предположение, что роман, по замыслу Достоевского, должен был закончиться тем, что Алеша, пройдя искус подвига цареубийства, нашел в конце юнцов смысл жизни в заботе о "малых сих", особен-то учитывая любовь самого Достоевского к детям, его: лова о слезинке невинного ребенка как мериле прогресса. Очевидно, во втором томе Алеша должен был стать главным героем, тогда как в написанном первом томе главными героями остаются Иван и Дмитрий Карамазовы.
Подводя итоги творчества Достоевского, Н. А. Бердяев писал в "Мировоззрении Достоевского": "Достоевский исследует природу революционного социализма и его неотвратимые последствия в явлении шигалевщины. Тут торжествует то же начало, которое ютом развивает Великий инквизитор, но без романтической грусти последнего, без своеобразного величия его образа. Если в католичестве и раскрываются те же начала, что и в социализме, то в неизмеримо высшей форме, эстетически наиболее привлекательной. В революционной шигалевщине раскрывается плоское начало, бесконечная плоскость. Петр Верховенский так формулирует Ставрогину сущность шигалевщины: "Горы сровнять — хорошая мысль, не смешная. Не надо образования, довольно науки! И без науки хватит материалу на тысячу лет, но надо устроиться послушанию… Жажда образования есть уже жажда аристократическая. Чуть-чуть семейство или любовь, вот уже и желание собственности. Мы уморим желание: мы пустим пьянство, сплетни, доносы; мы пустим неслыханный разврат; мы всякого гения потушим в младенчестве. Все к одному знаменателю, полное равенство… Необходимо лишь необходимое — вот девиз земного шара отселе. Но нужна и судорога; об этом позаботимся мы, правители. У рабов должны быть правители. Полное послушание, полная безличность, но раз в тридцать лет Шигалев пускает и судорогу, и все вдруг начинают поедать друг друга, до известной черты, единственно, чтобы не было скучно. Скука есть ощущение аристократическое". "Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны… Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! Но это всеобщее принудительное уравнение, это торжество смертоносного закона энтропии (нарастания и равномерного распределения тепла во вселенной), перенесенного в социальную сферу, не означает торжества демократии. Никаких демократических свобод не будет. Демократия никогда не торжествовала в революциях. На почве этого всеобщего принудительного уравнения и обезличивания править будет тираническое меньшинство"… "Выходя из безграничной свободы, — говорит Шигалев, — я заключаю безграничным деспотизмом. Прибавляю, однако же, что, кроме моего разрешения общественной формулы, не может быть никакого". Тут чувствуется фанатическая одержимость ложной идеей, которая ведет к существенному перерождению человеческой личности, к утере человеческого облика. Достоевский исследует, как безбрежная социальная мечтательность русских революционеров, русских мальчиков ведет к истреблению бытия со всеми его богатствами, доводит до пределов небытия. Это — очень у него глубоко обосновано. Социальная мечтательность — совсем не невинная вещь. Ей необходимо противопоставить трезвость, суровую ответственность. Эта революционная мечтательность есть болезнь русской души. Достоевский вскрыл ее и поставил ей диагноз и прогноз. Те, которые в своем человеческом своеволии и человеческом самоутверждении претендовали жалеть и любить человека более, чем его жалеет и любит Бог, которые отвергли Божий мир, возвратили билет свой Богу и хотели сами создать лучший мир, без страданий и зла, с роковой неизбежностью приходят к царству шигалевщины. Только в этом направлении могут они исправить дело Божье. Старец Зосима говорит: "Воистину у них мечтательной фантазии более, чем у нас. Мыслят устроиться справедливо, но, отвергнув Христа, кончат тем, что зальют мир кровью, ибо кровь зовет кровь, а извлекший меч погибнет мечом. Если бы не обетование Христово, то так и истребили бы друг друга, даже до последних двух человек на земле". Изумительные по своей пророческой силе слова.
Достоевский открыл, что бесчестие и сентиментальность — основы русского революционного социализма. "Социализм у нас распространяется преимущественно из сентиментальности". Но сентиментальность есть ложная чувствительность и ложное сострадание. И она нередко кончается жестокостью. Петр Верховенский говорит Ставрогину: "В сущности наше учение есть отрицание чести, и откровенным правом на бесчестье всего легче русского человека за собою увлечь можно". Ставрогин отвечает ему: "Право на бесчестие — да это все к нам прибегут, ни одного там не останется!" П. Верховенский открывает также значение для дела революции Федьки Каторжника и "чистых мошенников". "Ну, эти, пожалуй, хороший народ, иной раз выгодны очень, но на них много времени идет, неусыпный надзор требуется". Размышляя далее о факторах революции, П. Верховенский говорит: "Самая главная сила — цемент, все связывающий, это стыд собственного мнения. Вот это так сила. И кто это работал, кто этот "миленький" трудился, что ни одной-то собственной идеи не осталось ни у кого в голове. За стыд почитают". Эти психические факторы революции говорят о том, что в самых ее первоисточниках и первоосновах отрицается человеческая личность, ее качественность, ее ответственность, ее безусловное значение. Революционная мораль не знает личности как основы всех нравственных оценок и суждений. Это — безличная мораль. Она отрицает нравственное значение личности, нравственную ценность качеств личности, отрицает нравственную автономию. Она допускает обращение со всякой человеческой личностью как с простым средством, простым материалом, допускает применение каких угодно средств для торжества дела революции. Поэтому революционная мораль есть отрицание морали. Революция — аморальна по своей природе, она становится по ту сторону добра и зла. И слишком походит на нее внешняя контрреволюция. Во имя достоинства человеческой личности и ее нравственной ценности Достоевский восстает против революции и революционной морали. В революционной стихии личность никогда не бывает нравственно активной, никогда не бывает нравственно вменяемой. Революция есть одержимость, беснование. Эта одержимость, это беснование поражает личность, парализует ее свободу, ее нравственную ответственность, ведет к утере личности, к подчинению ее безличной и нечеловеческой стихии. Деятели революции сами не знают, какие духи ими владеют. Их активность кажущаяся, они в сущности пассивны, дух их во власти бесов, которых они допустили внутрь себя. Эту мысль о пассивном характере деятелей революции, об их медиумичности раскрыл по поводу Французской революции Жозеф де Местр в своей гениальной книге "Considerations sur la France". В революции теряется человеческий образ. Человек лишен своей свободы, человек — раб стихийных духов. Человек бунтует, но он не автономен. Он подвластен чуждому господину, человеческому и безличному. В этом тайна революций. Этим объясняется их бесчеловечие. Человек, который владел бы своей духовной свободой, своей индивидуально-качественной творческой силой, не мог бы находиться во власти революционной стихии. Отсюда — бесчестье, отсутствие собственного мнения, деспотизм одних и рабство других. По характеру своего миросозерцания Достоевский противопоставляет революции личное начало, качественность и безусловную ценность личности. Он изобличает антихристову ложь безликого и бесчеловеческого коллективизма, лжесоборность религии социализма.
Но в революции торжествует не только шигалевщина, но и смердяковщина. Иван Карамазов и Смердяков — два явления русского нигилизма, две формы русского бунта, две стороны одной и той же сущности. Иван Карамазов — возвышенное, философское явление нигилистического бунта; Смердяков — низкое, лакейское его явление. Иван Карамазов на вершинах умственной жизни делает то же, что Смердяков делает в низинах жизни. Смердяков будет осуществлять атеистическую диалектику Ивана Карамазова. Смердяков — внутренняя кара Ивана. Во всякой массе человеческой, в массе народной больше Смердяковых, чем Иванов. И в революциях, как движениях массовых, количественных, более Смердяковых, чем Иванов. Это Смердяков делает на практике вывод, что все дозволено. Иван совершает грех в духе, в мысли, Смердяков совершает его на деле, воплотив идею Ивана в жизнь. Иван совершает отцеубийство в мысли, Смердяков совершает отцеубийство физически, на самом деле. Атеистическая революция неизбежно совершает отцеубийство, она отрицает отчество, порывает связь сына с отцом. И она оправдывает это преступление тем, что отец был грешный и дурной человек Такое убийственное отношение сына к отцу есть смердяковщина. Совершив на деле то, что Иван совершил в мыслях, что он в духе разрешил, Смердяков спрашивает Ивана: "Вы вот сами тогда все говорили, что все позволено, а теперь-то почему так встревожены сами-то-с?" Смердяковы революции, осуществив на деле принцип Ивана "все дозволено", имеют основание спросить Иванов революции: "Теперь-то почему так встревожены сами-то-с?" Смердяков возненавидел Ивана, обучившего его атеизму и нигилизму. Во взаимоотношениях Смердякова и Ивана как бы символизируется отношение между "народом" и "интеллигенцией" в революции. Это раскрылось в трагедии русской революции, и подтвердилась глубина прозрения Достоевского. Смердяковское начало, низшая сторона Ивана, должно побеждать в революциях. Подымется лакей Смердяков и на деле заявит, что "все дозволено". В час смертельной опасности для нашей родины он скажет: "Я всю Россию ненавижу". Революция отрицает не только личность, но также и связь с прошлым, с отцами, она исповедует религию убийства, а не воскресения. Убийство Шатова — закономерный результат революции. И потому Достоевский — противник революции".
Достоевский действительно предупреждал соотечественников об опасности революции и художественно очень убедительно изобразил типы революционеров в "Бесах" и методы их борьбы под лозунгом: "Бога нет — и все дозволено". Революции социальной Федор Михайлович хотел противопоставить революцию духовную. Он верил, что искреннее обращение к Богу может духовно воскресить даже "идейного убийцу", вроде Раскольникова, "беса" Ставрогина и атеиста Ивана Карамазова, а уж тем более его брата Митю, который повинен только в беспутном образе жизни, но который искупает это смиренно перенесенным страданием за чухой грех. Достоевский вывел нам "положительно прекрасных людей" — князя Мышкина и Алешу Карамазова, которые, хотя и подвержены страстям и душевным борениям, находят истину во Христе и не уклоняются от нее. Показал нам Достоевский и пагубность следования "принципу удовольствия", разлагающему души людей. Сам писатель в жизни испытывал все те же мучительные противоречия, а порой и раздвоенность, что и его герои, но все равно нашел в себе силы создать шедевры, возвеличивающие человека даже в его грехах, ибо для самого великого грешника Достоевский всегда оставляет возможность искупления и спасения.
Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений в 30 тт. — Л.: Наука, 1972–1990.
Бердяев Н. А. Миросозерцание Достоевского — М.: Захаров, 2001.
Булгаков С. Н. Тихие думы. — М.: Республика, 1996.
Галинская Л. Д. Человек в романе Ф. М. Достоевского "Братья Карамазовы" // София: Рукописный журнал Общества ревнителей русской философии. Вып. 6, 2003.
Громова Н. А. Достоевский. Документы, дневники, письма, мемуары, отзывы литературных критиков и философов. — М.: Аграф, 2000.
Гроссман Л. П. Жизнь и труды Ф. М. Достоевского: Биография в датах и документах. — М., Л., 1935.
Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. Материалы, библиография и комментарии. — М.; Пг., 1922.
Две любви Ф. М. Достоевского / Вступ. ст., подгот. текста и прим. С. В. Белова. — СПб.: Андреев и сыновья, 1992.
Долинин А. С. Достоевский и другие: Статьи и исследования о русской классической литературе. — Л.: Худ. лит., 1989.
Достоевский в конце XX века / Общество Достоевского; Составитель и редактор Карен Степанян. — М.: Классика плюс, 1996.
Достоевская А. Г. Воспоминания / Вступ. ст., подгот. текста и прим. С. В. Белова и В А Туниманова. — М.: Правда, 1987.
Достоевская А. Г. Дневник 1867 года / Вступ. ст., подгот. текста и прим. С. В. Белова. — СПб.: Андреев и сыновья, 1993.
Достоевская Л. Ф. Достоевский в изображении своей дочери / Вступ. ст., подгот. текста и прим. С. В. Белова / Пер. с нем. — Первое полное русское издание. — СПб.: Андреев / и сыновья, 1992.
Ермаков И. Д. Психоанализ литературы. Пушкин. Гоголь. Достоевский. — М.: Новое литературное обозрение, 1999.
Иванов Вяч. И. Лик и личины России. Эстетика и литературная критика. — М.: Искусство, 1995.
Карякин Ю. Ф. Достоевский и канун XXI века. — М.: Сов. писатель, 1989.
Кирпотин В. Я. Ровесник железного века. — М.: Захаров, 2006.
Лaym P. Философия Достоевского в систематическом изложении / Пер. с нем. — М.: Республика, 1996.
Мережковский Д. С. Л. Толстой и Достоевский / Изд. подгот. ЕА Андрущенко. — М.: Наука, 2000.
Набоков В. В. Лекции по русской литературе / Пер. с англ. — М.: Независимая газета, 1996.
Наседкин Н. Н. Достоевский. Энциклопедия. — М.: Алгоритм, 2003.
Новые аспекты в изучении Достоевского: Сборник научных трудов. — Петрозаводск: Издательство Петрозаводского университета, 1994.
Розанов В. В. Собрание сочинений. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. Литературные очерки. О писательстве и писателях. — М.: Республика, 1996.
Русские эмигранты о Достоевском / Вступ. ст., подгот. текста и прим. С. В. Белова. — СПб.: Андреев и сыновья, 1994.
СараскинаЛ. И. Возлюбленная Достоевского. Аполлинария Суслова: биография в документах, письмах, материалах. — М.: Согласие, 1994.
Свинцов В. П. Вера и неверие: Достоевский, Толстой, Чехов и другие // Вопросы литературы, 1998, № 5.
Свинцов В. П. Достоевский и "отношения между полами" // Новый мир, 1999, № 5.
Свинцов В. П. Достоевский и ставрогинский грех. // Вопросы литературы, 1995, вып. 2.
Соколов Б. В. Маркиз де Сад и Достоевский // Континент, 1997, № 90.
Соколов Б. В. Россия и Запад: в тени Великого инквизитора // Грани, 1997, № 184.
Соловьев B. C. Сочинения в двух томах. — М., Мысль, 1988.
Соловьев Е. Ф. Достоевский, его жизнь и литературная деятельность. — СПб, 1912.
Соловьев С.М. Изобразительные средства в творчестве Ф. М. Достоевского: Очерки. — М.: Сов. писатель, 1979.
Спор о Бакунине и Достоевском. Статьи Л. П. Гроссмана и Вяч. Полонского. — Л.: ГИЗ, 1926.
Степун Ф.А. Встречи. — М.: Аграф, 1998.
Суслова А. П. Годы близости с Достоевским: Дневник — повесть — письма. — Репринт, изд. — М.: РУССЛИТ, 1991.
Тынянов Ю. Н. Поэтика. История литературы. Кино. — М.: Наука, 1977.
Ф. М. Достоевский, А. Т. Достоевская. Переписка / Изд. подгот. С. В. Белов й ВАТуниманов. — М.: Наука, 1979.
Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников. В 2 т. / Вступ. ст., сост. и комм. К. Тюнькина. — М.: Худож. лит., 1990.
Юрман Н. А. Болезнь Достоевского // Клинический архив гениальности и одаренности. Вып. 1. Т. 4. Свердловск, 1928.